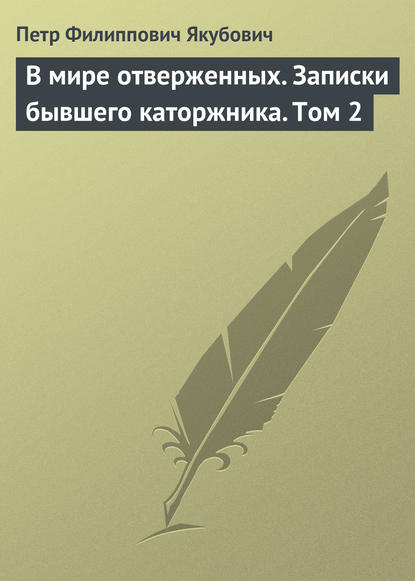По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из других "характерных черт" прирожденного преступника г. Ковалевский отмечает его ненависть "ко всему остальному, роду человеческому", не указывая, однако, на чем основано подобное обвинение. По-видимому, на только что процитированной перед тем биографии моего Семенова. Действительно, это – ультра-, озлобленный человек, "закоренелый злодей", как выражается ученый профессор. Но, не говоря уж о том, что судить по одному экземпляру обо всех тысячах каторжных несправедливо и недостойно ученых людей, следует быть справедливым и относительно самого Семенова. Отбросьте в его речах гордый, явно преувеличенный пафос злобы (мало ли что в злобе говорится!) – и нам станет ясно, что отнюдь не весь род человеческий ненавидит Семенов, а только известную часть его, именно – богатых и сытых. А это, я полагаю, огромная разница! Что касается остальных обитателей мира отверженных (фигур, в большинстве, несомненно, более мелких и вместе с тем более близких к нормальному человеческому типу), то я сошлюсь хотя бы на главу "Демоны зла и разрушения" (т. I), где изображаются разговоры "на широкие общественные темы". Оказывается, что у этих "мечтателей" никогда не являлось и тени сомнения в том, что "народ" и они, обитатели каторги, – совершенно одно и то же… И какие строят они наивные планы достижения общего счастья – правда, дикие, ужасные, кошмарно-кровавые, но все-таки проникнутые – надо же в этом сознаться – любовью, а никак не огульной "ненавистью ко всему, человеческому роду".
"Непреступное общество являлось для них для всех смертельным врагом, которого они ненавидели и (которому?) всеми способами делали зло (это – сидя в тюрьме-то?). Месть, жестокая месть грозила всем врагам каторжной когорты, и эту месть многие ставили главным предметом своей свободы и своего выхода из острога". Обобщение совершенно фантастического характера… Ни Достоевский, ни кто другой из бытописателей тюрьмы и каторги нигде не говорят о том, чтобы какой-либо арестант ставил главным предметом своей свободы и выхода из острога – "месть всем врагам каторжной когорты". Для меня по крайней мере, немало писавшего о мстительности русских арестантов по отношению к личным врагам, подобное утверждение является положительной новостью, в неосновательности которой я, впрочем, нисколько не сомневаюсь.
Что касается другого обвинения "прирожденного преступника" – в том, что будто бы в "основе его существа" лежит лень и отвращение к работе, особенно если это работа принудительная, то является невольный вопрос: неужели же вполне нормальный человек относится к принудительному труду с радостью, с восторгом, с вдохновением?..
Наконец, ученый вывод еще более удивительный – отношение прирожденного преступника к грамоте. "Очень многие из преступников грамотны, – говорит бывший профессор, – но эта грамотность была приобретена ими не как выражение пытливости и любознательности ума, а как средство покрытия и пособия преступности". Спрашивается – откуда сие?.. Естественно, вспоминаешь прежде всего свои слова, свои рассказы. "Миколаич, на что нам грамота, на что?" – в отчаянии из-за своей неспособности спрашивал иногда Никифор Буренков своего учителя.
"Я старался, отвечая на этот вопрос, выяснить пользу грамотности, говоря, что она делает человека умным, а следовательно, и честным; но, утверждая это, я и сам порой сомневался: на что она им, арестантам, вся эта грамота? Сколько раз имел я впоследствии случай убедиться, что многие из лучших моих учеников, научившиеся и читать и писать порядочно, по выходе в вольную команду очень скоро забывали и то и другое, и горькая досада шевелилась иногда в душе, досада на то, что столько потрачено даром и труда и времени. Не раз приходилось также слышать от самих арестантов, что грамотность даже вредна им, что мошенник сумеет с нею быть еще большим мошенником, а честный человек благодаря ей развратится, начав мечтать о легком труде писаря и получив отвращение к физическому труду. Я хорошо понимал, конечно, всю поверхностность и зловредность таких обобщений на основании отдельных, исключительных фактов, но, признаюсь, нередко овладевали мной сомнения всякого рода, и тогда я подолгу забрасывал свою школу… Однако проходило некоторое время – и я с любовью к ней возвращался. Среди всякого рода терний и шипов, которыми была усеяна моя "педагогическая" деятельность, среди горечи и отравы, которую она проливала в душу, было в ней все-таки что-то доброе, светлое, теплое, что озаряло и согревало не только меня, но, казалось, и всю камеру. Арестанты как-то невольно приучались с уважением относиться к бумаге и книжке, мысли их настраивались на высший тон и лад…" (т. I, гл. X).
Вот единственные соответствующие строки в моих очерках; но как же, однако, переиначена и прямо-таки извращена моя мысль! Или, быть может, г. Ковалевский пользовался здесь каким-либо другим источником? Но трудно, во всяком случае, допустить, чтобы, беспрестанно меня цитируя, относясь ко мне как к авторитету в некотором роде, он не прочитал или счел не стоящими внимания те главы "Мира отверженных", где я описываю "учеников"-арестантов и все безмерно искреннее увлечение их – сначала ученьем грамоте, а впоследствии и писательством (т. I, гл. VIII, X, XXIV; т. II, гл. XIII, XVI). По вопросу о том, как относятся арестанты к чтению книг, г. Ковалевский говорит: "Читать эти люди не любят (!), если же читают, то больше сочинения, гармонирующие и удовлетворяющие их низким животным побуждениям, их грязной фантазии и их сердечным склонностям. Этика и эстетика совершенно отсутствуют у них, некоторые из них пытаются даже писать сами, но эти произведения являются плодом подражания, применительно к их низменным идеалам и низшим животным страстям". Позволю себе напомнить, что писал по этому поводу я: "Эти вечера, проведенные за чтением вслух, составляют лучшую и благороднейшую часть моих воспоминаний о Шелайской тюрьме, и, несмотря на все частные разочарования, я до сих пор убежден в полной возможности гуманитарного влияния художественной беллетристики на обитателей каторги" (т. I). И в другом месте, по поводу собственных арестантских сочинений: "Между ними было одно общее сходство. Авторов занимал и мучил один и тот же вопрос – о причинах, толкнувших их на путь преступления и разврата, и все они одинаково скорбели о том, что не сумели или не могли жить честно в среде неиспорченных, хороших людей, и – что самое важное – от этой скорби, от этих дум веяло всегда несомненной, глубокой искренностью" (т. II).
Само собой разумеется, что мои мнения и рассказы, как и всякие другие, подлежат проверке и спору, но тот факт, что г. Ковалевский, так щедрый на цитаты из Мельшина в других случаях, обходит их молчанием, когда они идут вразрез с его теорией, довольно характерен. Он задался целью во что бы то ни стало доказать, что большинство наших каторжных – прирожденные преступники. Между тем от идеи о "прирожденном преступнике", мне кажется, один только шаг до идеи о "преступнике-звере". И этот шаг был сделан – и тоже представителем ученой корпорации, также, к моему огорчению, ссылавшимся на мои очерки…
"Некоторые категории преступников – настоящие звери, – утверждал председатель одного провинциального общества врачей, – и единственным средством их обуздания являются цепь и палка". Раз – звери, то удивительного в таком выводе, конечно, ничего нет…
Но тем энергичнее следует протестовать против таких сомнительно научных положений. Гг. ученые вообще имеют слабость забывать или, быть может, не желают помнить, что их теории окружает не безвоздушное пространство, что жизнь не только материал для их умозрительных построений: за теорией стоит живая человеческая личность, и всякий эксперимент над нею, основанный на ложной или только неправильно приложенной идее, покупается нередко ценой крови и слез…
1900
notes
Примечания
1
Буквально: смертельный прыжок (итал.)
2
Впрочем, впоследствии, когда материальное положение тюрьмы стало еще стесненнее, подобное соглашение между арестантами установилось само собой и камерные старосты начали делить нашу махорку только по числу куривших. (Прим. автора.)
3
В глубоких подземных выработках большинство арестантов считает зазорным свистать и петь. У нас в Шелае певали, случалось, и в шахтах, но глубина их не превышала пяти-восьми сажен. (Прим. автора.)
4
Новой – иной, (Прим. автора.)
5
Возможно, конечно, что это и две различных песни, по дело а том, что от лучших тюремных певцов, вроде Юхорева, я слышал их всегда слитными, без малейшего перерыва, и все они утверждали, что это одна песня. (Прим. автора.)
6
Облава. Другое значение "стрёмы" – тайное стояние на карауле. (Прим. автора.)
7
Дело в том, что каторжные II и III разрядов, осуждаемые сроком до двенадцати лет включительно в заводы и крепости и, за отсутствием последних, отправляемые обыкновенно в те же рудники (пребывание в которых считается по закону более тяжким наказанием), пользуются так называемой горной скидкой, по четыре месяца с каждого года. Каторжные I разряда этой скидки не имеют. (Прим. автора.)
8
Тюремный срок каторжных зависел от числа лет всего присужденного им срока. Так, для вечных он равняется одиннадцати годам; для осужденных на 16, 17, 18, 19 и 20 лет – семи годам; на 13, 14 и 15 – пяти годам; 10, 11 и 12 – трем с половиной и т. д. Каторжные, имевшие больше 12 лет всего срока, считались первым, или рудниковым, разрядом и не пользовались в обычное время никакими скидками, кроме двух месяцев с года за хорошее поведение. Каторга же малосрочных благодаря большой "горной" сбавке и в обычное время сокращалась почти наполовину. Таким образом, чем длиннее срок каторжного, тем положение его хуже во всех отношениях. (Прим. автора.)
9
Кстати сказать, я и до сих пор не в состоянии определить этот цвет. Мне указывали, что в первой части "Мира отверженных" встречаются такие противоречащие одно другому выражения, как "лиловый" и "кровавый" цвет багульника. Но я думаю, это вовсе не противоречие: обыкновенно лиловый, при известном освещении цвет, этот принимает кровавый оттенок. (Прим. автора.)
10
Положение обязывает (франц.).
11
Здесь, из французской поговорки ni foi, ni loi взяты в буквальном смысле два слова: foi – вера, loi – закон
12
В настоящее время, когда для моего Шелая (Акатуя) давно прошла уже пятнадцатилетняя давность, можно, я думаю, раскрыть "псевдоним" Ломова. Под этим именем я пытался изобразить трагически погибшего впоследствии в должности читинского полицеймейстера Сомова. Деятельность по полиции пришлась этому человеку как нельзя более по душе и характеру. Говорят, что своей ретивостью и исполнительностью он принес Чите значительную пользу, улучшив ее санитарное положение и сократив в городе число грабежей и разбоев; но, с другой стороны, огромная безапелляционная власть сибирского царька опьяняла его, разжигая в его душе природную сластолюбивую жестокость, любовь к издевательству над бесправными, беззащитными жертвами, попадавшими в его руки. Любимым занятием Сомова в Чите было сечение уголовных поселенцев, которое он практиковал по малейшему поводу, за всякую, самую ничтожную провинность… Но человеческое достоинство наконец, заговорило и в этих темных, отверженных душах – и вот, в один ненастный вечер осени 1899 года, Сомов был убит наповал выстрелом из ружья, сделанным в окно его комнаты в то время, когда он сидел в кругу семьи, освещенный лампой…
Подозрение властей тотчас же пало на некоторых поселенцев. Прибывший из Иркутска военный суд решил, что сразивший Сомова выстрел из винтовки был произведен Парфеновым, после чего выстрелил из револьвера еще некто Гришко; у дверей сторожил Таран с другим необнаруженным соучастником. Гудков снабдил злоумышленников лошадью и телегой; Долль способствовал сокрытию следов преступления. Главным подстрекателем к убийству являлся будто бы некий Яшагашвили. Из всех обвиняемых сознался один только Таран, который и оговорил остальных. На показаниях этого Тарана и было основано все обвинение, объективные улики были ничтожны. Для сибирского военного суда их, во всяком случае, оказалось достаточно, и три человека (Парфенов, Гришко и Яшагашвили) были повешены, остальные – пошли в каторгу… (Прим. автора.)
13
Скоком называется на воровском наречии кража, сделанная в каком-нибудь доме среди белого дня и в самое короткое время. (Прим. автора.)
14
Кражи на доброе утро совершаются летом, на рассвете, во время крепкого утреннего сна хозяев. Если последние все-таки проснутся от шороха, вор бросается наутек, не вступая с ними в борьбу. (Прим. автора.)
15
На ципы ходят в осенние и зимние темные ночи; тут нередко пускается в ход оружие. (Прим. автора.)
16
С богом, с божьей помощью (лат.).
17
Apoplexia – паралич, удар (греч.).
18
Все фамилии в этой книге – вымышленные или видоизмененные; Лаврентий Помякшев, кажется, единственное исключение, когда – не помню, по каким соображениям – я удержал настоящее имя. Много лет спустя я встретил это имя в книге г. Дорошевича[57 - Дорошевич В. М. (1864–1922). В 90-х годах был командирован газетой "Одесский листок" на остров Сахалин, для изучения положения каторжных. В этой газете печатались его сахалинские очерки, вышедшие затем отдельной книгой.] "Сахалин": очутившись в одной из сахалинских тюрем, Помякшев, оказывается, страдал уже подлинным, признанным администрацией, сумасшествием. (Прим. автора.)
19