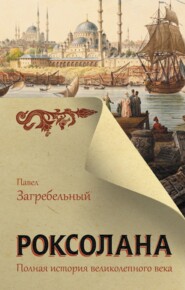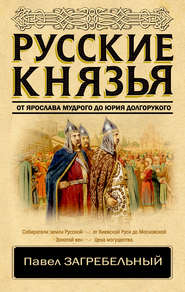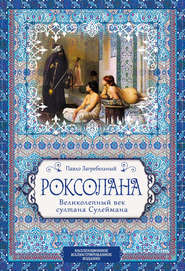По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Юрий Долгорукий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Владислав женился на Агнессе почти одновременно с женитьбой Петрока Власта на Марии. Новая княгиня происходила из вельможного немецкого рода Бабенбергов. Ее отцом был маркграф Австрии, матерью – дочь германского императора. Четыре предка Агнессы носили титул германского императора, а после смерти последнего из салийского дома Лотаря императором стал сводный брат Агнессы Конрад из рода Гогенштауфов. Таким образом, Агнешка имела за собой целые поколения людей чванливых, с презрением относившихся ко всему, что было ниже императоров и их родичей; она не привезла в Польшу такого большого приданого, какое привозили русские княжны, зато с избытком была наделена высокомерием и, собственно, прибыла на эту славянскую землю не столько для выполнения роли жены княжеской, сколько для того, чтобы самолично управлять землей и людом, к тому же управлять жестоко, твердо и лицемерно.
Когда после смерти Кривоустого его сын Владислав стал во главе Польской земли, для всех наступили особенно тяжкие времена.
Петра Властовича Агнешка до поры до времени не трогала: быть может, она и вовсе не хотела устранять этого вельможу, богатства которого были известны ей вельми хорошо, но не могла и отказать себе в удовольствии хотя бы чем-нибудь ощутимо донять этого человека, который при желании мог бы купить весь княжий двор вместе с нею, бабенбергской гордой княжной, но, к сожалению, не вельми богатой.
Агнешка завидовала Петроку еще и из-за его жены, которая была так же молода, как и княгиня, но намного красивее, славилась умом, сдержанностью, а главное же – целомудрием. В женское целомудрие Агнешка верить никак не могла, поэтому решила проследить жизнь Марии в сокровеннейших ее проявлениях и наконец через щедро подкупленных, а еще более запуганных прислужниц узнала о связи боярыни с лекарем.
На ловах, которые Петрок устроил для князя Владислава в своих Шленских лесах, князь словно бы невзначай, в шутку, бросил, что Петроку не следовало бы терять время на преследование зверей, потому что его жена, пользуясь длительным отсутствием своего немолодого уже мужа, изменяет ему с намного более молодым и здоровым приближенным лекарем.
Петрок, разъяренный, пораженный одной лишь мыслью о том, что слова князя могут быть правдой, воскликнул:
– Оставь мою жену в покое, потому что и твоя, когда тебя нет дома, наслаждается с немецким рыцарем!..
Дулеб тоже был на ловах, но у Петрока хватило выдержки, чтобы не учинять допроса лекарю, он лишь послал к нему отрока с велением, чтобы Дулеб не смел никуда отлучаться, а уже в Олбине, куда возвратились после охоты, поздно ночью пробралась к Дулебу тайком прислужница Марии и передала одно лишь слово от боярыни-княгини: «Исчезай!»
Дулеб, как это он часто делал, когда ехал к своему учителю Матвею, ставшему к тому времени уже епископом Кракова, сам оседлал коня и выехал в ночную безвесть.
Быть может, Петрок и снарядил бы за ним погоню, но уже не успел, потому что Агнешка, когда Владислав передал ей наглый ответ своего вельможи, не отстала от князя, пока тот не послал людей, которые в ту же ночь схватили Петрока в его доме и отвезли во Вроцлав, где бросили в тюрьму.
Но и этого было мало для мстительной Агнешки. Ее не удовлетворило решение Владислава отнять у Петрока все богатства и выгнать его из Польши, – она добилась, чтобы вельможу отдали в руки палача, который выколол Власту глаза, отрезал язык, и лишь тогда, слепого, с окровавленным языком, безмолвного, едва живого, изгнали с земли, для которой он так много сделал, хотя, по правде говоря, путем нечестным и преступным. Любимый сын Святослав сопровождал отца в его безнадежном путешествии, а идти они должны были в ту землю, где Петрок прославился самым бесчестным своим преступлением: в Галицкую землю, к Марииному брату, князю Владимиру.
Дулеб услышал обо всем этом значительно позднее, когда затерялся между людьми навсегда, вернуться не мог, как ни мучился душою, послал весточку Марии, в надежде, что она позовет его, быть может, не столько для продления их тайной связи, сколько для помощи искалеченному мужу, которого она не бросила в труднейшую минуту, однако ответа не получил. А сам возвращаться не решался. Что-то словно бы умерло в нем, ранило его сердце, он чувствовал себя теперь безнадежно состарившимся и подавленным, не верил, что сможет еще когда-нибудь выйти из этого состояния, старался восполнить ущербность души полнейшим самоотречением, неистово метался между тяжелобольными людьми, не брал почти никакой платы за помощь и вот в этих безнадежных, печальных своих странствиях натолкнулся сначала на Иваницу, потом стал приближенным лекарем у самого великого князя киевского Изяслава.
Жизнь представляет ценность лишь до тех пор, пока она целесообразна. Даже когда тайком целуешь чужую жену, то и тогда, получается, оправдываешь целесообразность своего существования на белом свете. Возможно, и за расследование в Киеве Дулеб взялся лишь из неосознанного стремления заполнить пустоту в душе, пустоту, образовавшуюся в ту ночь, когда он вынужден был бежать от Петрока, бежать от Марии, от своей жизни. Найдет ли он когда-нибудь полноту жизни?
Теперь Дулеб торопился к князю Изяславу, который по своему разбойничьему обыкновению жег где-то города и села в верховьях Остра и Борзны. Пробиваясь с Иваницей сквозь дождь и разливы рек, Дулеб не разрешал себе малейшей передышки, будто надеялся, что князь Изяслав, услышав об успокоительных результатах их расследования в Киеве, единственным словом снимет с Дулеба бремя последних двух лет.
Настало время повести речь про Изяслава.
В этом человеке была собрана кровь отовсюду. Известно, что у его деда Мономаха матерью была византийская принцесса, отец Мстислав происходил от дочери английского короля, мать самого Изяслава была шведкой; и вот у этого человека, по своему роду, и происхождению, и значению – русского князя, чужая кровь бурлила так неудержимо и мощно, что с момента своего рождения он не знал покоя, отличался непоседливостью, дерзостью, легко поддавался взрывам гнева, еще легче склонялся к уговорам учинить какую-нибудь несправедливость, захватить где-нибудь город или целую волость, кого-нибудь ограбить или изгнать.
Высокого роста, с шелковистыми, как у викингов, русыми густыми волосами, белотелый и белозубый, он был вельми видным, но все портили золотушные красные глаза, которые никогда не заживали, всегда болели, отпугивая от князя людей, наполняя сердца отвращением. Когда-то ворожка посоветовала князю как можно чаще смотреть на огонь, обещая исцеление для глаз; быть может, именно поэтому и любил Изяслав метаться по земле и жечь деревянные города, которые полыхали даже в пору осенних дождей и зимних вьюг, – он жег и те города, которые ему не поддавались, и те, которые брал на щит со своей дружиной, и те, из которых бежали защитники, покорные и беспомощные.
Сидел обычно верхом на коне, уставившись в красное пламя; глаза его были краснее, чем обычно, горели адским огнем, и горе было тому, кто, не ведая о привычках Изяслава, отважился бы в такую минуту потревожить князя.
Он легко вспыхивал гневом, еще легче переходил к раскаяниям и молитвам, мог поплакать прилюдно, размазывая слезы по щекам, и с улыбкой, еще не утерев глаз, велеть срубить голову пленному половецкому хану или непокорному смерду.
Дулеба он призвал к себе, собственно, и не для помощи в хворостях, ибо все равно глаза ему вылечить никто не мог, а приступы бешенства, которые Дулеб сумел бы хоть смягчить, князю были даже милы, как проявление его княжеского характера. Просто Изяслав любил окружать себя – чтоб подчеркнуть свою значительность – всякого рода необычными людьми: чужеземными посланниками, хиромантами и астрологами, шутами и выродками, дармоедами, брехунами, хвастунами, проходимцами. Пополнить такое сборище еще и известным во всех землях лекарем, который скрывается от мира и избегает больших городов и княжеских дворов, – разве ж от такого искушения мог отказаться этот князь, сев на золотой Киевский стол? Дулеба нашли, уговорили, заставили, препроводили.
И вот, словно бы в награждение князю за его прихоти, Дулеб оказался тем человеком, который спас Изяслава от сговора черниговских князей, собственно, от смерти, а кто же захотел бы умирать, только что став великим князем киевским и еще не покорив всех, кто по причинам, которые и перечислять не стоит, а принимать во внимание тем более, никак не могли смириться с тем, что в Киеве, на княжеском столе, засел внук Мономаха тогда, когда еще живы были сыновья Мономаха – Вячеслав и Юрий.
Вряд ли Изяслав ждал Дулеба из Киева в скором времени. Главное послать своего человека для расследования. Главное – своевременно поплакать прилюдно, пролить слезу над убиенным князем Игорем. А там делай свое. Не до раскаяний было. Раскаяния – для времен спокойных. А для него отпущено время, дабы он покорял, мстил и наказывал за собственный страх и… за смерть Игоря, которую убийцы хотели, судя по всему, отнести на его, Изяслава, счет, чтобы поднять против него весь люд.
Вчера вечером Изяслав сжег Бохмач. Из города бежали почти все люди, услышав о приближении войск киевского князя; город стоял перед Изяславом беззащитный, захлестываемый холодным дождем, печально серел деревянными заборолами среди зеленых лугов и желтолистых лесов. Такой город можно занять на время, чтобы дружина порыскала по домам и погребам, можно миновать его, не опасаясь удара в спину, однако Изяслав не стал изменять своему обычаю и велел поджечь Бохмач с четырех концов и до поздней ночи грелся у огня, отдыхал взглядом на пожарище, будто был не христианским князем, в котором смешана кровь множества королевских и княжеских родов, а диким степняком, признающим на свете лишь три стихии: солнечный зной, мертвый свет луны и полыхающий костер среди полынной равнины.
Утром Изяслав велел привести к нему карликов Лепа и Шлепа. Их возили за ним повсюду с того времени, когда воевода Иван Войтишич подарил карликов князю, по своему обыкновению проклиная все на свете и клянясь, что отрывает кусок собственного сердца для любимого князя. Карликов возили в двух клетках, сколоченных из крепких дубовых кольев, и, хотя они были одинаковы ростом – не больше локтя обыкновенного человека, клетки нарочно были сделаны неодинаковые. У Лепа большая, у Шлепа – почти вдвое меньше. Этим поддерживалась вечная вражда между карликами, потому что Шлеп завидовал Лепу, считая, что имеет право на такую же клетку. А Леп жил в вечном страхе, что Шлепу в самом деле удастся либо отнять у него клетку, либо добиться для себя точно такой же и тем самым сравняться с ним, Лепом, на что Шлеп из-за своего убожества и мизерной души не имел никаких оснований.
Потому-то, когда их выпускали из клеток и приводили к князю, карлики тотчас же схватывались между собой, валили друг друга в грязь, дрались до крови, до изнеможения и отчаяния, пока Изяслав, вдоволь натешившись этим зрелищем, махал рукой, чтобы Лепа и Шлепа снова бросили каждого в его дубовый дом и везли дальше за княжеским походом.
Сказано уже, что сегодня утром Изяслав до завтрака велел показать карликов. Их вытряхнули из клеток прямо перед княжеским шатром. Полы шатра были раздвинуты, и в этом укрытии вместе с Изяславом сели завтракать его братья Ростислав и Владимир, один прибыл с дружиной из Смоленска, другой из Киева. Были там еще тысяцкие Лазарь и Рагуйло из Киева, а также Иванко – от князя Вячеслава, который из страха перед своим могучим племянником посылал ему воев каждый раз, как только Изяслав этого требовал.
Леп и Шлеп, вытряхнутые из клеток прямо на зеленый луг, сразу же бросились друг на друга и в утешение князьям и дружинникам принялись за свое привычное дело с таким рвением, что вмиг смесили у себя под ногами траву, а потом, словно бы ожидая, пока под ногами зачавкает грязь, начали валить друг друга в нее, катались по ней, будто дикие кабанчики, тяжело дыша и кряхтя, подвывали и проклинали друг друга, скрежетали зубами, шмыгали носами, плакали от злости, что ни одному из них не дано утопить в болоте своего противника так, чтобы тот уже не смог ни подняться, ни пошевельнуться. Грустное и позорное для человеческой натуры зрелище являли эти два недоростка, которым так скупо было отмерено тело, зато щедро наделены души злостью и завистью. Таких бы пожалеть или хотя бы не замечать их убожества, а не выставлять на глумление, да еще и перед глазами могущественных людей. Но что поделать, когда все это делалось по велению самого великого князя киевского, который хотел бы чуточку развлечься, потому что не знал никаких радостей в жизни с тех пор, как бросился добывать себе стол сначала Переяславский, а потом Киевский. Походы, походы, походы…
А пока карлики избивали друг друга до крови и затаптывали друг друга в грязь, между князьями и их воеводами снова шла речь о походах. Молодой Владимир хвастал тем, как сумел вывести из Киева, бурлящего и дико непокорного, не только своих дружинников, но еще и многих охочих, а Ростислав похвалялся, как быстро и умело сожгли его дружинники Любеч, плывя из Смоленска по Днепру на подмогу Изяславу. Ростислав только и знал, что приплывал из Смоленска на помощь своему более удачливому, чем он сам, брату и каждый раз жег Любеч.
– Диво дивное, брат, что ты жжешь-жжешь этот Любеч, а он не сгорает, – полушутя заметил Изяслав.
– Сам удивляюсь каждый раз! – вскинул бровями Ростислав, внешне очень похожий на брата, с тем лишь отличием, что глаза у него были здоровыми и он не нуждался в лечении их созерцанием пожаров, хотя любил пожары не меньше Изяслава.
– Вот уж придется киевской дружине добраться до этого Любеча, сказал тысяцкий Лазарь. – Уж мы ежели сожжем, то никто так не сожжет.
– А никто, – добавил и Рагуйло.
Тысяцкий князя Вячеслава Иванко молча жевал твердый кусок мяса и в разговор не встревал.
Изяслав заметил молчание тысяцкого, но не стал придираться к старому воину, который изо всех сил делал вид, что никак не разжует твердый кусок. Князь был умным человеком и умел обращаться с людьми, а поскольку не привык подавлять в себе недовольство, то взглянул туда-сюда своими еще больше раскрасневшимися от созерцания пожаров глазами и с удивлением отметил, что за трапезой нет священника.
– Где же отец Иоанн? – спросил Изяслав своего стольника Держилу, чернобородого, краснорожего, как половец после просяного пива. – Почему не благословил трапезу? Или, может, яд изготовил для своего князя?
– Грех такое молвить, княже! – закрестился Держило. – Да мы для тебя… Жизни собственной не…
– Пошутил, пошутил, – благодушно произнес Изяслав. – А все же без отца Иоанна не привык я трапезничать. Отчего бы это он? Я уже и митрополита своего, русского назначил. Теперь должны бы быть благодарны своему князю и послушны…
– А митрополит Климент уже и супротив тебя пишет послание, – гневливо промолвил Ростислав. – Укоряет тебя за твои походы, за то, что подавляешь бунтующих князей. Если бы митрополитом был грек, не вмешивался бы…
– Греки мне без надобности, – отрезал Изяслав. – Или ты, может, знаешь, когда ромейские императоры помогли Киеву хотя бы одним воином? Не знаешь? И не вспомнишь, потому как не было такого. Да и зачем они ему? И митрополит их ни к чему. Союзников ищу лишь таких, которые помогали бы мне. Пока Юрий доберется ко мне из своего Суздаля, а король угорский или князь польский уже тут как тут, уже со мною. И митрополит будет со мною, раз наш человек. Супротив силы и доблести никто и ничто не устоит. А разве мы не сильны и не доблестны?
– Митрополит должен был бы унять киевлян возле Софии, – сказал молодой князь Владимир. – Когда закричали со всех сторон, что надобно идти убивать князя Игоря, митрополиту надлежало бы наслать на головы этих крикунов анафему, а он только поднимал крест – вот и все.
– Потому что привык больше писать, – язвительно улыбнулся Ростислав, – любо ему философом называться. Проповедует на письме, а кто это письмо читает? Голосом нужно, криком сильным, как дружина в поле. Смотри, брат, чтоб не обвели тебя вокруг пальца твои сверхученые прислужники. Потому как и митрополит у тебя ученый, и Петр Бориславович, боярин приближенный, все науки знает и все где-то в чужих землях обитает, теперь, говорят, еще и лекаря вельми ученого взял, а в поле идешь с воинами, и славу тебе несут воины, не кто иной. Игоря ведь киевляне убили – так твои ученые и не помогли…
– Плакал я над смертью брата моего несчастного, – вздохнул Изяслав, плакал и поклялся отплатить Ольговичам, потому что верю, это их коварство, они хотели запятнать меня убийством. Дружина моя со мною, вы, братья мои, тоже со мною. Что же касаемо ученых людей, брат Ростислав, знай…
Но тут прямо к княжескому шатру прискакало несколько всадников: Это были дружинники – сторожевые, а среди них – измученные длинной дорогой, промокшие до нитки, на выбившихся из сил конях Дулеб и Иваница. И в ту же самую минуту, словно бы он укрывался за шатром, зная о приближении этих вестников добра или зла, втиснулся за княжескую трапезу хилый телом, но довольно чванливый на вид, похожий чем-то на игумена Ананию княжеский священник отец Иоанн. Изяслав без восторга заметил появление отца Иоанна, мог бы и не приходить, раз не освятил начало трапезы, но, коль скоро втиснулся, быть по сему. В особенности же принимая во внимание, что Дулеб привез утешительные вести, иначе зачем ему было так торопиться.
Изяслав кивком головы велел отрокам тотчас же убрать с глаз отвратительных карликов, зная, что Дулебу невыносимо смотреть на насилие над людской породой, для лечения которой он отдает всю свою жизнь. В другой раз князь не стал бы потакать чьим-либо вкусам, но сегодня сознательно угождал Дулебу, потому что так или иначе оказался под властью этого человека. Вот он слезет с коня, подойдет к княжескому шатру, поклонится и… Может сказать слова утешительные, слова, которыми окончательно будет снята с князя страшная тяжесть, слова, которые навсегда очистят Изяслава перед людьми и перед богом. Но может ведь всякое случиться. Недаром брат Ростислав только что так убедительно говорил о неприрученности и, быть может, неспособности слишком ученых людей для службы у князя, требующей преимущественно действий простых, решительных, часто жестоких. Что, если этот Дулеб, о котором князь ничего толком не знает, кроме того, что своими спокойными пальцами он умеет выгонять из тела тягчайшие болезни, что, если этот человек, который полжизни протолкался где-то в далеких краях, пренебрежет всем святым и здесь, при свидетелях, брякнет ни с того ни с сего неправедный и умышленный навет на безвинного своего хлебодавца: «Твоя вина, княже!»
Нужно ли говорить, как побледнел и без того всегда бледный князь Изяслав, как слезились его неизлечимо больные глаза, замерла рука с кубком на полпути к губам, пока Дулеб и Иваница соскакивали с коней, разминали отекшие ноги, подходили неторопливо к князьям, молча кланялись по обычаю. А потом Иваница заметил в княжьей руке серебряный кубок с напитком и внезапно… улыбнулся. И за эту улыбку Изяслав отдал бы этому сероглазому русоволосому парню десяток не сожженных еще городов. Он встал из-за трапезы, быстро вышел навстречу Дулебу и протянул ему свой кубок:
– Выпей с дороги.
А с другой стороны юркий Держило уже подал посудину с вином Иванице.
Дулеб пил медленно, смотрел пристально поверх кубка на князя, но смотрел спокойно, без осуждения, хотя и без улыбки, как Иваница; Изяслав непроизвольно протянул руку. Держило предупредительно вставил в нее еще один кубок с вином, и, когда лекарь допил первый, князь сразу же подал ему еще. Однако Дулеб пить больше не стал, а передал кубок своему товарищу, более молодому, а следовательно, и более выносливому.
Пока Иваница пил, Дулеб молчал. И все молчали, потому что первое слово принадлежало Изяславу, великий же князь спрашивать ни о чем не хотел, потому что еще нависал над ним смертельный испуг от невероятного обвинения в том, в чем он не чувствовал себя виновным.
Наконец Дулеб заговорил: