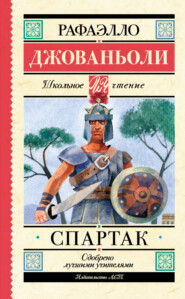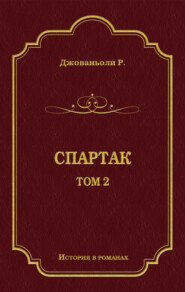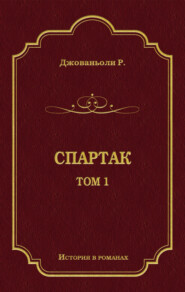По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спартак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Красс!.. Красс!.. Вот мой кошмар, предмет всех моих мыслей, всех моих снов!.. – сказал со вздохом Гай Веррес.
– Его несметные богатства не дают тебе спать, бедняга Веррес? – спросил, взглянув на своего соседа саркастическим и испытующим взором, Авл Габиний, поправляя своей белой рукой локоны искусно завитых и надушенных волос.
– Неужели не придет день равенства? – воскликнул со вздохом Веррес.
– О чем думали тогда эти дураки Гракхи и этот идиот Друз, когда они решили поднять город, чтобы поделить поля между плебеями, я поистине не понимаю, – сказал Гай Антоний. – Они вовсе не думали о бедных патрициях!.. Кто, кто беднее нас, присужденных видеть, как доходы с наших имений пожираются ненасытной жадностью банкиров? Под предлогом получения процентов с денег, которые они нам ссудили, они налагают арест на эти доходы еще раньше, чем приходят сроки уплаты долгов.
– Кто беднее нас, осужденных скупостью бесчеловечных отцов и силою всемогущих законов проводить лучшие годы нашей юности в бедности, томясь самыми пылкими неосуществимыми желаниями?.. – добавил Луций Бестия, оскалив зубы и судорожно сжимая чашу, только что им опорожненную.
– Кто беднее нас, в насмешку рожденных патрициями и считающих себя могущественными, по иронии судьбы лишь благодаря званию своему пользующихся уважением простонародья? – заметил с выражением глубокой грусти Лентул Сура.
– Оборванцы в тогах, вот кто мы!..
– Лишенные ценза, одетые в пурпур!
– Угнетенные и нищие, которым нет места на пиру богатой Римской республики!
– Смерть ростовщикам и банкирам!
– В ад все законы двенадцати таблиц!..
– И преторианский эдикт!..[44 - Эдикты издавались преторами при вступлении в должность и содержали в себе программу их деятельности на время службы.]
– К Эребу[45 - Эреб – в древнегреческой мифологии олицетворение вечного мрака.] отцовскую власть!
– Да ударит всемогущая молния Юпитера Громовержца в Сенат и испепелит его!
– Но пусть он сперва предупредит меня об этом, чтобы я в этот день не пришел! – пробормотал с неподвижным взором и одурелым лицом совершенно отупевший Курион.
Взрыв хохота раздался вслед за этим неожиданным и все же мудрым замечанием пьяницы и прекратил нескончаемую цепь проклятий, посылаемых гостями Катилины.
В этот момент вошедший в столовую раб приблизился к хозяину дома и прошептал ему несколько слов на ухо.
– А, клянусь богами ада!.. – воскликнул громким голосом, с выражением радости Катилина. – Наконец! Введите его сейчас же и вместе с ним приведенную им с собою тень[46 - В Древнем Риме тенями называли гостей, которые пришли в дом вместе с людьми, приглашенными хозяином.].
Раб поклонился и уже собрался уходить, но Катилина задержал его и прибавил:
– Окажите им полное уважение. Обмойте им ноги, вытрите их мазями и дайте им обеденную одежду и венки.
И раб, снова поклонившись, вышел.
Затем Катилина крикнул триклиниарху:
– Эпафор, сейчас же освободи стол от остатков пиршества и приготовь две скамьи против главного ложа для двух друзей, которых я ожидаю; очисти эту комнату от мимов, музыкантов и рабов и приготовь тем временем в соседней комнате все для веселого, приятного и продолжительного пира.
В то время как триклиниарх Эпафор занялся раздачей полученных приказаний и столовую стали убирать, гости молча распивали пятидесятилетнее фалернское, пенившееся в серебряных чашах, и ожидали с нетерпением и с нескрываемым выражением любопытства возвещенных гостей, которые скоро появились, в сопровождении раба, с венками из роз на голове, одетые в обеденные белые тоги.
Это были Спартак и Крикс.
– Да будет покровительство богов над этим домом и его благородными гостями! – сказал Спартак, входя в комнату.
– Привет всем! – прибавил Крикс.
– Честь и слава тебе, храбрейший Спартак, и твоему другу! – ответил Катилина, поднявшись навстречу рудиарию и гладиатору.
И, взяв Спартака за руку, он привел его к ложу, которое сам раньше занимал, и пригласил его возлечь здесь; усадив Крикса на одну из только что поставленных против почетного ложа скамеек, Катилина уселся на другой рядом с ним.
– Итак, Спартак, ты не пожелал провести этот вечер за моим столом вместе со столь благородными и храбрыми юношами? – и при этом он указал на гостей.
– Не пожелал? Я не мог, Катилина, и я об этом тебя предупредил, если только твой остиарий был аккуратен в исполнении данного ему мною поручения.
– Да, я был предупрежден…
– Однако ты не знал причины, сообщить которую я не мог, не доверяя скромности остиария… Я должен был отправиться в одну харчевню, очень посещаемую гладиаторами, в которой собирался встретиться – и действительно встретился – с людьми, имеющими большое влияние среди этих несчастных.
– Итак, – спросил вдруг несколько насмешливым тоном Луций Бестия, – итак, мы гладиаторы и думаем о своем освобождении, толкуем о своих правах и готовимся поддерживать эти права с мечом в руках…
Лицо Спартака вспыхнуло, и он, ударив кулаком по столу, порывисто привстал и воскликнул:
– Да, конечно, клянусь всеми молниями Юпитера, пусть…
Внезапно прервав самого себя и переменив тон, жесты и слова, он продолжал спокойно:
– Пусть дадут согласие на это высшие боги и вы, благородные и могущественные патриции, и мы возьмемся за оружие ради свободы угнетенных!
– Этот гладиатор мычит, как бык, – пробормотал Курион, уже начавший дремать и склонявший лысый череп то на правое, то на левое плечо.
– Такое высокомерие под стать Луцию Корнелию Сулле Счастливому, диктатору, – прибавил Гай Антоний.
Катилина, предвидевший, до чего могут довести эту беседу сарказмы Бестия, вмешался и, приказав рабу налить фалернского новопришедшим и затем выйти, поднялся с места и сказал так:
– Вам, благородные римские патриции, у которых неблагоприятная судьба оспаривает то, что величие ваших душ вполне заслужило в изобилии, я хочу сказать – свободу, власть и богатство. Вам, верные и честные друзья мои, представляю я этого доблестнейшего рудиария, Спартака, который за силу своего тела и за стойкость души был бы вполне достоин родиться не фракийцем, а римским гражданином и патрицием. Он, сражаясь в наших легионах, доказал свое мужество, заслужив гражданский венок и чин декана…
– Что не помешало ему дезертировать из нашего войска при первом же удобном случае, – прервал Луций Бестия.
– Ну и что же! – быстро и все более воодушевленным тоном возразил Катилина. – Поставите ли вы ему в вину, если он нас, сражавшихся против его родной страны, оставил для того, чтобы защищать свое отечество, своих родных, свои лавры. Кто из вас, если бы попал в плен к Митридату и был зачислен в его войска, при первом же появлении римского орла не счел бы своим долгом, не вменил бы себе за честь оставить ненавистные знамена варвара и вернуться под знамена своих сограждан.
Шепот согласия и одобрения пронесся после этих слов, и Катилина, пользуясь благоприятным настроением слушателей, продолжал:
– Теперь я, вы и весь Рим видели и восхищались, как этот сильнейший человек, мужественно и непобедимо сражаясь в цирке, совершил подвиги не гладиатора, но достойные способнейшего командира. И этот человек, стоящий выше своего положения и своей несчастной судьбы, подобно нам, раб, как и мы, – угнетенный, как и мы, – несчастный, уже несколько лет как задумал одно трудное, опасное, но благороднейшее предприятие: он составил тайный заговор среди гладиаторов. Их, связанных священной клятвой, он замышляет поднять в определенный день против тирании, которая обрекает их на смерть на забаву людям в амфитеатрах, и вернуть свободными в родные страны.
Катилина немного помолчал и после короткой паузы продолжал:
– Разве не то же самое уже давно задумали вы и я? Чего требуют гладиаторы, кроме свободы? Чего требуем мы? Против чего желаем мы восстать, если не против этой олигархии? Ибо с того времени, как республика подпадает под произвол нескольких, им, и только им платят дань цари, тетрархи[47 - Тетрарх – правитель четвертой части какой-нибудь области.] и народы; а все остальные храбрые, истинно знатные и простой народ – все мы становимся подонками общества, несчастными, угнетенными, недостойными и презренными.
Ропот пробежал среди молодых патрициев, и глаза их засверкали ненавистью, гневом и жаждой мщения.
Катилина продолжал: