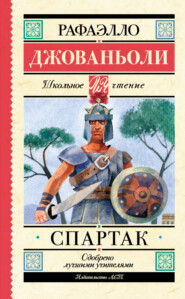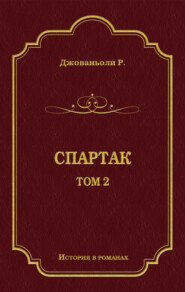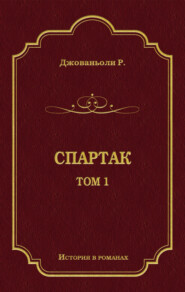По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спартак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Улица пустынная…
– Мы его отведем на самый верх холма на другой конец этой улицы…
– Mors sua, vita nostra[66 - Смерть его – наша жизнь. – Примеч. автора.], – заключил в виде сентенции Брезовир, произнося с варварским акцентом эти четыре латинских слова.
– Да, это необходимо, – сказал Крикс, сделав шаг к дверям кабачка, но тут же остановился и спросил: – Кто же убьет его?
Никто не дал ответа, и только после минуты молчания один сказал:
– Убить безоружного и без сопротивления…
– Если бы у него хотя бы был меч… – сказал другой.
– Если бы он мог или хотел защищаться, я бы взял на себя это поручение, – прибавил Брезовир.
– Но зарезать безоружного… – заметил самнит Торкват.
– Храбрые и благородные люди, – сказал с явным волнением Крикс, – достойные свободы! Однако необходимо, чтобы для блага всех кто-нибудь победил свое отвращение и выполнил над этим человеком приговор, который произнес суд союза угнетенных.
Все замолчали и наклонили голову в знак смирения и повиновения.
– С другой стороны, – продолжал Крикс, – разве он пришел сразиться с нами равным оружием и в открытом бою? Разве он не шпион? Если бы мы его не накрыли в его тайнике, не донес ли бы он на нас через два часа?.. И не были бы все мы брошены завтра в Мамертинскую тюрьму, чтобы через два дня быть распятыми на кресте на Сессорийском поле?..
– Правда, правда! – подтвердило несколько голосов.
– Итак, именем суда союза угнетенных я приказываю вам, Брезовир и Торкват, убить этого человека.
Оба названных гладиатора наклонили голову, и все с Криксом во главе вернулись в харчевню.
Сильвий Кордений Веррес, ожидая решения своей судьбы, не переставал дрожать от страха. Минуты ему казались веками. Он устремил взор, полный тревоги и ужаса, на Крикса и его товарищей, вернувшихся в обеденную комнату харчевни. По бледности, которая сразу покрыла его лицо, было видно, что он не прочел на их лицах ничего хорошего.
– Ну что же… – произнес он слезливым голосом, – вы меня пощадите? Оставите мне жизнь?.. Я… здесь, на коленях жизнью ваших отцов, ваших матерей, ваших близких… смиренно вас заклинаю…
– Разве есть у нас теперь отцы и матери?.. – сказал с мрачным и страшным выражением, с потемневшим лицом Брезовир.
– Разве оставили нам что-либо дорогое? – сказал со сверкающими гневом и местью глазами другой гладиатор.
– Вставай, трус! – закричал Торкват.
– Молчать! – воскликнул Крикс и, обращаясь к отпущеннику Гая Верреса, прибавил: – Ты пойдешь с нами. В конце этой маленькой улицы мы посовещаемся и решим твою судьбу.
И Крикс, сделав товарищам знак поддержать и тащить с собой Сильвия Кордения, которому он оставил последний луч надежды, чтобы он не поднял на ноги всю улицу воплями, вышел в сопровождении остальных, потащивших отпущенника, более похожего на мертвеца, чем на живого. Он не сопротивлялся и не произносил ни слова.
Один гладиатор остался, чтобы заплатить за кушанья и вина Лутации. Она среди этих вышедших двадцати гладиаторов и не заметила своего торговца зерном. Между тем остальные, повернув направо от харчевни, стали подыматься по грязной и извилистой улочке, которая оканчивалась у городской стены, в голом и открытом поле.
Придя сюда, группа остановилась, и Сильвий Кордений снова, опустившись на колени, начал плакать и испускать стоны и крики, взывая к милосердию гладиаторов.
– Хочешь ты, подлый трус, сразиться равным оружием с одним из нас? – спросил Брезовир упавшего духом отпущенника.
– О, пожалейте… пожалейте… ради моих сыновей прошу вас о милосердии…
– У нас нет сыновей! – закричал один из гладиаторов.
– Мы осуждены не иметь их никогда!.. – прорычал другой.
– Итак, ты, – сказал в негодовании Брезовир, – умеешь только прятаться и шпионить?.. Честно сражаться ты не умеешь?..
– О, спасите меня!.. Жизнь… я вас умоляю о жизни!..
– Так иди же в ад, трус! – вскричал Брезовир, вонзив свой короткий меч в грудь отпущенника.
– И пусть погибнут с тобой вместе все подлые бесчестные рабы, – прибавил самнит Торкват, дважды ударяя упавшего.
Гладиаторы, сомкнувшись вокруг умирающего, с мрачными и задумчивыми лицами стояли неподвижно, не произнося ни слова и следя за последними судорогами отпущенника, очень скоро испустившего последнее дыхание.
Брезовир и Торкват несколько раз воткнули свои мечи в землю, чтобы стереть с них кровь раньше, чем она свернется, и затем вложили их обратно в ножны.
А потом все двадцать, серьезные и молчаливые, спустились по пустынному переулку и углубились в более оживленные улицы Рима.
Восемь дней спустя после только что рассказанных событий, вечером, в час первого факела, со стороны Аппиевой дороги въехал через Капуанские ворота в Рим человек на лошади, весь завернувшись в плащ, чтобы хоть как-то укрыться от проливного дождя, который уже несколько часов заливал улицы города.
Капуанские ворота были одни из наиболее оживленных в Риме, так как выходили на «царицу всех дорог» – Аппиеву дорогу. От нее расходились дороги Сетская, Калепанская, Аквилесская, Гнатская и Минуцийская, которые вели в Суэссу, Капую, Кумы, Салернум, Беневентум, Брундизиум и Самниум; поэтому стражи этих ворот, привыкшие видеть входящими и выходящими во всякие часы толпы людей всех классов и одетых в самые разнообразные одежды, пеших, на лошадях, в носилках, в экипажах, в паланкинах, запряженных двумя мулами, одним спереди и другим сзади, тем не менее не могли не поразиться плачевным состоянием, в котором находились всадник и его породистый конь. И тот и другой вспотели, задыхались от продолжительной езды и были покрыты грязью с головы до ног.
Проехав ворота, всадник пришпорил коня, продолжая свой путь, и в скором времени стражи слышали лишь удаляющееся и утихающее вдали эхо быстрого топота коня по мостовой.
Вскоре лошадь доскакала до Священной улицы и остановилась перед домом, где жила Эвтибида. Всадник соскочил с коня и, схватив бронзовый молоток у двери, несколько раз сильно ударил им. В ответ тотчас же послышался лай сторожевой собаки, непременной принадлежности римского дома.
Через несколько минут всадник, успевший отряхнуть воду с совершенно вымокшего плаща, услышал шаги привратника; тот торопился открыть двери и громко приказывал собаке замолчать.
– Да благословят тебя боги, добрый Гермоген… Я Метробий, приехал из Кум…
– С благополучным приездом!..
– Я мокр, как рыба… Юпитер, властитель дождей, пожелал позабавиться, показав мне, как хорошо работают его шлюзы… Позови кого-нибудь из слуг и прикажи ему отвести это бедное животное в конюшню соседней харчевни Януса, чтобы ему там дали приют и овса.
Привратник, приставив средний палец правой руки к большому, щелкнул о ладонь – это был знак, которым вызывали рабов, – и, взяв лошадь за уздечку, сказал:
– Входи же, Метробий! Ты знаешь расположение дома: возле галереи ты найдешь Аспазию, горничную госпожи. Она доложит о твоем прибытии. О лошади я позабочусь, и все, что ты приказал, будет исполнено.
Метробий переступил порог входной двери, стараясь не поскользнуться, что было бы самым дурным предзнаменованием, и вошел в переднюю, на мозаичном полу которой при свете бронзовой лампы, висящей на потолке, виднелась обычная надпись: salve[67 - Привет. – Примеч. автора.]; это слово при первых же шагах гостя сейчас же повторял попугай в клетке, висящей на стене (таков был обычай того времени).
Очень скоро Метробий, минуя переднюю и атриум, вошел в коридор галереи, где нашел Аспазию, которой приказал доложить Эвтибиде о своем приходе.
Сперва рабыня, по-видимому, колебалась, не зная, как ей быть, но в конце концов уступила настояниям комедианта, боясь, что госпожа будет бранить и бить ее, если она не доложит о нем. Вместе с тем она боялась, что не сумеет оправдаться, так как Эвтибида приказала не беспокоить ее в приемной.
В это время куртизанка, расположившись в удобной и томной позе на мягкой изящной кушетке, находилась в своей зимней приемной, обогреваемой печами, благоухающей духами, украшенной драгоценной мебелью, и была всецело занята выслушиванием признаний в любви, которые изливал юноша, сидевший у ее ног. Она теребила дерзкой рукой его густые, мягкие черные волосы, а он с пылающим страстью взглядом поэтическими, богатыми фантазией образами изливался в горячих, нежных чувствах.
Юноша был среднего роста, хрупкого телосложения, с черными глазами, сверкавшими необыкновенной живостью, с бледными правильными чертами приятного и симпатичного лица; вдоль краев его белоснежной тончайшей туники проходила кайма пурпурного цвета. Это означало, что он принадлежал к сословию всадников. То был Тит Лукреций Кар.