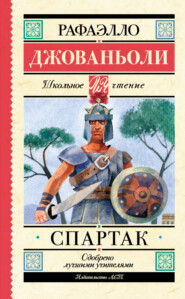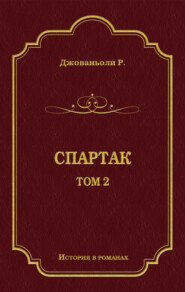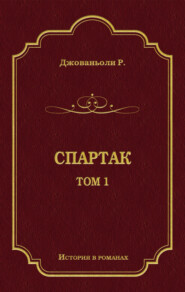По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Спартак
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но я не упомянула твоего имени… и во всем, что может произойти, ты будешь совершенно в стороне.
– Понимаю… очень хорошо… но видишь, моя девочка, я задушевный друг Суллы уже тридцать лет.
– О, я знаю это… даже более задушевный, чем это нужно для твоей доброй славы…
– Это не важно… я знаю этого зверя… то есть человека… и при всей дружбе, которая меня связывает с ним столько лет, я знаю, что он вполне способен свернуть мне голову… как курице… Я уверен, что он прикажет почтить меня самыми пышными похоронами и битвой пятидесяти гладиаторов вокруг моего костра. Однако, к несчастью для меня, я уже не буду в состоянии наслаждаться всеми этими зрелищами…
– Не бойся, не бойся, – сказала Эвтибида, – с тобой не случится никакого несчастья.
– Все в руках богов, которых я всегда почитал.
– А пока почти Вакха и выпей во славу его этого пятидесятилетнего фалернского, которое я сама для тебя смешаю.
И она налила вино из кувшина в чашу комедианта.
В эту минуту вошел в триклиний раб в дорожном костюме.
– Помни мои наставления, Демофил, и нигде не останавливайся до Кум.
Слуга взял из рук Эвтибиды письмо, положил его между курткой и рубашкой, привязав его веревкой вокруг талии, затем, поклонившись госпоже, завернулся в плащ и вышел.
Эвтибида успокоила Метробия, которому фалернское развязало язык, и поэтому он решил снова заговорить о своих опасениях. Эвтибида, сказав ему, что завтра они увидятся, вышла из триклиния и вернулась в приемную. Там Лукреций, держа в руке дощечку, собирался перечитать то, что написал.
– Извини, что я должна была оставить тебя одного дольше, чем хотела… но я вижу, что ты не терял времени. Прочти мне эти стихи, ведь твое воображение может проявляться только в стихах… и притом в великолепных стихах.
– Ты и буря, которая свирепствует снаружи, внушили мне эти стихи… Поэтому я должен прочесть их тебе… Возвращаясь домой, я их прочту буре.
…Ветер морей неистово волны бичует,
Рушит громады судов и небесные тучи разносит
Или же, мчась по полям, стремительным кружится вихрем,
Мощные валит стволы, неприступные горные выси,
Лес, низвергая, трясет порывисто: так несется
Ветер, беснуясь, ревет и проносится с рокотом грозным.
Стало быть, ветры – тела, но только не зримые нами.
Море и земли они вздымают, небесные тучи
Бурно крушат и влекут – внезапно поднявшимся вихрем.
И не иначе текут они, все пред собой повергая,
Как и вода, по природе своей хоть и мягкая, мчится
Мощной внезапно рекой, которую, вздувшись от ливней,
Полнят, с высоких вершин низвергаясь в нее, водопады,
Леса обломки неся и стволы увлекая деревьев.
Крепкие даже мосты устоять под внезапным напором
Вод не способны: с такой необузданной силой несется
Ливнем взмущенный поток, ударяя в устои и сваи.
Опустошает он все, грохоча: под водою уносит
Камней громады и все преграды сметает волнами.
Так совершенно должны устремляться и ветра порывы,
Словно могучий поток, когда, отклоняясь в любую
Сторону, гонят они все то, что встречают, и рушат,
Вновь налетая и вновь; а то и крутящимся смерчем,
Все захвативши, влекут, и в стремительном вихре уносят.
Эвтибида – мы уже говорили – была гречанкой и очень культурной, так что она не могла не почувствовать восхищения от силы, изящества и мастерской звукоподражательной гармонии этих стихов, тем более что латинский язык был еще беден и, за исключением Энния, Плавта, Луцилия и Теренция, не имел знаменитых поэтов.
Поэтому она выразила Лукрецию свое восхищение в словах, полных искреннего чувства, на которые поэт, поднявшись и прощаясь с нею, с улыбкой сказал:
– Ты заплатишь за свое восхищение этой дощечкой, которую я забираю с собою…
– Но ты мне лично вернешь ее, как только перепишешь стихи на папирус.
И Лукреций, обещав девушке вернуться, ушел, с душой, переполненной этими стихами, прочувствованные и сильные образы которых были подсказаны ему наблюдениями над природой.
Эвтибида, которой казалось, что она вполне удовлетворена, пошла в сопровождении Аспазии в свою спальню, решив насладиться, пока ее будут укладывать, всей радостью мести. Однако, к ее великому изумлению, удовольствие, которого она так страстно желала и призывала, не оказалось столь приятным, как она думала; ей даже казалось непонятным, почему она испытывала такое слабое удовлетворение.
Эти мысли беспокоили Эвтибиду, пока она укладывалась. Улегшись, она приказала Аспазии выйти и оставить ночную лампу зажженной, но завешенной.
Она продолжала размышлять над тем, что сделала, и над последствиями, которые вызовет ее письмо: может быть, разъяренный Сулла постарается скрыть свой гнев до глубокой ночи, проследит за любовниками, захватив их в объятиях друг друга, и убьет обоих.
Мысль о том, что она вскоре услышит о смерти и позоре Валерии, этой самоуверенной и надменной матроны, которая смотрела на нее сверху вниз – на нее, несчастную и презренную, хотя, будучи матроной и женой, Валерия в тысячу раз преступнее и порочнее Эвтибиды; мысль о том, что она узнает о смерти этой лицемерной и гордой женщины, наполняла ее грудь радостью и смягчала муки ревности и боли, которые она все еще продолжала испытывать.
Но по отношению к Спартаку Эвтибида испытывала совсем другие чувства. Она старалась простить ему его проступок, и после долгого размышления ей казалось, что несчастный фракиец был гораздо меньше виноват, чем Валерия. В конце концов, ведь он был бедный рудиарий: для него жена Суллы, хотя бы даже совсем некрасивая, должна быть больше чем богиня; эта развратная женщина, наверно, возбуждала его ласками, чаровала и дразнила, так что бедняжка не в силах был сопротивляться… Так именно должно и быть, ибо иначе осмелился ли бы какой-то гладиатор поднять дерзкий взор на жену Суллы? Затем, завоевав однажды любовь такой женщины, бедный Спартак, естественно, настолько был увлечен ею, что уже не мог думать о любви к другой женщине. Поэтому смерть Спартака стала казаться Эвтибиде уже несправедливой и незаслуженной.
И, ворочаясь с боку на бок, вся погруженная в эти мысли, Эвтибида не могла заснуть, вздыхала и дрожала, обуреваемая столь различными и противоречивыми чувствами. Однако время от времени она под влиянием усталости погружалась, по-видимому, в ту дремоту, которая предшествует сну; но дремота внезапно проходила, как от толчка, и Эвтибида снова начинала ворочаться в постели, пока мало-помалу действительно не заснула. И некоторое время в комнате царила глубокая тишина, нарушаемая лишь беспокойным дыханием спящей.
Но вдруг Эвтибида со стоном ужаса вскочила с ложа и прерывистым, плачущим голосом закричала:
– Нет… Спартак, не я тебя убиваю!.. Это она… Ты не умрешь!
Вся охваченная одной только мыслью, Эвтибида во время этого короткого забытья была потрясена каким-то сновидением; ее сознанию, вероятно, предстал образ Спартака, умирающего и молящего о сострадании.
Вскочив с постели, накинув широкий белый плащ и вызвав Аспазию, она с бледным, искаженным лицом приказала тотчас же разбудить Метробия.
Мы не станем описывать, чего ей стоило убедить комедианта в необходимости немедленно выехать, догнать Демофила и помешать тому, чтобы письмо, написанное ею три часа тому назад, попало в руки Суллы.
Метробий был утомлен прежней поездкой, разоспался от выпитого в слишком большом количестве вина, был весь под влиянием сладкого тепла пуховых одеял, и потребовалось все искусство и чары Эвтибиды, чтобы он спустя два часа был в состоянии поехать.
Буря перестала бушевать, небо блистало, все усыпанное звездами, и только холодный ветер мог причинять неприятность нашему путешественнику.
– Демофил, – сказала девушка комедианту, – теперь впереди тебя на пять часов, ты должен не ехать, а лететь на своем коне…
– Да, если бы он был Пегасом, я бы, пожалуй, заставил его лететь…
– В конце концов, это будет лучше и для тебя…
Несколько минут спустя топот лошади, скакавшей бешеным галопом, разбудил некоторых из сыновей Квирина. Прислушавшись к топоту, они снова закутывались в одеяла, наслаждаясь теплом, и чувствовали себя хорошо при мысли о том, что в этот час было много несчастных, которые находились в поле, в пути, под открытым небом, подвергаясь яростным порывам пронзительно завывавшего ветра.
Глава VII
Как смерть опередила Демофила и Метробия
– Понимаю… очень хорошо… но видишь, моя девочка, я задушевный друг Суллы уже тридцать лет.
– О, я знаю это… даже более задушевный, чем это нужно для твоей доброй славы…
– Это не важно… я знаю этого зверя… то есть человека… и при всей дружбе, которая меня связывает с ним столько лет, я знаю, что он вполне способен свернуть мне голову… как курице… Я уверен, что он прикажет почтить меня самыми пышными похоронами и битвой пятидесяти гладиаторов вокруг моего костра. Однако, к несчастью для меня, я уже не буду в состоянии наслаждаться всеми этими зрелищами…
– Не бойся, не бойся, – сказала Эвтибида, – с тобой не случится никакого несчастья.
– Все в руках богов, которых я всегда почитал.
– А пока почти Вакха и выпей во славу его этого пятидесятилетнего фалернского, которое я сама для тебя смешаю.
И она налила вино из кувшина в чашу комедианта.
В эту минуту вошел в триклиний раб в дорожном костюме.
– Помни мои наставления, Демофил, и нигде не останавливайся до Кум.
Слуга взял из рук Эвтибиды письмо, положил его между курткой и рубашкой, привязав его веревкой вокруг талии, затем, поклонившись госпоже, завернулся в плащ и вышел.
Эвтибида успокоила Метробия, которому фалернское развязало язык, и поэтому он решил снова заговорить о своих опасениях. Эвтибида, сказав ему, что завтра они увидятся, вышла из триклиния и вернулась в приемную. Там Лукреций, держа в руке дощечку, собирался перечитать то, что написал.
– Извини, что я должна была оставить тебя одного дольше, чем хотела… но я вижу, что ты не терял времени. Прочти мне эти стихи, ведь твое воображение может проявляться только в стихах… и притом в великолепных стихах.
– Ты и буря, которая свирепствует снаружи, внушили мне эти стихи… Поэтому я должен прочесть их тебе… Возвращаясь домой, я их прочту буре.
…Ветер морей неистово волны бичует,
Рушит громады судов и небесные тучи разносит
Или же, мчась по полям, стремительным кружится вихрем,
Мощные валит стволы, неприступные горные выси,
Лес, низвергая, трясет порывисто: так несется
Ветер, беснуясь, ревет и проносится с рокотом грозным.
Стало быть, ветры – тела, но только не зримые нами.
Море и земли они вздымают, небесные тучи
Бурно крушат и влекут – внезапно поднявшимся вихрем.
И не иначе текут они, все пред собой повергая,
Как и вода, по природе своей хоть и мягкая, мчится
Мощной внезапно рекой, которую, вздувшись от ливней,
Полнят, с высоких вершин низвергаясь в нее, водопады,
Леса обломки неся и стволы увлекая деревьев.
Крепкие даже мосты устоять под внезапным напором
Вод не способны: с такой необузданной силой несется
Ливнем взмущенный поток, ударяя в устои и сваи.
Опустошает он все, грохоча: под водою уносит
Камней громады и все преграды сметает волнами.
Так совершенно должны устремляться и ветра порывы,
Словно могучий поток, когда, отклоняясь в любую
Сторону, гонят они все то, что встречают, и рушат,
Вновь налетая и вновь; а то и крутящимся смерчем,
Все захвативши, влекут, и в стремительном вихре уносят.
Эвтибида – мы уже говорили – была гречанкой и очень культурной, так что она не могла не почувствовать восхищения от силы, изящества и мастерской звукоподражательной гармонии этих стихов, тем более что латинский язык был еще беден и, за исключением Энния, Плавта, Луцилия и Теренция, не имел знаменитых поэтов.
Поэтому она выразила Лукрецию свое восхищение в словах, полных искреннего чувства, на которые поэт, поднявшись и прощаясь с нею, с улыбкой сказал:
– Ты заплатишь за свое восхищение этой дощечкой, которую я забираю с собою…
– Но ты мне лично вернешь ее, как только перепишешь стихи на папирус.
И Лукреций, обещав девушке вернуться, ушел, с душой, переполненной этими стихами, прочувствованные и сильные образы которых были подсказаны ему наблюдениями над природой.
Эвтибида, которой казалось, что она вполне удовлетворена, пошла в сопровождении Аспазии в свою спальню, решив насладиться, пока ее будут укладывать, всей радостью мести. Однако, к ее великому изумлению, удовольствие, которого она так страстно желала и призывала, не оказалось столь приятным, как она думала; ей даже казалось непонятным, почему она испытывала такое слабое удовлетворение.
Эти мысли беспокоили Эвтибиду, пока она укладывалась. Улегшись, она приказала Аспазии выйти и оставить ночную лампу зажженной, но завешенной.
Она продолжала размышлять над тем, что сделала, и над последствиями, которые вызовет ее письмо: может быть, разъяренный Сулла постарается скрыть свой гнев до глубокой ночи, проследит за любовниками, захватив их в объятиях друг друга, и убьет обоих.
Мысль о том, что она вскоре услышит о смерти и позоре Валерии, этой самоуверенной и надменной матроны, которая смотрела на нее сверху вниз – на нее, несчастную и презренную, хотя, будучи матроной и женой, Валерия в тысячу раз преступнее и порочнее Эвтибиды; мысль о том, что она узнает о смерти этой лицемерной и гордой женщины, наполняла ее грудь радостью и смягчала муки ревности и боли, которые она все еще продолжала испытывать.
Но по отношению к Спартаку Эвтибида испытывала совсем другие чувства. Она старалась простить ему его проступок, и после долгого размышления ей казалось, что несчастный фракиец был гораздо меньше виноват, чем Валерия. В конце концов, ведь он был бедный рудиарий: для него жена Суллы, хотя бы даже совсем некрасивая, должна быть больше чем богиня; эта развратная женщина, наверно, возбуждала его ласками, чаровала и дразнила, так что бедняжка не в силах был сопротивляться… Так именно должно и быть, ибо иначе осмелился ли бы какой-то гладиатор поднять дерзкий взор на жену Суллы? Затем, завоевав однажды любовь такой женщины, бедный Спартак, естественно, настолько был увлечен ею, что уже не мог думать о любви к другой женщине. Поэтому смерть Спартака стала казаться Эвтибиде уже несправедливой и незаслуженной.
И, ворочаясь с боку на бок, вся погруженная в эти мысли, Эвтибида не могла заснуть, вздыхала и дрожала, обуреваемая столь различными и противоречивыми чувствами. Однако время от времени она под влиянием усталости погружалась, по-видимому, в ту дремоту, которая предшествует сну; но дремота внезапно проходила, как от толчка, и Эвтибида снова начинала ворочаться в постели, пока мало-помалу действительно не заснула. И некоторое время в комнате царила глубокая тишина, нарушаемая лишь беспокойным дыханием спящей.
Но вдруг Эвтибида со стоном ужаса вскочила с ложа и прерывистым, плачущим голосом закричала:
– Нет… Спартак, не я тебя убиваю!.. Это она… Ты не умрешь!
Вся охваченная одной только мыслью, Эвтибида во время этого короткого забытья была потрясена каким-то сновидением; ее сознанию, вероятно, предстал образ Спартака, умирающего и молящего о сострадании.
Вскочив с постели, накинув широкий белый плащ и вызвав Аспазию, она с бледным, искаженным лицом приказала тотчас же разбудить Метробия.
Мы не станем описывать, чего ей стоило убедить комедианта в необходимости немедленно выехать, догнать Демофила и помешать тому, чтобы письмо, написанное ею три часа тому назад, попало в руки Суллы.
Метробий был утомлен прежней поездкой, разоспался от выпитого в слишком большом количестве вина, был весь под влиянием сладкого тепла пуховых одеял, и потребовалось все искусство и чары Эвтибиды, чтобы он спустя два часа был в состоянии поехать.
Буря перестала бушевать, небо блистало, все усыпанное звездами, и только холодный ветер мог причинять неприятность нашему путешественнику.
– Демофил, – сказала девушка комедианту, – теперь впереди тебя на пять часов, ты должен не ехать, а лететь на своем коне…
– Да, если бы он был Пегасом, я бы, пожалуй, заставил его лететь…
– В конце концов, это будет лучше и для тебя…
Несколько минут спустя топот лошади, скакавшей бешеным галопом, разбудил некоторых из сыновей Квирина. Прислушавшись к топоту, они снова закутывались в одеяла, наслаждаясь теплом, и чувствовали себя хорошо при мысли о том, что в этот час было много несчастных, которые находились в поле, в пути, под открытым небом, подвергаясь яростным порывам пронзительно завывавшего ветра.
Глава VII
Как смерть опередила Демофила и Метробия