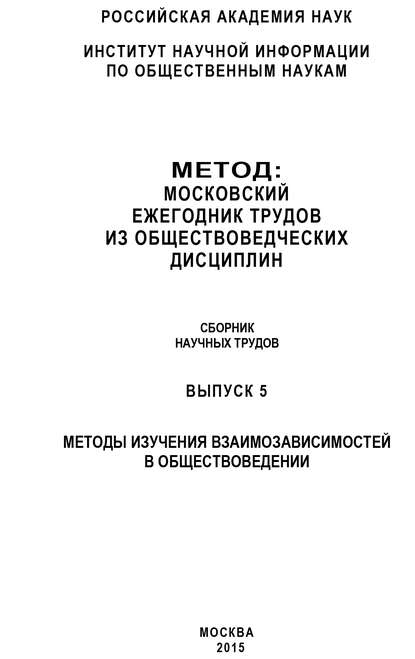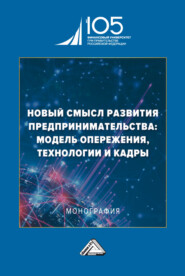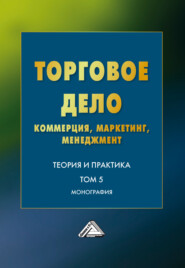По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Метод. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Выпуск 5: Методы изучения взаимозависимостей в обществоведении
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Известна четырехчастная типология причинности Аристотеля. Она может быть дополнена аристотелевским же понятием энтелехии. Каковы альтернативы этой типологии?
Анатолий Кузнецов: Принципиальных альтернатив данной типологии не вижу, скорее, речь идет о корректном соотношении смыслов, которые вкладывал в свои типы Аристотель, с современной терминологией и концептами.
Николай Розов: Следует отметить, что в классическом виде типология причин Аристотеля в современной науке не используется, это не более, чем достояние истории философской мысли. Системное представление о входах процессов (Оптнер) полностью покрывает аристотелевское различение. Для современной науки гораздо более значимыми являются такие разделения причин, как: достаточные и недостаточные, необходимые и ненеобходимые, внутренние и внешние, субъективные и объективные, долговременные и кратковременные, зависимые и независимые переменные, базовые и производные факторы и т.д.
Сергей Цирель: В рамках строгого номинализма, не признающего никакой телеологии, принятого в современной науке, одна энтелехия и остается.
Какие теоретические и философские концепции причинности и взаимосвязанности могут оказаться полезны, когда речь идет о решении задач выработки методов социально-гуманитарных исследований?
Николай Розов: Подход к анализу INUS-условий (Insufficient necessary parts of unnecessary sufficient conditions), а также актуальными остаются методы анализа причинных связей Бэкона – Милля, усиленные с помощью аппарата булевой алгебры в версии Ч. Рэйгина.
Анатолий Кузнецов: Принцип сложности; основные положения европейского структурализма; современные варианты теория систем, учитывающие положения открытости, рефлексивной кибернетики, аутопоэзиса, включающие сознание как проявление целесообразности; синергетика и принцип самоорганизации.
Сергей Цирель: Социальные и гуманитарные науки пытаются построить свои методы изучения сознания (в первую очередь лингвистика – например, гипотеза Сепира – Уорфа и гипотеза врожденных языковых способностей Хомского, в некотором смысле противоположная первой), но скорее они все же изучают не сознание, а массовые представления различных обществ и эпох либо поставляют материалы психологам и психолингвистам.
Насколько существенно различие непосредственных и опосредованных причин?
Владимир Авдонин: Можно предположить, что причина действует не непосредственно, а через определенную среду, поле, «пространство связи», в котором пребывает и «накапливается» нечто, что в какой?то момент и порождает видимую причину, причинную связь, непосредственное причинение. В связи с этим можно поставить вопросы о характере и природе этого «поля», среды, пространства (его субстанции, структурности, поляризации), а также о том, что же в нем может накапливаться и как затем превращаться в причинение.
Михаил Ильин: Думаю, что как раз непосредственного и прямого воздействия в действительности не происходит. Это просто удобный для нас способ упрощения. Прямое взаимодействие, как и пресловутые цепочки причинно-следственных отношений, являются лишь абстрактными проекциями, упрощениями, редукциями более сложных взаимодействий. Фактически же взаимодействия идут одновременно и совокупно, а главное – кумулятивно и опосредованно, через эффекты кумуляции. В результате и возникают эффекты взаимодействия, которые точнее представить таким образом, как если бы они осуществлялись тем, что вы назвали пространством связи.
Иван Фомин: Думаю, что здесь помогло бы обратить внимание на возможность как линейного, так и нелинейного причинения. Проблема в том, что зачастую, говоря о причинении, имеют в виду именно причинение по линейному принципу. В то время как в действительности можно обнаружить массу ситуаций, которые описываются именно нелинейными закономерностями. И в таких случаях мы как раз и можем иметь дело с накоплением эффектов, которые в итоге приводят к неожиданным (непропорциональным) изменениям. Стоит вспомнить историю о соломинке, которая переломила спину верблюду.
Николай Розов: Есть множество оснований для классификации причин, каждое из них существенно в своем круге познавательных ситуаций. Непосредственная, или прямая, причина характеризуется отсутствием посредника – промежуточного звена между причиной и следствием. Нужно отметить, что вопрос о наличии или отсутствии такого посредника далеко не всегда тривиален. Если причинная цепочка надежна, безальтернативна, то обычно промежуточные звенья выпадают из внимания. Почему помер заяц? Потому что охотник метко прицелился и нажал на курок. При этом множество посредников: спусковой механизм ружья, устройство патрона, полет пули, разрушение тканей в организме зайца, потеря крови, отмирание жизненно важных клеток и органов, все это остается без внимания. Почему в поселениях на большой реке произошло наводнение? Потому что в верховьях неделю шли проливные дожди. Все процессы стока воды, оползней, разрушения плотин в мелких притоках опять же являются «само собой разумеющимися», а поэтому мы их обычно опускаем, считая причину «прямой». Но бывают ситуации, когда мы вспоминаем о промежуточных звеньях, если, например, проектируем бронежилет, защищающий жизненно важные органы, или задумываемся, какие сооружения защитят от наводнений в будущем.
В классической науке гораздо шире используются различения необходимых и ненеобходимых, достаточных и недостаточных причин (условий) для наступления явления такого?то класса. Соотношение этих различений с парой прямые / опосредованные причины не совсем тривиально и выглядит примерно так. Каждая прямая причина – необходима, но только в круге «своих» сопутствующих условий, каждое из которых является недостаточной и опосредованной причиной. Так, повреждение проводки в доме есть прямая причина пожара, но только при наличии плохой изоляции, близости горючих материалов, отсутствия людей и пожарной сигнализации. Каждое их этих условий является опосредованной причиной, не достаточной для пожара, но все они вместе и загоревшаяся проводка уже будут достаточными причинами. Подробнее о методологии анализа INUS-условий (Insufficient necessary parts of unnecessary sufficient conditions) можно прочитать в книге «Разработка и апробация метода теоретической истории».
Петр Панов: Различение между непосредственными и опосредованными причинами, вероятно, связано с различением между причинами как непосредственно «порождающими» какое-либо явление (событие) и условиями как обстоятельствами причинного события, которые сами по себе не порождают его (и поэтому не являются причиной), но необходимы для порождения. Если так, то данное различение представляется весьма существенным для построения объясняющих теорий. Вместе с тем следует учитывать ограниченность любой такой теории, поскольку для любого события, процесса, явления и т.д. могут быть разработаны разные теоретические объяснения, и соотношение между непосредственными и опосредованными причинами в них будут различными. Иначе говоря, такое различение в каждом отдельном случае – следствие определенной теоретической рамки, т.е. оно не абсолютно, а относительно. Кроме того, даже в одной теоретической рамке может допускаться «логическая перестановка» причины и условия, непосредственных и опосредованных причин. Далее, мне кажется, необходимо учитывать, что любая объяснительная конструкция «конечна» в том смысле, что она объясняет (и тем самым выделяет причины, условия и т.д.) лишь определенную часть реальности, фокусируясь на нее, но оставляя за рамками объяснения все остальное. Так, к примеру, объясняя электоральное поведение рациональными расчетами избирателя, мы наводим фокус на индивидуальные мотивации, оставляя за рамками вопрос о причинах этих мотиваций. Дальше мы можем сдвинуть фокус на эти причины и объяснить мотивации, например, его социальным положением или социализацией или чем?то еще, но опять-таки неизбежно теряем из виду причины, которые привели именно к такому социальному положению, социализации. И так далее. Двигаться по пути поиска причин можно бесконечно, и соотношение между непосредственными и опосредующими причинами опять-таки может меняться. Впрочем, все это не снижает важность такого различения, поскольку оно необходимо для упорядочивания наших представлений об окружающем мире, которое предлагается (по крайней мере, должно предлагаться) в каждой теоретической рамке.
Каким образом можно «вообразить» и концептуализировать опосредующие причины?
Владимир Авдонин: В ходе наших дискуссий в Центре перспективных методологий мы использовали метафору «клея», чтобы уловить особенности опосредованной причинности. Вероятно, способность связывания, соединения в общем субстанциональном поле самых простых и самых сложных артефактов и самых разных по своим характеристикам конструкций включает и способ связи, который мы называем причинностью. Можно также полагать, что модус простого связывания или склеивания находящихся в этом поле элементов дополнен в нем также модусом трансформации или превращения, изменения, т.е. возможностями появления в нем качественно новых конструкций. Остается открытым вопрос, обладает ли это поле не только связывающей, но и превращающей способностью, способностью создавать в нем нечто новое.
Михаил Ильин: Как и всякая метафора «клей» обладает эвристическим потенциалом, но одновременно ограничивает наше мышление и воображение. «Вязкость клея» акцентирует одну сторону дела, но скрывает от нас другую. Мы видим связанность явлений и процессов относительно момента наблюдения, но не видим, например, их динамизма и изменчивости за пределами момента наблюдения. Память о взаимодействиях и ожидания эффектов скрадываются и как будто исчезают.
Пространство связи предстает как «клей», когда темпоральность свертывается к наличному сингулярному моменту, и как «чудо порождения» при развертывании темпоральности.
Иван Фомин: Метафора клея имеет свои плюсы и минусы. Хороша она тем, что помогает нам отойти от привычного представления о том, что причинение происходит как бы линейно и в вакууме: ситуация А ? ситуация Б. Такое представление причинности во многом сбивает с толку, поскольку описывает положение вещей, в котором игнорируется тот факт, что пространство, в котором происходит причинение, пронизано бесконечным множеством таких «стрелочек». И в некотором смысле оно оказывается действительно наполнено чем?то вроде каузального клея, связывающего все со всем.
Но есть у метафоры клея и свои ограничения. Когда мы говорим «клей», это заставляет нас думать о ситуации, в которой существует некто, отбирающий объекты для склеивания и инициирующий их соединение. С клеем причинности все несколько иначе – причинность оперирует не предоставленными ей объектами, а сама бесконечно ищет эти объекты.
Интересно здесь вспомнить триаду типов предзнания по В.М. Сергееву, которые различаются как раз в том, каким образом метафорически концептуализируют отношения, существующие в мире. Номиналисткий тип представляет мир «плоским», существующим как набор атомарных событий с простыми стимул-реактивными связями, не объединенными никакой «теорией». Структурный тип формирует двухуровневую онтологию, в которой за действиями акторов стоят их роли и цели. Холистский (процессуальный) тип тоже производит двухуровневую онтологию, но уже другого вида: в ней механика функционирования реальности представляется непостижимой, на нее нельзя напрямую влиять и о ее состоянии можно судить лишь по косвенным проявлениям.
Думаю, каждый из этих типов представляет один из подходов к вопросу о понимании причинности. Номиналисткий – упрощение каузальных отношений без проблематизации причинности («просто и понятно»). Структурный – представление о сложности каузальных связей, но на фоне гносеологического оптимизма («сложно, но понятно»). Холистский – представление о сложности каузальных связей и об их непознаваемости («сложно и непонятно»).
Николай Розов: Наиболее адекватные представления об опосредующих причинах складываются в результате эмпирического анализа промежуточных процессов между известной или предполагаемой причиной и следствием. Если эти процессы, промежуточные звенья, опосредующие причины скрыты от наблюдения, относятся к прошлому и не воспроизводимы, как, например, причины давно прошедшей крупной войны, то приходится прибегать к воображению – порождению и формулированию гипотез об этих причинах. При этом используются как эмпирические обобщения относительно уже известных причин подобных войн, так и общие теоретические обобщения геополитического, геокультурного, социально-политического, психологического характера. Соответственно этим теориям и производится концептуализация гипотез. Далее предпринимаются попытки их проверки через известную логику вывода и тестирования эмпирических гипотез путем их сопоставления с фактами. Для социального прошлого, в частности, используются этапы и процедуры систематического сравнения специально выделенных исторических случаев, прописанные в методе теоретической истории.
Петр Панов: Мы «воображаем» опосредующие причины, на мой взгляд, точно так же, как и непосредственные. Если понимать познание как процесс мысленного упорядочивания эмпирической действительности, мне представляется, что оно неизбежно связано с «воображением». Под «воображением» в данном случае понимается не любая творческая «фантазия», а интеллектуальное предприятие, которое нацелено на упорядочивание наших представлений о мире с помощью определенных логических процедур (корректность аргументации, методологии и т.п.). Такое упорядочивание предполагает логически выверенные описания и объяснения, а значит – «выявление» различных форм взаимосвязей между явлениями, в том числе причинных.
Насколько оправдана гипотеза о том, что эвентуальной «субстанцией» или «природой» поля, опосредующего причинение, могут быть нечто подобное воображаемости, которой был посвящен выпуск МЕТОДА за 2012 г.?
Владимир Авдонин: Действительно, воображаемость как способность соединять однородное и разнородное и воображение как способность превращать одно в другое связаны с причинностью. Они конструируют новое, порождают причинные цепочки. Эти способности может, накапливаясь, прерывать постепенность, порождая внезапный конструкт, концепт, новую форму, понятие.
Михаил Ильин: Воображение и память можно рассматривать как атрибуты, а точнее, спутники разворачивающейся темпоральности. Собственно память и воображение как раз и создают «чудо порождения». Его можно трактовать и как «игру воображения». Впрочем, и как «игру памяти» тоже. А можно считать воображаемостью. Думаю, что это терминологически лучший вариант.
Иван Фомин: Наш ум неустанно выстраивает имагинативные связи между всевозможными объектами – конструирует отношения означивания, отношения осмысливания, отношения каузальности. И остановить эту интенциональную работу, пожалуй, можно лишь в результате особой внутренней медитативной практики.
Связывающая работа ума отнюдь не всегда рациональна. Бессознательные ассоциации суть тоже результаты такого имагинативного связывания.
Можно ли предположить, что в воображаемости как носителе причинности и заключены как формоообразующие, ограничивающие, упорядочивающие способности и свойства, так и случайные или следовые границы и формы.
Николай Розов: В этой смелой метафизической гипотезе соединяются в едином «бытии» объективное поле опосредующих причин (онтологические сущности) и субъективная воображаемость (гносеологические образы реальности). Такого рода попытки слияния онтологии и гносеологии не новы, они характерны для досократиков (Парменид и Гераклит), Платона и неоплатоников (Прокл, Плотин), буддийской философии (Нагарджуна, Асанга), арабской философии (ал-Газали), средневековой схоластики (Ансельм), мистики (Экхарт), Гегеля и гегельянства (Брэдли), Маха и махизма, Бергсона и Брентано, Гуссерля и всей феноменологической традиции, раннего Витгенштейна, теоретического экзистенциализма Сартра и фундаментальной метафизики Хайдеггера. В философии физики идеи единства реальности и наблюдения относятся к той же линии преемственности. Несмотря на столь солидные имена и авторитетные традиции, на мой взгляд, фундаментальное гносеологическое различение (субъект – объект, наблюдатель – наблюдаемое, образ предмета – предмет) хоть и не является абсолютным, неизменным, но для развития познания, для науки и методологической рефлексии совершенно необходимо. В связи с этим считаю предпочтительным отдельно говорить о поле опосредующих причин (онтология, предмет исследования) и о воображении, воображаемости (гносеология, образы, представления о предмете).
Опосредующие причины и их «поля» предельно разнообразны, сложны, различаются по множеству признаков, в том числе, по характеру и силе воздействия. Воображаемые модели и гипотезы относительно этих причин и полей эффективны в познавательном плане тогда, когда обладают ясностью, отчетливой понятийной конструкцией, что всегда предполагает существенное упрощение реальной сложности.
Петр Панов: Если говорить о «мыслительном поле», думаю – да, гипотеза вполне оправдана. Более того, мне представляется, что воображаемые взаимосвязи между явлениями – это отнюдь не только продукт «ума», который стремится упорядочить эмпирическую реальность. Социальная реальность (по крайней мере, во многом) сама является продуктом такого воображения. Речь идет о том, что Бенедикт Андерсон писал в книге «Нации как воображаемые сообщества». Так или иначе понимая (воображая) социальный мир, люди и ведут себя в соответствии с этим пониманием. Здесь наблюдается сложное переплетение. С одной стороны, социальные представления (воображение) возникают на основе «размышлений» об уже существующей социальной реальности, с другой стороны, социальная реальность – продукт соответствующих социальных представлений, т.е. «воображаемое» оказывается причиной эмпирических явлений. И здесь, кстати, мы снова наблюдаем «бесконечность» в причинных объяснениях. Почему люди ведут себя так или иначе? Потому что они воображают нечто такое, что «порождает» соответствующее поведение. Но это ставит следующий вопрос: а почему они именно это воображают? Почему именно такое воображение (такой образ реальности) получило распространение, признание? И так далее.
При этом, разумеется, никогда не было и, вероятно, не будет какого?то одного, унифицированного мыслительного образа этой реальности. Напротив, имеет место конкуренция различных представлений, и какие-то из них, овладевая умами, становятся «движущей силой» в социальном конструировании социальной реальности. Вообще говоря, социальные науки должны учитывать эту возможность (и действительность) разнообразия социальной реальности. Потому те теории, которые претендуют на универсальные объяснения, и вызывают некоторое подозрение.
Что можно сказать об этой «природе» воображаемости?
Владимир Авдонин: Можно усмотреть в воображаемости сходство с интеллектуальной интуицией Декарта, самопорождающим и самопознающим духом Гегеля или синтетическим a priori Канта. Впрочем, все три эти версии слишком рационалистичны в духе классического Модерна. Возможно, «воображаемость» ближе к постмодернистскому и постструктуралистскому тренду, к аморфности, нечеткости, слабой структурированности, мозаичности. Если продолжить образные аналогии, ее можно уподобить океану Соляриса, коль скоро она способна порождать как строгие логические конструкты, подобные доказательствам математических теорем, так и фантастические видения «игры воображения».
Михаил Ильин: Воображаемость делает отдельные случайности совокупно неслучайными. Люди пытаются понять и объяснить мир, делая тем самым и его в целом, и отдельные его проявления неслучайными, воображенными, понятыми, объясненными.
Иван Фомин: Воображаемое действительно слабоструктурировано, поскольку существует в состоянии «всевозможности». В нем можно лишь пытаться усмотреть некоторые базовые врожденные (архетипические) или сконструированные (социальная воображаемость) силовые линии. И эти линии не столько предопределяют продукты, производимые из всевозможности воображаемого, сколько тем или иным образом эти продукты систематически искривляют.
Во всевозможности воображаемого берет начало все, что сконструировано. Лишь благодаря воображаемому возможно оперирование знаками, поскольку для их использования необходимо вообразить связь между знаком и смыслом, смыслом и значением. Также благодаря воображению становится возможно и воображение многих других связей, из которых и соткан человеческий мир, – связи между причиной и следствием, субъектом и объектом, завязкой и кульминацией, прошлым и будущим, желаемым и действительным и т.д.
Петр Панов: Рассматривая «природу» воображаемости, я бы, в первую очередь, провел различение между индивидуальной и социальной воображаемостью. Социальное воображаемое, как мне представляется, является для индивида ограничением его свободы. Социализированный индивид мыслит (и тем самым воображает мир) социальными категориями, мифами, стереотипами и т.п. Он по определению не свободен от них. Ключевая загадка, на мой взгляд, в том, как, когда и почему в рамках этих ограничений, т.е. «социальной несвободы», у субъекта возникают новые идеи. Связь воображения и свободы, как мне кажется, проявляется не в любом воображении, а именно в таких творческих актах – воображении нового, такого, что прежде не воображалось. И это в полной мере относится к научному творчеству, когда исследователь обнаруживает новые взаимосвязи между явлениями, предлагает новые объяснения, создает новые теории и т.д.
Если воображаемость – «клей мира», поле, субстанция, «кривизна», пронизывающая пространство, то насколько она все же может быть подчинена строгой форме, структуре, логосу, причинной необходимости, а насколько – свободна, бесформенна, случайна?
Владимир Авдонин: Отвечая на этот вопрос можно отталкиваться от «Логики случая» Кунина. В этом случае постулат бесконечности пространства и времени с логической необходимостью порождает представление о бесконечных случайностях, которые порождают бесконечное число процессов и форм в бесконечном числе вселенных. Скрыта ли в воображаемости логика бесконечных случайностей, а в ее фундаменте релятивистский тезис – «возможно все»?
Николай Розов: Здесь «свобода, бесформенность и случайность» относятся как раз к сложной реальности причин, а «строгая форма, структура, логос» – к описывающим эти причины понятийным и логическим конструкциям. Наиболее продуктивным способом представления причинности показал себя подход К. Поппера и К. Гемпеля, когда причинная необходимость (предмет, онтология) представляется как логическая дедуктивная необходимость в формулировках гипотез и теоретических положений (образ, описание предмета, гносеология). Можно вспомнить классическую статью К. Гемпеля «Функция общих законов в истории».
Петр Панов: Мне кажется, любая творческая воображаемость возникает все же в некоем социальном контексте. Гипотетически можно вообразить все что угодно и как угодно, но чтобы «это» вышло за рамки индивидуального сознания, оно должно быть воспринято, понято и (потенциально) принято другими людьми. То есть и творческая воображаемость не абсолютно свободна. По форме, структуре и т.д. продукт творческого воображения должен соответствовать принятым нормам, образцам. Если, например, говорить о современном научном творчестве, новые («открываемые») взаимосвязи, теории должны выдерживать проверку принятыми в данной парадигме принципам. Разумеется, парадигмы трансформируются и сменяются, но и это происходит не по мановению палочки, а представляет собой результат социальных взаимодействий.
Существуют ли в пластичном и изменчивом пространстве воображаемости пределы и границы причин и причинности? Как соотносятся пределы причинности с упорядоченностью мира форм?
Николай Розов: Это «пространство воображаемости», если вообще существует, не только «пластично и изменчиво», но также крайне зыбко и расплывчато, так что вряд ли обладает какими-либо четкими границами.
Пределы, или границы, причинности в «пространстве воображаемости», как сказано выше, не существуют. А вот в реальности такое словосочетание вполне может быть осмыслено: предел причинности некоторого явления (процесса, фактора) находится там, где сила причинного воздействия становится малой до неразличимости.
«Мир форм» как идея, видимо, происходит от платоновских эйдосов, аристотелевских форм, схоластических универсалий, лейбницевских монад, кантовского ноуменального мира, маховских элементов, шпенглеровских архетипов и гуссерлевских феноменов сознания. Если таковой и существует, то каждой форме приписаны и пределы причинности (например, Творцом). Весь этот платонизм с его последующими аватарами, мягко говоря, сомнителен, хоть и перманентно соблазнителен (о чем свидетельствует постановка вопроса).
А что же есть вместо него? Прежде всего, существует окружающий нас материальный мир, данный нам прямо через органы чувств, или через посредство приборов, или через надежную, проверяемую теоретическую интерпретацию данных, получаемых этими приборами (микрочастицы, далекие звезды, планеты, галактики), а также социальный и культурный миры, скрытые сущности и процессы которых открываются нам через специальные методики наблюдения, обобщения, анализа, реконструкции (методики в социальных и исторических науках – аналоги приборов в естествознании). В этих мирах происходят разные процессы, в том числе, однотипные, подчиняющиеся сходным законам: физическим, химическим, биологическим, социальным, культурным. Поэтому возникают и сходные формы: окружности, эллипсы, прямые отрезки, концентрические круги, спирали, волны, шары, капли, древесные, сетевые структуры, циклы, подъемы и падения и т.п. Обобщение морфологического сходства таких феноменов вполне может приводить и приводит к идее «мира вечных форм». Однако приписывать этим формам причины и «пределы причинности» не следует. Причинность характеризует сами процессы (от физических до социальных и культурных), а не сходства порождаемых этими процессами форм.