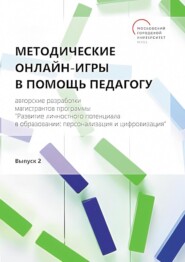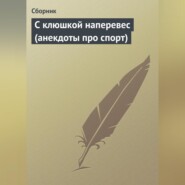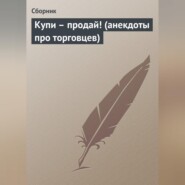По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя революция. События 1917 года глазами русского офицера, художника, студентки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства, революционера
Автор
Жанр
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
, особенно прославившийся своим участием в убийстве Распутина. Немало мечется юношей определенно семитического типа. Особенно поражает меня один – ярко-рыжий, с взлохмаченными волосами и с эспаньолкой. Наконец возвращается Неклюдов и тащит за собой члена правительства – единственного, которого он отыскал и на которого ему «удалось наложить руку»; остальные уже все отбыли в Мариинский дворец. И это оказывается не кто иной, как наш милый С.И. Шидловский, – с потемневшим до неузнаваемости, изнуренным лицом, едва от усталости держащийся на ногах, одетый в свой неизменный рыжеватый, грубого английского сукна костюм. Читает (посылая, вероятно, нас про себя ко всем чертям) наше предложение и говорит: «Это, очевидно, будет сейчас же принято, но надо вам обратиться к князю Львову». Наскоро прощается и убегает.
Мы снова как бы брошены, но все же на сей раз у нас уже имеется два добровольных покровителя – помянутый Неклюдов и один из приставленных к нашей группе еврейчиков, сильно напоминающий тех, с наклеенными усами и темными очками, детективов, которые встречаются в комических американских фильмах. Еврейчик берется служить нам путеводителем, и мы следом за ним вместе с г-ном Неклюдовым отправляемся дальше. Через три комнаты и два коридора попадаем в нечто похожее на официантскую или буфетную, заставленную шкафами и примыкающую к кухне, откуда все время девушки, заглядывающиеся по дороге на Шаляпина, выносят подносы с бесчисленными стаканами чая. И тут сидят почтенные, плешивые, заморенные «помещики».
Однако еврейчик № 1 вовсе не для них привел нас в этот закоулок, а для изготовления нового, «более действенного» обращения нашей депутации к «главе правительства». За составление этого обращения тут же и берется сам его приятель, кудластый Миша (так он представился: «Зовите меня Миша»; позже мы узнали, что его фамилия Гуревич), который с ужимкою трагика, играющего роль Фиеско (а то и Наполеона), быстро добывает несколько листов бумаги, расчищает стол и начинает диктовать – однако уже не «обращение к кн. Львову», а нечто вроде указа за подписью самого Львова. Это обращение он озаглавливает словами: «Постановление от имени председателя Совета министров». Эту бумагу он вручает Горькому со словами: «Теперь вам остается только ее подсунуть для подписи». Горький, Шаляпин и мы все покорно выслушиваем это наставление, причем никто из нас понятия не имеет, кто этот самозваный редактор. Неклюдов, который, впрочем, по склонности русского барина к скоморошеству, видимо, наслаждается такой нечаянной потехой, не знает и еврейчика № 1, но это выясняется позже, тогда как нам сначала кажется, точно эти все люди сплочены одним, и очень важным, делом.
В бумаге говорится (от имени кн. Львова), что нам предоставляется право образовать специальную милицию для охраны памятников и музеев, а также право издавать потребные для той же цели распоряжения и т. д. Ничего подобного мы не просили, и «получение» подобных правомочий представилось нам неожиданностью, однако ни у кого из нас не хватает решимости противостоять прыткости и апломбу нашего инструктора, и мы слепо сдаемся стихии, которая сразу нас и выносит через коридоры во двор и наконец выпихивает меня, Шаляпина, Неклюдова и еврейчика № 1 в чей-то, откуда-то для нас раздобытый Гржебиным, автомобиль. Остальные отправляются нас ждать к Манухину
, у которого мы все должны обедать. Автомобиль оказывается реквизированным у наших знакомых и соседей по улице Глинки, гр. Мордвиновых! Горький отстал от нас еще во время последних переходов в Таврическом дворце, но все же прибыл в назначенное место на какой-то другой машине.
Едем по ухабам неубранного и только утоптанного снега. То и дело встречаются манифестации с красными флагами, с лозунгом «Земля и Воля» и с заунывным похоронным пением «Русской Марсельезы». Довольно жалкое и унылое впечатление. На Литейном проспекте нас останавливает милиционер-гардемарин и требует, чтобы мы позволили раненому из лазарета и его здоровому товарищу примоститься на подножке машины и чтоб мы довезли их до Чернышева моста. На улицах масса народу, исключительно пешего, часто встречаются пикеты вокруг пылающих костров; доносятся возбужденные крики или отрывки речей среди митинговых сборищ.
В нашем густо заполненном автомобиле идет разговор. <…> Неклюдов слышал, что в Кронштадте матросы перерезали семьдесят офицеров, трупы их выбросили на лед и «торжествующий пролетариат» не разрешает их хоронить. В Гельсингфорсе тоже беспорядки, 12 офицеров убито; это особенно тревожит Неклюдова, так как там у него дочь замужем за офицером. Вот тебе и «бескровная»! (До сих пор в нашей революции люди особенно любовались «отсутствием крови» – не то что французская – Великая.) Опять-таки по слухам: царь оставлен на свободе и уехал в Ставку прощаться с войсками, и оттуда же приходят известия, что солдаты отказываются отпустить своего верховного вождя и готовятся защитить его или умереть вместе с ним. Ходят и самые противоречивые слухи относительно отречения. Меня особенно поражает тот совсем равнодушный, беспечный тон, с которым Неклюдов рассказывает об этом и говорит о возможности реставрации Николая II.
Целью нашей поездки оказался вовсе не Мариинский дворец, а здание Министерства внутренних дел (точнее, Совета этого министерства), находящееся за Александрийским театром, насупротив здания Театральной дирекции.
Здесь имеет временное пребывание новый Совет министров, иначе говоря, Временное правительство. Автомобилей перед подъездом не больше полудюжины (видно, мало еще кто знает, где устроилось правительство). Почти пустая раздевалка. Прекрасная классическая россиевская[128 - Историческое здание Министерства внутренних дел Российской империи было построено в 30-е гг. XIX в. по проекту итальянского архитектора Карла Росси.] архитектура. Тусклое освещение. Пальто снимают услужливые сторожа – точь-в-точь как только что они их снимали с Кассо
или со Столыпина
. В качестве вооруженной охраны всего два караульных солдата со штыками у входа на широкую парадную лестницу и несколько прапорщиков или юнкеров на ее площадке. Не дойдя еще до нее, мы знакомимся с «новым министром Двора» – точнее, с исполняющим эту должность Н.Н. Львовым (не князем).
Сразу узнал известный тип русского барина – из категории милых выродившихся или ramollis[129 - Впавших в слабоумие (фр.).]. Лицом похож на Сазонова или на Сержа Волконского
. Жеманистые манеры. Тощий, длинный, несколько развинченный. Характерна манера: поминутно, внезапно среди фразы как-то припадать к собеседнику с просьбой «Дайте папиросочку», получив которую он судорожно и закуривает. Темный, странно темный цвет лица и рук. Репутация у Львова – «кристаллически честного земца»; пусть она за ним и остается, но, несомненно, он никуда не годится как деятель в настоящий критический момент, да еще в такой сложной сфере, как (бывшее) ведомство Двора. А кроме того, он сразу производит впечатление человека недалекого ума. Познакомившись с Шаляпиным, он сразу начинает мямлить, в тоне слегка покровительственном, какие-то комплименты, как-де он любит Шаляпина в «Борисе», как умно Шаляпин ведет сцену в тереме и т. д. Познакомившись с целью нашего приезда, Львов утверждает, что это касается именно его, берет нашу бумажку, еле знакомится с ее содержанием и сразу соглашается с тем, что в ней изложено: «Отлично, я сейчас вам ее подпишу» (все это происходит еще на тех же ступенях лестницы, на полпути к средней ее площадке!). Однако в самый этот момент появляется откуда-то Горький (приехавший за несколько минут до нас и сразу занявшийся не нашими делами, а хлопотами за каких-то евреев, уже успевших им овладеть) и настаивает, чтоб бумагу подписал председатель Совета, с чем Н.Н. Львов моментально соглашается.
Теперь мы наконец на верхней площадке лестницы; под строго классической колоннадой посреди высокая дверь – в зал Совета. Из дверей коридора справа выходит группа лиц с понурым и сумрачным Гучковым
и с юным сияющим красавцем М.И.Терещенко во главе. Слева же к средней двери в зал пробегает белый как бумага Милюков, – он, обыкновенно обладающий удивительно цветущим видом. Терещенко, заметив Шаляпина, направляется к нам. Он весь какой-то улыбчивый и держит себя не как демократический министр, а как милостивый принц. Однако говорит совершенно осипшим голосом. Остальных из этих внезапных вершителей судеб не примешь за сановных министров, а скорее они производят впечатление каких-то дожидающихся своей очереди просителей.
Все это время я не переставая ищу глазами того, кто меня более всего интересует… Где же Керенский?! Наконец я спрашиваю о том Терещенко. «Да вот он – там, под колоннами», – указывает он мне на «очень молодого человека», беседующего с Гучковым, сидя на скамейке для сторожей у дверей в зал, и я узнаю в нем того беспокойного, стремительного «юношу», который уже не раз за прошедшие три четверти часа проносился мимо меня и которого я принимал за какого-то чрезмерно усердствующего писаришку. Я не откладывая направляюсь к нему, чтоб лучше его разглядеть, но в это время он срывается с места, расталкивает и огибает группы, прямо подбегает ко мне с протянутой рукой и быстробыстро говорит: «Здравствуйте, я – Керенский, пойдемте, здесь невозможно говорить!» Вероятно, на меня ему указал Горький или Гучков в какой-то не замеченный мной момент.
Пожав, все с той же поспешностью, руки остальных, он как-то сбивает нас в одну кучу и почти бегом проводит нас через три комнаты в отведенную ему невзрачную комнату в одно окно – имеющую вид не то приемной, не то лакейской. С нами в одной куче, кроме меня, Шаляпина, Неклюдова и Львова (Горький опять куда-то исчез), оказывается совершенно нам незнакомый и до тех пор не замеченный человек; это близкий приятель Керенского – инженер П.М. Макаров
. Не успели мы рассесться – частью на двух креслах, частью на боковом деревянном диване, а Керенский за невзрачным письменным столом, – как последний принялся говорить, и почти сразу разговор принял какой-то обостренный характер и переходит в спор.
Создается атмосфера, напоминающая безумные главы в романах Достоевского. От природы уже испитое лицо Керенского сегодня показалось мне смертельно бледным. Совершенно ясно, что этот человек уже много ночей совсем не спал. Выражение лица кислое – но ему это вообще свойственно, он, видимо, очень редко улыбается, пожалуй, никогда не смеется. На нем черная, застегнутая до самого ворота тужурка, что придает ему несколько аскетический, но и очень деловой вид. Говорит он громко, моментами крикливо, высоким фальцетом, с головокружительной стремительностью и с легким пришепетыванием (происходящим от поджима нижней губы). Изредка внезапно среди фразы он останавливается, кладет голову на ладонь, закрывает глаза, точно засыпает или впадает в обморочное состояние, но затем снова пускается вскачь, продолжая начатую и оборванную на полуслове фразу. После только что нами отведанной бездари и просто российской вялости Керенский производит необычайно возбуждающее впечатление, и определенно ощущается талант, сила воли и какая-то «бдительность». О да! Это прирожденный диктатор!
Но спокойно с таким человеком едва ли можно что-либо обсудить, и постепенно наша беседа сразу переходит в спор, тем более что Н. Львов с момента входа в комнату Керенского стал неузнаваемым. Из ласкового, утрированно-вежливого джентльмена он превратился в какого-то петуха, злобствующего и пробующего наскочить то с одной, то с другой стороны на противника. Видимо, он в своих дворянских чувствах в высшей степени оскорблен, что какой-то «мальчишка», не дворянин и ничтожество, вдруг позволяет себе им «распоряжаться».
Львов сразу стал отказываться от своего только что полученного поста, после того как Керенский, уже посетивший сегодня Зимний дворец для решения, годится ли дворец как помещение для Учредительного собрания (он решил, что не годится), поручил дальнейшее наблюдение за дворцом Макарову, не потрудившись посовещаться с ним, Львовым, об этом. Бедный Львов, запинаясь от волнения и возмущения, это ему и поставил на вид и объявил о своем отказе от поста. На это Керенский, повысив тон, заявил, что Львов не может отказаться, и тут Львов стал кричать: «Как так! Не могу? Кто может запретить? Дайте папиросочку. Да вот я и отказываюсь. Я отказываюсь, и баста! Никто в мире, и менее всего вы, не может мне в этом препятствовать!»
И действительно, остается необъяснимым, почему не только Зимний дворец, но и все дела Министерства Двора оказались вдруг в ведении Керенского. Разве только потому, что он уже на пути к диктаторству? Неклюдов мимоходом шепнул мне: «О! Он поразительно талантлив, он единственный из них из всех (намекая на министров), который что-нибудь делает!» И вот поэтому Керенский и на пути к диктатуре. Остальные как работники никуда не годятся, и естественно, что вся работа должна фатально сосредоточиться в его руках!!
При этом я не могу упрекнуть Керенского в определенной и оскорбительной бестактности. <…>
Не могу скрыть от себя, что во всем поведении, во всей манере быть и в разговорах Керенского много наигрыша, «каботинажа», но актер он, во всяком случае, неплохой. Кроме того, я думаю, что известный каботинаж, при подлинном уме и прозорливости, вещь для государственного деятеля не столь уж и плохая…
Из дальнейшей беседы выяснилось, что Керенский нашел Зимний дворец в образцовом порядке, что Царскосельский дворец (который он тоже уже успел посетить) он поставил под надежную охрану и что вообще приступил к урегулированию всей деятельности по бывшему Министерству Двора. <…>…К нашему выступлению он отнесся «с величайшей благодарностью» и высказал разные общие пожелания успеха. Для него это действительно козырь, заключающийся в том, что он может как бы опереться на целую группу лиц, пользующихся авторитетом в данной области. И все же, что именно он от нас ждет, он так и не высказал, а са мая наша беседа оборвалась внезапно после того, как в дверях появился какой-то курьер, вызвавший Керенского в Совет. Стремительно собрав разложенные перед собой бумаги, Керенский сорвался с кресла и, ни с кем не простившись, ринулся вон из комнаты…
Обедать нас потащил к себе Неклюдов, живущий на Михайловской площади, в особняке через дом с особняком покойного П.Я. Дашкова
, а по другую сторону с Михайловским театром. <…>
Самое наше (первое!) заседание состоялось в другой (небольшой) столовой, в нижнем этаже, за красным сукном. Занялись мы сразу составлением «обращения к массам», направленного к предотвращению «вандализмов». Из четырех текстов Горького, моего, Шаляпина и Билибина
, как это ни странно, наиболее удачным и целесообразным оказался последний. Затем Шаляпин ознакомил нас со своей несколько туманной мечтой о новом театре, и, наконец, было решено целой группой отправиться в Петергоф, чтоб убедиться на месте, что все там в порядке.
Уже мы собирались расходиться, когда около полуночи нежданно-негаданно вваливается группа из четырех человек – представителей Общества архитекторов-художников, откуда-то узнавших о нашем собрании и поспешивших явиться под видом ближайших союзников и с призывом к вящей осторожности, как бы де нам не навлечь на себя обвинение в самозванстве. Возник нелепейший разговор, который стал грозить перейти в ссору <…>. И в этой глупейшей интермедии мне с ясностью представились вообще те испытания, которые ожидают «обновляющуюся Россию». Отовсюду теперь вылезут такие же дилетанты-демагоги. Ведь успела та же четверка предложить где-то услуги по устройству торжественного погребения «жертв революции». Она даже выбрала и самое для того подходящее место: площадь перед Зимним дворцом! Под видом борьбы за свободу, за «коллективное начало» и пуская в ход всякие новые для них же лозунги, они пролезут до нужных им вершин, и станут эти репетиловы и Хлестаковы оттуда только мешать людям более компетентным делать настоящее дело.
Вернулся я домой в половине третьего, проделав весь путь от Михайловской площади до 1-й линии пешком и перейдя Неву по льду. <…>
Всюду полная тишина. Акицу я разбудил и не мог удержаться, чтоб тут же в главных чертах ей не рассказать про наши похождения и поделиться тем воодушевлением, которое в нас вызвала встреча с Керенским. Должен сознаться, что меня пленит даже его столь, казалось бы, неказистая внешность, кисловатое выражение лица, бледность, что-то напоминающее не то иезуита или ксендза, не то… апаша. Именно такие люди, пусть лукавые, но умные, талантливые люди, одержимые бешеной энергией, а не «профессора» вроде Милюкова, или «кристально чистые» джентльмены вроде Н. Львова, или изящные монденные англоманы вроде Терещенко, могут сейчас сделать нечто действительно великое. Уверен, что и в главном вопросе всего настоящего момента, в вопросе о войне, Керенский поведет ту линию, которая сквозила уже в его думских речах. Мне очень захотелось быть в ближайшем контакте с ним. И ему я бы мог быть полезен.
19 марта (6 марта). Понедельник. Может быть, «мы и нужны», но как бы и здесь все не остановилось на добрых намерениях. Это сомнение возникло у меня сегодня, после того, что П.М. Макаров, официально назначенный «комиссаром по дворцам» (что это такое?), сообщил мне о своем намерении пригласить вместо Н.Н. Львова некое лицо из Москвы, имя которого он предпочитает пока держать в секрете. Кто бы это мог быть? <…> Казалось, тут бы и посовещаться совершенному новичку в этой сфере с нами. И почему-то мне кажется, что этот «эстет» Макаров не остановил своего выбора на Грабаре или ином действительно заслуженном деятеле, а опять остановился на каком-то «барине». Вообще, увы, ничего особенно хорошего я уже от него (да, пожалуй, поглядев вчера на всех наших «вознесенных до высшей власти») и от всего Временного правительства в целом, от всяких этих наших типично российских «либералов», не вижу!
Сегодня <…> я отправился на второе заседание у Неклюдова. Кстати, я совершенно убежден, что и этот «парламентарий без места» хочет с нашей помощью найти себе какое-либо амплуа вблизи высших правительственных кругов. <…>
Заседание прошло в обсуждении, каким образом правительство должно нас утвердить – под названием «Комиссии по художественным делам». Составлена новая бумага с предложением нашего сотрудничества… И снова тревога, так как, по слухам, хоронить «жертв революции» собираются на площади Зимнего дворца, где со временем предполагается соорудить грандиозный памятник. Ввиду этого памятника так и захлопотали господа архитекторы. Тут является и опасность, как бы стотысячная толпа, которую привлечет погребальное шествие, под влиянием каких-либо шалых демагогов не ринулась бы на самый дворец и заодно на Эрмитаж! <…>
Встревожили нас (меня в особенности) и известия, полученные (наконец!) из Петергофа. Местная автомобильная рота, помещенная в Придворных конюшнях, объявила, что она не желает дольше оставаться в этом здании (считая такое помещение ниже своего достоинства «освободителей народа»), а требует, чтоб ей был отведен сам Большой дворец. <…>
20 марта (7 марта). Вторник. Вихрь, захвативший меня, крутится все быстрее и быстрее, и это лишает меня возможности вести эти записи с достаточной последовательностью и полнотой. <…>
В.А. Верещагин
затащил меня <…> к себе «выпить стакан красного вина». У него оказалась сравнительно молодая супруга, не поразившая нас особым изяществом своих манер. Вряд ли можно назвать ее дамой. Сам Василий Андреевич, видимо, уже оправился от первого испуга. Впрочем, я всюду замечаю тот же тон «приходящего в себя обывателя», уже решившего, что худшее миновало, что можно считать революцию недействительной. Слышатся даже первые проблески пропаганды не только в пользу монархии вообще (против чего я ничего не имею), но и в пользу лично Николая II.
<…>
В кухне тоже перемена настроения. Недавно все четверо наших кухонных дам пылали негодованием на полицию, а нынче уже плачут над погибшими городовыми. Всех тронули умилительные похороны этих «обратных жертв революции». Мне эта расправа с полицейскими представляется самым темным пятном на порфире нашей «бескровной». Извели людей за то, что они были верны своему долгу!
21 марта (8 марта). Среда. Сегодня наконец состоялась наша поездка в Петергоф. Дивный яркий день без ветра. Выбрался из дому за полтора часа, ибо и на сей раз пришлось шагать через весь город пешком. Извозчики совершенно исчезли, трамваи еще не ходят. При входе в Балтийский вокзал грозные пулеметы. На вокзале, битком набитом солдатами, с трудом отыскал Макарова. Ехали (в вагоне 1 класса, но без билетов) и туда, и обратно стоя, так как все сидячие места заняты солдатами или их поклажей. Дышать почти нечем. Однако поезд (в 10 ч.) отошел без запоздания. <…>
В Петергофе все как будто обстоит вполне благополучно, хотя насмерть перепуганный генерал Лермонтов
, произведший на нас впечатление порядочной развалины, ничего со своей стороны не предпринял для ограждения дворцов. Лишь одна шальная пуля от проходивших мимо
Большого дворца ораниенбаумцев пробила где-то окно. Однако настоящих сведений о далеко лежащих дворцах и павильонах – о Собственной Его Величества даче, о Бабигонском Бельведере, о Павильоне Озерков, о Мельнице и т. д. – он вообще сообщить не мог (ну как самому не прокатиться и не поглядеть собственными глазами!). Более осведомленным оказался архитектор Миняев, который уже вошел в контакт с новыми городскими властями (исключительно военными, солдатскими) и даже «отлично с ними ладит». С ним мы и проехали к «папашиным»[130 - Императорские конюшни в Петергофе были построены в середине XIX в. Николаем Леонтьевичем Бенуа, отцом Александра Николаевича Бенуа.] Придворным конюшням – со специальной целью урезонить автомобильную и циклистскую роты, имеющие намерение завладеть Большим дворцом. Как раз попали на приготовления к затеянному «дозору» по дворцам с целью поисков оружия (это якобы для успокоения населения!). Я был польщен тем, что среди толпы этой военной молодежи сразу оказалось несколько юных «прапоров», для которых мое имя было знакомо и которые что-то из моих писаний читали. Добрый знак. Вообще же удалось необычайно быстро договориться по всем пунктам. Все оказались вполне сознающими важность сохранения такого сокровища, каким является в целом Петергоф, и сразу наметилась организация самой охраны. <…>
22 марта (9 марта). Четверг. <…>
Уже сняты бронзовые золоченые орлы с ворот, ведущих во двор Зимнего дворца; на воротах же в сад при дворце они еще красуются.
23 марта (10 марта). Пятница. <…> Утро снова провел в составлении проекта по реформе Эрмитажа. Мне главным образом хотелось бы сделать наш музей более доступным массам, и, имея это в виду, нужно первым долгом в корне реформировать Эстампный отдел. Вернулся я и к реализации своей заветной мечты о создании Историко-бытового музея – и это в Зимнем дворце.
<…>
Удивительно, как незаметно во всей заварившейся сутолоке проходит известие об аресте царя. Возмутительны все те пакости и пошлости, которые теперь изрыгают по адресу этого «лежачего» всякие негодяи <…>.
Другие электронные книги автора Сборник
Мой край




 0
0