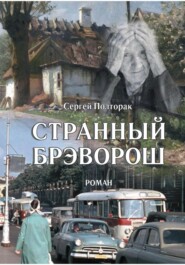По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собаки на заднем дворе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несколько дней я не мог насмотреться на фотографию Лены. Я неожиданно для себя запомнил все стихи Николая Рубцова из подаренного мне сборника. Эти свои драгоценности вместе с открыткой, подаренной Леной, я хранил дома, на нижней полке своего письменного стола, зная, что родители туда не заглядывают никогда.
Накануне 8 марта мальчишки нашего класса поздравляли девочек и учителей, поскольку все они, за исключением Лютикова-старшего, были женщинами. Учителям мы дарили по три красных тюльпана, которые с трудом сумела раздобыть для класса мама Сашки Отливкина, а девочкам разложили за их партами свои подарки и открытки. За пару дней до этого мне удалось заручиться разрешением Клавдии Сергеевны сделать подарок Лене Вершининой, поскольку поздравить ее хотели многие. Не найдя каких-либо веских аргументов в свою пользу, я свалил все на Лая, сказав, что хочу осуществить давнюю мечту Лены – подарить ей портрет своей собаки, которую она очень любит. Довод показался Клавдии Сергеевне вполне убедительным. Желая показаться Лене если не интеллектуалом, то хотя бы не полным идиотом, я подарил ей книгу со странным названием «Чехословакия смеется», полистав которую, я, честно признаться, так и не понял, над чем смеялись жители этого симпатичного государства. Уж всяко не над тем, что произошло у них в стране пару лет назад, в 1968 году. Как ни странно, Лене книга понравилась, а фото Лая она повесила у себя дома на стене над своим письменным столом. Я немного завидовал своему псу, ведь на него часто поглядывала лучшая девушка на свете.
Сразу же после 8 марта началось сумасшествие под названием «подготовка к 100-летию Ленина». Вернее, готовились-то к нему в стране давно, но подготовка вышла, что называется, на финишную прямую. Юбилею посвящались телефильмы, радиопередачи, газетные передовицы, трудовые вахты, полеты в космос, спортивные достижения, отличная учеба студентов и школьников. Складывалось ощущение, что Владимир Ильич – самый близкий родственник каждой советской семьи.
22 апреля 1970 года отец пришел домой после торжественного собрания на заводе с испуганным лицом, чего я прежде не видел никогда. Он протянул маме прозрачную пластмассовую коробочку, в которой лежала медалька с изображением профиля Ильича, и озабоченно сказал:
– Рыбкину медаль не дали. Он сказал, что от такой несправедливости повесится. Схожу вместе с Лешкой к нему, поддержу, то да се. Свою ему отдам, если что – триста лет она мне снилась!
Дверь у Рыбкина в квартире была закрыта, но за ней слышался какой-то шум. Отец не раздумывая вышиб могучим плечом дверь, и мы ворвались в квартиру. В комнате на полу с обрывком бельевой веревки на шее сидел Рыбкин. Второй кусок веревки свисал с крюка, на который должна была крепиться люстра. Сама люстра валялась рядом с Рыбкиным и вид у нее был примерно такой же разбитый, как и у самого хозяина квартиры.
– Ты совсем охренел – жизни себя лишать из-за сраной железяки! – заорал на Рыбкина отец. – Повеситься толком не можешь, дебил криворукий! Вставай, подсажу! Попытка номер два, декабрист недоделанный!
Рыбкин что-то бессвязно замычал и стал упираться, с ужасом косясь на оборванную веревку, свисавшую с потолка.
– А, страшно стало?! Почему же не страшно было, когда в первый раз в петлю полез?!
– Там дышать нечем, – объяснил Рыбкин.
– Вот неожиданность какая! – изумился отец. – А ты, значит, хотел повеситься и дышать себе потихонечку? Нет, Рыбкин, ты точно дебил. Ты все свои мозги пропил. Правильно тебе медальку не дали – Ленин вешаться не учил.
– Он и пить не учил! – с ужасом осознал я вырвавшиеся из моего перекошенного от страха рта слова.
– Ого! Африка просыпается! – удивился отец и несильно врезал мне подзатыльник. – Снимай свой галстук и пошли на кухню, – приказал он Рыбкину. – И ты, Леха, не стой стояком. Садись, третьим будешь. Водки не налью, а опыт – перенимай, вальцовщик второго разряда!
Рыбкин всегда казался мне странным человеком. Общительный, жизнерадостный, он почему-то жил один. Вся его семья – пикинесиха Ада и только. Хороший рабочий, он прилично зарабатывал, но в доме его было неуютно и неухоженно. Мне было непонятно, почему из-за какой-то, пускай даже ленинской, медали Рыбкин решил наложить на себя руки. Получалось, что кусочек металла – дороже человеческой жизни?
Отец смотрел на Рыбкина скептическим взглядом и говорил ему тоном Клавдии Сергеевны на классном собрании:
– Вот ты, Рыбкин, умный человек, с третьего курса института выгнанный, неужели ты не можешь понять элементарного?! У нас на весь цех по разнарядке пришло пять юбилейных медалей, так?
– Так, – вяло соглашался Рыбкин.
– Начальнику цеха, передового цеха, между прочим, медальку вручить надо?
– Надо, – согласно кивал Рыбкин.
– Секретарю партбюро – сам Бог велел. Согласен? Рыбкин согласно кивал.
– Вовке Рыбакову – комсомольскому вожаку, горлопану нашему и ударнику труда – надо?
Рыбкин опять соглашался.
– Татьяне Николаевне – матери-одиночке и матери-героине? Ты сам к ней захаживал, помню. Ей что, не надо, не заслужила передком своим доблестным?!
– Заслужила, – вынужденно соглашался Рыбкин.
– Про себя не говорю. Победитель этого долбаного соцсоревнования. Всех в цехе победил и тебя в том числе. Че, и мне не давать?
– Давать, – убежденно сказал Рыбкин.
– Тогда где тебе взять медальку-то? – развел руками отец.
– Вот потому и вешаться пошел. От безысходности. Все чего-то достигли. Вон даже Леха твой: четырнадцать лет, а уже в вытрезвителе побывал!
– На той неделе пятнадцать ему было, – зачем-то уточнил отец. – А то, что ты, Рыбкин, мой лучший друг, что я горжусь дружбой с тобой – это что, бык поссал и высохло, что ли?! – загромыхал отец. Он порылся в боковом кармане пиджака и достал злополучную пластмассовую коробочку. – Считай, что я как член цехкома вручаю тебе эту награду. Как говорится, медаль нашла героя!
– Я так не хочу! Так не честно! – запротестовал Рыбкин. – Давай Леху ею наградим?!
– Да хоть Адку твою, – легко согласился отец, и они бодро выпили.
Медаль, естественно, осталась у отца. Я заметил, что она была ему все-таки дорога. Во всяком случае, он в тот же вечер положил ее в дедов портсигар, служивший ему наградохранилищем. Там уже лежали отцовские ордена – Трудового Красного Знамени и Знак Почета.
Мне искренне было жаль Рыбкина. Он был какой-то сломленный, расфокусированный, что ли. Кроме прогулок с Адой и пьянок с моим отцом в его жизни больше ничего не происходило. Это было неправильно, и я решил сделать его счастливым.
По моему мнению, чтобы счастье настигло Рыбкина, его нужно было женить. Других путей для его счастья я не видел.
Трудно сказать, почему мне пришла в голову эта странная идея. Видимо, сострадание к человеку может порождать какие-то причудливые решения и поступки, мобилизуя скрытые прежде где-то внутри собственной души резервы накопленной теплоты, которой хочется поделиться.
Даже мне, подростку, было ясно, что Рыбкин при всей своей взрослости был глуповат, а, значит, беззащитен перед жизнью. Не могу объяснить почему, но мне нравилась его глуповатость. Мне хотелось его непременно защитить, спасти от одиночества, пока во мне есть силы. Рыбкин всю жизнь жил, как дурак: бросил институт, работал не в полную силу, связался с моим отцом, пристрастился к водке. С этим надо было что-то делать. Я собрал военный совет в лице себя и Лая и произнес фразу, которой удивился сам. Я сказал:
– В отличие от Рыбкина, мы будем действовать – с умом.
Откуда у нас с Лаем должен был взяться ум, я не знал. Но понимал, что без него нам не справиться. Поскольку своего ума у меня пока еще не было, я решил обратиться к интеллектуальному багажу мудрого, как мне казалось, тренера Валерия Петровича. Однажды, видя мое вялое отношение к верховой езде, он вспылил:
– Пойми, невнятный Алексей, что конь и человек – это одно целое! При опыте и таланте они вместе могут совершать чудеса. Хочешь, я сейчас на твоих глазах с помощью вот этого коня, – он похлопал по крупу бесноватого Пижона, – пробегу стометровку с новым мировым рекордом?
– Шутите? – ухмыльнулся я.
– Ничуть! – уверенно сказал тренер и хлестнул коня плетью. Пижон рванул с места по кругу, а Валерий Петрович, ловко ухватив его за хвост сначала одной, а потом и второй рукой, понесся вслед за ним, совершая огромные прыжки. Со стороны это казалось веселым аттракционом, но мне было ясно, что такие выкрутасы требуют сноровки и великолепной физической подготовки. Проскакав таким макаром круг, тренер отпустил хвост коня, пробежал по инерции еще несколько метров и, слегка запыхавшись, подошел ко мне.
– Как впечатление?
– Офигеть! – искренне выдохнул я.
– Старый казачий прием. Меня ему еще в твои годы дед научил – участник Гражданской войны. И за белых повоевал, и за красных. У казаков тогда все непросто было.
Тренер смахнул со лба невесть откуда взявшегося комара и хитро подмигнул мне:
– Какой главный вывод можно из этого сделать?
– Хвост – надежнее веревки! – брякнул я.
– Сам ты хвост, – вздохнул тренер. – Главное в другом: если нет своих сил, используй другие силы. По обстоятельствам.
Эта мысль завалилась куда-то в подсознание, но в момент моих размышлений о судьбе Рыбкина она вдруг вынырнула из небытия. «А что если использовать скорость движения какой-нибудь взрослой женщины, прицепив ее „хвост“ к нерешительному Рыбкину?» – подумал я.
Из всех взрослых незамужних женщин я знал только одну. Это была моя классная руководительница и учительница математики Клавдия Сергеевна. Человеком она была неплохим, совестливым. Внешне она была похожа на некрасивую куклу, сделанную мастерами, не заинтересованными в коммерческом успехе. Как и большинство одиноких женщин, Клавдию Сергеевну отличали подчеркнутая аккуратность и опрятность. Возможно, выработанная с годами этика одиночества и учительская профессия повлияли на формирование ее внешнего облика: она всегда была одета в один и тот же серый костюм. Из-под пиджачка выглядывала светлая, обычно белая, кофточка. Простенькие, без архитектурных излишеств, черные туфли и светло-коричневые капроновые чулки. Из украшений – огромные роговые очки. В общем, обычная школьная мымра.