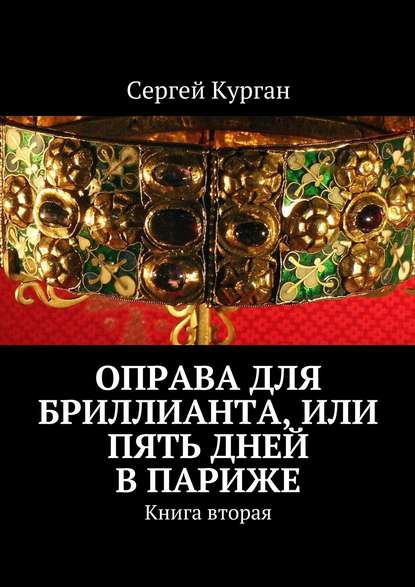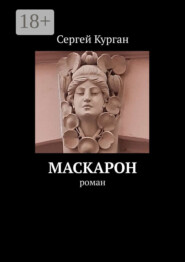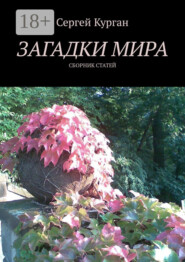По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Оправа для бриллианта, или Пять дней в Париже. Книга вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пеппельман вопросительно посмотрел на собеседника.
– Насчет карнавала… – вновь заговорил Себастьян. – Не могу не сказать вам, что когда я смотрел на Цвингер, я вспомнил карнавал в Венеции – у меня абсолютно самопроизвольно возникла такая ассоциация. На какой-то миг я даже словно бы перенесся туда…
Пеппельман заметно оживился и выглядел взволнованным. Сказанное Себастьяном чрезвычайно заинтересовало и, похоже, тронуло его.
– Вы участвовали в венецианском карнавале… – задумчиво произнес он, и это не было вопросом.
– О да.
– То, что вы рассказываете, очень интересно и важно для меня. Я сам что-то такое чувствовал, но не слишком определенно. Но, видимо, сумел уловить дух и атмосферу театра, галантного праздника.
– Как вы сказали – «галантного праздника»? Мне кажется, я где-то это слышал. Ммм, пожалуй.
– Рискну предположить, что карнавал в Венеции оставил в вашей душе неизгладимое впечатление. Не так ли?
– Неизгладимое… Да, вы правы.
Внезапно его захватил вихрь воспоминаний и завертел, как карусель. Он ощутил легкое головокружение.
– Вижу, у вас остались от этого какие-то тягостные воспоминания, – заметил Пеппельман.
На лицо Себастьяна пала тень.
– Все это было слишком похоже на безумие, – грустно произнес он. – Да и было таковым. Но не стоит об этом. Как говорят французы, «вернемся к нашим баранам». Так вот, знайте: Цвингер неповторим и единственен в своем роде.
– Он – самая любимая моя постройка. Но, право же, не стоит преувеличивать. Настоящий масштаб для сравнения – это классика: Рим, например. Там благородство и монументальность форм. А тут…
– Монументальность? Это да. Но Рим холоден, как собачий нос. Все эти арки, колонны, амфитеатры – все это совершенно не греет душу и вызывает у нормального человека ощущение своей незначительности. Все эти почтенные груды камней просто придавливают к земле. И, в конце концов, почему, если что-то имеет претензию выглядеть благородно, то оно непременно должно лежать в руинах?
Пеппельман рассмеялся.
– А вы не прочь сострить, как я погляжу, – заметил он, отсмеявшись.
– Смех помогает держаться здорового отношения к вещам, – ответил Себастьян, – и не впадать в патетику.
Архитектор пристально посмотрел на него.
– Я именно и придерживаюсь здорового отношения к себе и своему творчеству – то есть, критического, – сказал он.
– Критика не должна вести к самоуничижению, – возразил Себастьян. – И у античной классики, и у рококо есть свои достоинства и привлекательные черты
– На бюргерский вкус, – кивнул головой Пеппельман.
– А хотя бы даже и так! Вкус к классике считается эталонным для образованного человека. Но, собственно, почему? В сущности, все это абсолютно условно, и у образованного человека может точно так же быть вкус к барокко и рококо. И коли вы спросите меня, то я скажу, что рококо куда тоньше и изысканней, нежели греческие статуи, каковые, к слову сказать, быть может, вовсе и не греческие, так как все они дошли до нас исключительно в римских копиях.
– Вы сомневаетесь, что они были сделаны с еще более древних греческих оригиналов? – оживился Пеппельман. – Признаться, я тоже. Более того, у меня такое ощущение, что они далеко не настолько древние, как это принято считать. Конечно, это крамольная мысль, и я делюсь ею только с вами, чувствуя, что дальше вас это не пойдет. В противном случае мне не миновать жестоких насмешек.
– И не только насмешек, – заметил Себастьян, – но и куда худших вещей.
– Да, – мрачно согласился Пеппельман, – и худших тоже…
– Именно. И эти люди – законодатели вкуса? Его ревнители?
Риторический вопрос повис в воздухе.
– А что касается герра Ардуэн-Мансара, то я вам так скажу: другие традиции, другие амбиции, другой бюджет. Что вы хотите? Людовик XIV – это не Август Второй, между нами будь сказано.
Пеппельман вновь рассмеялся.
– К тому же, – продолжил Себастьян, – Королю-Солнцу нужно было решить совершенно конкретную и весьма актуальную на тот момент политическую задачу.
– Что вы имеете в виду?
– В детстве ему пришлось пережить Фронду принцев, и это наложило отпечаток на все его царствование. Все эти графы и герцоги сидели по своим провинциям, в своих замках – и бунтовали. И Людовик XIV решил этому положить конец: превратить всю эту знать в придворную, то есть, собрать ее при своем дворе – с тем чтобы она всегда была под присмотром: пусть лучше предаются придворным интригам, чем бунтуют! Но для этого двор должен был быть весьма многочисленным, и где-то его нужно было размещать, как вы понимаете. Отсюда и масштабы. У Августа Сильного же просто не было подобных задач, и он, соответственно, не ставил их перед вами.
– Что ж, – сказал Пеппельман, – может быть, вы и правы.
– Мы, – поправил Себастьян. – Мы правы. Не сомневайтесь.
Он с удовольствием откинулся на спинку кресла и отпил кофе. Напиток был уже совершенно холодным, но Себастьяну он показался вкуснее всего, что он когда-либо пил.
ГЛАВА2
«МИСТЕРИЯ В СИНЕМ»
Дождь, уже превратившийся в ливень, стучал по крыше автомобиля и по капоту, стекал по стеклам, заволакивая окружающий мир почти что глухой пеленой, сквозь которую лишь смутно угадывались тени ближайших деревьев.
…У Ани пересохло во рту, в горле словно застрял комок. Она почувствовала укол в сердце: значит, она похожа. Просто похожа на ту, которую… Закончить эту мысль было выше ее сил.
Достаточно того, что всему теперь конец, и чудеса закончились. Да и не в ее честь, выходит, они творились! Сердце ныло: значит, все-таки, это любовь? Или нет? Хотя, теперь уж все равно: недоразумение разъяснилось, все улеглось по полочкам.
…Недоразумение?! Может ли такое быть? Наверное, может… В глазах засвербило: слезы обиды наполнили их. Нет, не только обиды – еще сожаления. И чего-то еще… Да, оставалось еще что-то – что-то важное. Что-то с чем-то не складывалось. … И почему-то хотелось, страшно хотелось, чтобы все это как раз и оказалось недоразумением, которое вот-вот разъяснится. Может быть, это не то, что она думает? …Но что тогда? Честно говоря, в это не верилось. Но дверь еще не закрыта – Аня буквально видела это – словно ее что-то держало, не давая захлопнуться. Что-то… или кто-то? Серж?
Он смотрел на нее. Аня готова была в этом поклясться – именно на нее! И в глазах его была нежность. И что-то еще… Пожалуй, тревога. Но почему?..
– Анечка, – произнес он тихо, но внятно – легкая хрипота еще слышалась в его голосе, – Анечка.
Он сглотнул.
– Вы должны знать: да, я ясно понял теперь, почему я обратил на вас внимание тогда, в Лувре: что именно «зацепило» мое внимание. И я чувствую удовлетворение оттого что теперь наконец знаю, в чем дело и не должен более ломать голову: что же меня все время подспудно беспокоит, что все время тревожит? Теперь я спокоен – только и всего.
Серж на минуту отвернулся и провел рукой по волосам. Ясно видно было, что он на самом деле совсем не спокоен, наоборот – он волнуется и переживает. Аня смотрела на него и молча ждала продолжения.
– Но ваше сходство, – наконец-то, вновь заговорил он, – было лишь отправным пунктом, поверьте. Меня все эти дни привлекало общение именно с вами, Аня. Я вас узнал за это время, и – будьте уверены – именно в вас я нашел то важное, ценное, более того – жизненно необходимое для меня, что и вызвало у меня особую теплоту к вам.
Глаза Сержа были наполнены светом, они лучились.
– И знайте также: то, что я вспомнил – это давняя история. Очень давняя. И это – проблема вины, трагической ошибки. И непоправимости.