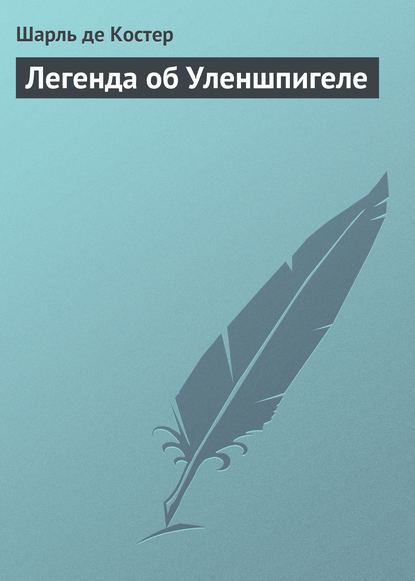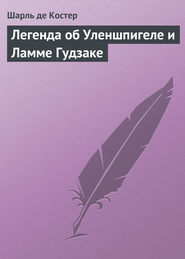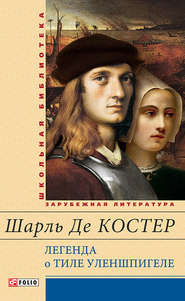По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда об Уленшпигеле
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ламме рассмешили эти размышления.
– Но я не единственный человек на этом свете, согрешивший по неведению, – продолжал Уленшпигель. – Примером тому мог бы служить не один балбес, выпятивший своё сало над седлом. Если мой хлыст согрешил перед твоим задом, ты согрешил перед моими ногами, когда помешал мне перескочить к девушке, которая из своего садика зазывала меня.
– Мерзавец, – воскликнул Ламме, – так это была месть!
– Невинная, – ответил Уленшпигель.
XXI
Одиноко и тоскливо жила Неле при Катлине, которая всё взывала о своей любви к холодному дьяволу. Но тот не являлся.
– Ах, – вздыхала она, – ты богат, Гансик, любимый мой; ты мог бы вернуть мне семьсот червонцев. Тогда Сооткин вернулась бы живая из чистилища, и Клаас обрадовался бы в небесах. Ты можешь! Уберите огонь, душа рвётся наружу; пробейте дыру, душа рвётся наружу!
И она показывала на то место на голове, где жгли паклю.
Катлина была очень бедна, но соседи помогали ей бобами, хлебом, мясом, кто чем мог. Община помогала небольшими деньгами. Неле шила на богатых горожан и ходила гладить бельё и зарабатывала, таким образом, флорин в неделю.
И всё твердила Катлина:
– Пробейте дыру, выпустите душу! Она стучится, чтоб ей открыли! Он принесёт семьсот червонцев.
И Неле плакала, слушая её.
XXII
Тем временем Уленшпигель и Ламме, снабжённые паспортами, заехали в одну корчму, прислонившуюся к прибрежным скалам Самбры, кой-где поросшим деревьями. Вывеска гласила: «Трактир Марлэра».
Выпив несколько бутылок маасского вина, вкусом на манер бургонского, они разговаривали с хозяином, ярым папистом. Хозяин ядовито подмигивал, был болтлив, как сорока, так как хватил лишнего. Уленшпигель, заподозрив, что за этим подмигиванием что-то кроется, всё подпаивал его. Трактирщик, заливаясь смехом, вскоре пустился в пляс. Потом он опять присел к столу и провозгласил:
– Добрые католики, за ваше здоровье!
– За твоё! – ответили Уленшпигель и Ламме.
– За искоренение всякой еретической и бунтовщической чумы!
– Пьём за это! – ответили Уленшпигель и Ламме и всё подливали в стакан хозяину, который не мог видеть его полным.
– Вы добрые ребята, – сказал он, – пью за вашу щедрость, ибо ведь я зарабатываю на вине, которое мы пьём вместе. Где ваши паспорта?
– Вот, – сказал Уленшпигель.
– Подписано герцогом. За здоровье герцога!
– За здоровье герцога! – ответили Ламме и Уленшпигель.
Хозяин продолжал:
– Чем ловят крыс, мышей и кротов? Мышеловками, крысоловками, капканами. Кто этот крот, всё подрывающий? Это еретик великий, это Оранский – оранжевый, как огонь в аду. С нами бог! Они придут. Ха-ха! Пить! Налей! Я горю, я сгорел! Пить! Славненькие, миленькие реформатские проповеднички!.. Славненькие, храбренькие солдатики, крепкие, что твой дубок… Пить! Хотите с ними пробраться в лагерь главного еретика? У меня есть паспорта, им самим подписанные… Там можно видеть…
– Хорошо, пойдём и мы в лагерь, – сказал Уленшпигель.
– Они там управятся как следует. Ночью при случае – стальной ветер помешает нассаускому дрозду[152 - Нассауский дрозд – намёк на принца Вильгельма Оранского, принадлежавшего к владетельному дому Нассау.] распевать свои песни.
И хозяин, присвистывая, показал, как один человек убивает другого.
– Весёлый ты человек, хотя и женат, – сказал Уленшпигель.
– Не женат и не буду женат, – возразил хозяин, – я ведь храню государственные тайны, – выпьем! Ведь жена их у меня в постели выведает, чтобы отправить меня на виселицу и стать вдовой раньше, чем угодно природе. Господи благослови! Они придут… Где мои новые паспорта? На моём христианском сердце! Выпьем! Вон они, вон, триста шагов отсюда по дороге, у Марш-ле-Дам. Видите их? Выпьем?
– Пей, – говорил Уленшпигель, – пей! Я пью за короля, за герцога, за проповедников, за «стальной ветер». Пью за моё здоровье, за твоё здоровье, за вино, за бутылку! Да ты не пьёшь совсем?
И при каждой здравице Уленшпигель наполнял стакан хозяина, и тот выпивал залпом.
Некоторое время Уленшпигель пристально смотрел на него, потом встал и сказал:
– Он спит! Идём, Ламме.
Выйдя на дорогу, он сказал:
– У него нет жены, которая может выдать нас… Скоро ночь… Ты слышал, что говорил этот негодяй, и знаешь, что это за три проповедника?
– Да, – ответил Ламме.
– Ты знаешь, что они идут от Марш-ле-Дам по берегу Мааса и что следует перехватить их по пути, прежде чем подует «стальной ветер»?
– Да.
– Надо спасти жизнь принца.
– Да.
– Возьми мой аркебуз и засядь там, в кустах между скал. Заряди двумя пулями и, когда я каркну вороном, стреляй.
– Хорошо, – сказал Ламме.
И он исчез в кустах, а Уленшпигель услышал, как щёлкнул курок.
– Идут, видишь? – спросил он.
– Да, вижу. Их трое, в ногу идут, как солдаты, один выше других на голову.
Уленшпигель, вытянув ноги, сел у дороги и бормотал молитвы, перебирая чётки, как делают нищие. Его шляпа лежала у него на коленях.
Когда три проповедника проходили мимо, он протянул им шляпу, но они не подали ему ничего.
Тогда он привстал и жалобно сказал:
– Благодетели, подайте грошик рабочему человеку, – слетел вот на-днях в каменоломню и совсем разбился. Здесь народ такой жестокосердный, никто не подаст милостыню, чтобы смягчить мои страдания. Ах, подайте грошик, буду за вас бога молить. Господь дарует вам долгую и радостную жизнь, благодетели!