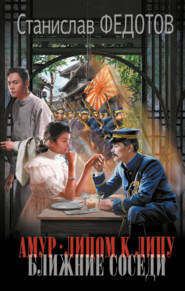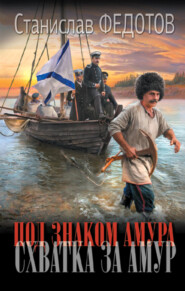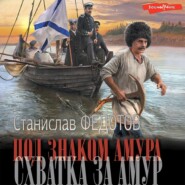По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Под знаком Амура. Благовест с Амура
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И вам, хозяюшка, того же.
– А вы проходите в избу, как раз к столу поспели.
Степан хотел было что-то сказать, но передумал – махнул рукой, представил:
– Хозяйка моя Матрена Михайловна, а это – мой знакомец давнишний Григорий… Как тебя по батюшке-то, я и не ведаю.
– Алексеевич, – усмехнулся гость.
– Вот, значитца, Григорий Алексеевич.
– Проходите, Григорий Алексеевич, – пропела Матрена. – Гостем будете. Небось с дороги дальней?
– Да уж не близкой, – снова усмехнулся Вогул, поднимаясь на крыльцо и входя в избу вслед за хозяйкой. Степан хмуро шел позади.
– А остановились где? Давайте, Григорий Алексеевич, вашу одёжу я на гвоздок повешу. Вон рукомойник в углу, и опосля – прямо к столу.
– Благодарствую, Матрена Михайловна. – Григорий прошел к рукомойнику, вымыл руки тепловатой водой, вытирая, ответил на первый вопрос: – Да пока нигде не остановился. Вот с дороги прямо к Степану… к вам.
– Так у нас и остановитесь, ежели не побрезгуете. У летней кухни пристроечка, топчанок там имеется с тюфячком и подголовничком. И простынка с наволокой найдутся. А ночи стоят теплые – перинка не потребуется…
Матрена говорила и говорила – провожая Вогула в горницу, усаживая за стол, ставя перед ним глиняную обливную тарелку и чарку зеленого стекла, подавая вилку железную двузубую и железную ложку – обе были начищены до блеска. Говорила так воркующе, что Степан, вернувшись на свое место, как раз напротив Григория, почувствовал болезненный укол в сердце: его-то Матрена столь горячо не обласкивала. Однако тут же сам себе возразил: а как же ее всклокоченный от страсти шепот в ночи, в самые изнеможительные мгновения «Степушка… родненький… ох!., еще!..» – и быстрые радостные поцелуи? Подумал и устыдился – все тело, снизу до самой головы, окатило жаром – и невольно приобнял за плечи невенчанную – пока невенчанную! – жену, как бы показывая Вогулу свое право на нее.
Но Григорий, похоже, не обратил внимания ни на слова Матрены, ни на ревность Степана, он словно ушел в себя, в какие-то свои не очень-то веселые мысли. Отвечал, правда, впопад, пил-ел неторопливо; узнав от хозяйки, что стол посреди недели богато накрыт по случаю Степановой удачи, ничего не сказал, лишь поприветствовал именинника поднятой чаркой и выпил полную за здоровье и счастье хозяйки. Закусив пельмешками, поднялся:
– Позвольте, Матрена Михайловна, нам со Степаном выйти. Подышать свежим воздухом.
– Дак окошки все открыты, – простодушно улыбнулась хозяйка.
– Поговорить надо, – коротко сказал Степан и встал. – Ты, Матреша, спроворь, значитца, чайку, а мы перетолкуем и возвернемся.
Они вышли в июньскую ночь, хотя называть ночью это состояние природы было, пожалуй, неправильно – оно скорее напоминало прозрачно-дымчатые сумерки: парящий над гаснущей вечерней зарей молодой месяц пронизывал теплый воздух рассеянным светом, а на востоке небо уже начинало высвечиваться снизу, словно там, за горами, разгорался огромный, но бездымный, лесной пожар. Только в зените, на сгущенно-синем небосводе, сложившись в загадочные рисунки, горели яркие звезды. Сквозь кусты и деревья палисада время от времени высвечивались далекие сполохи.
– Что это там горит? – кивнув на них, спросил Вогул.
– Домницы на заводе. Руду плавят. У них работа ночь и день – без продыху.
Григорий сел на лавку, хлопнул, приглашая, ладонью по оструганной доске:
– Садись, Степан, в ногах правды нет.
– А в жопе, значитца, есть? – хмыкнул Шлык, опускаясь рядом с Вогулом.
– Не до смеху мне, брат, – опустив голову, неожиданно севшим голосом сказал Григорий. – Я ведь пришел на крючок тебя посадить…
– Этта на какой такой крючок?! – Степан вознамерился вскочить, но Григорий успел ухватить его за локоть. – Я чё тебе, значитца, вроде сома, чё ли?! – возмутился столяр. Он попытался вырваться, но пальцы Григория держали, как клещи.
– Сома, щуки, ерша – какая разница? Крючок такой, что не сорвешься, сколь ни трепыхайся. – Григорий поднял голову, встретился взглядом со Степаном и даже в рассеянном свете месяца увидел в них такое напряжение тревожного ожидания, что отвернулся и ослабил хватку. – Я должен тебе дать задание, а ты должен его выполнить, – глухо сказал он.
– Этта какое такое задание?! – все-таки взвился Степан. – И почему я должон его выполнить?!
– Не кричи, – попросил Вогул. – Соседям об этом ни к чему знать. Для тебя же лучше.
– A-а, понял я, с каким заданием ты сюда явился! Шилкинскую историю, значитца, решил повторить? Злоб свою супротив генерала потешить? Ан не выйдет у тя ничего. Пароход железный, а железо-ть не горит! Не подожжешь, варнак, не подожжешь! – И для полноты превосходства своих слов над словами Вогула Степан даже припляснул, выворачивая ноги в домашней войлочной обувке и выделывая руками кренделя. – Оппа-оппа-оппа-па…
– А я и не должен ничего поджигать. Ты б не скоморошничал, а сел и послушал. – Григорий сказал это так спокойно-угрюмо, что Степан обескуражился и вроде бы покорно уселся на прежнее место. Но весь вид его говорил: ну чего тебе еще? – Поджечь, брат, должен ты! Да поджечь так, чтобы все сгорело. Весь завод.
От неожиданности Степан громко икнул и закашлялся. Он кашлял долго, останавливался, чтобы глотнуть воздуха и снова заходился в длинном кхаканье.
Вогул терпеливо ждал.
На крыльцо с ковшиком в руке выскочила Матрена:
– Ой, Степушка, чтой-то с тобой? – зачерпнула дождевой воды из деревянной кадки, что стояла под водостоком с крыши, и плеснула Степану в лицо.
Кашель прекратился.
– Иди в дом, Матрена, – рыкнул, отплевываясь, муж невенчанный.
Женщина открыла было рот – возразить, но окинула быстрым пытливым взглядом обоих мужиков и послушалась. Даже дверь за собой притворила.
Степан рукавом рубахи обтер лицо и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Потом спросил почти весело:
– Ну, выкладай, брат мой Каин, каким, значитца, макаром ты меня заставишь завод жечь? На какой крючок возьмешь?
– Да крючок-то простой, Степа, но уж больно надежный. Такой надежный, что с души воротит. Зверская надежность!
Григорий замолчал. Степан ждал. Он не мог предположить, что будет дальше, но каким-то неведомым образом почувствовал, что в старом друге-товарище, неожиданно ставшем врагом и убийцей, происходит что-то очень серьезное, идет невидимая миру, но беспощадная схватка.
– Я лучше тебе другое скажу, – продолжил Вогул. – Я вот уже пять лет свою обиду тут вот, – он ткнул себя в грудь, – ношу. Все делаю, чтобы генералу досадить, в любом его деле, большом ли, малом – неважно. В Петербурге хотел на перо посадить, ну ножом пырнуть, да ловок он оказался, видать, не в одной рукопашной бывал, меня самого едва не зарубил… Две засады устроил – у Байкала и на тракте Охотском. Облом вышел! Прям заговоренный какой-то!
Григорий глянул на Степана – тот внимательно слушал, а навстречу взгляду встрепенулся, спросил:
– А с чего ты мне все это сказываешь? Совесть проснулась?
– Скажу и о совести. Ты слушай, слушай. Ну ножиком пырнуть – это я сам додумался, а вот засады устроить меня один человек подбил. Не наш человек, из моей жизни прошлой, когда я в легионе был. Ох, Степа, какая же у него злоба на генерала! Куда мне, с моим задом поротым, с этой злобою тягаться!
– А ты, значитца, у энтого человека на коротком поводке? – съязвил Степан.
– Нет, – отрубил Вогул. – Я ему сразу сказал, что с Россией не воюю, что наша дорожка общая только до генерала.
– Слышь, уж не ты ли машину паровую по весне по-задавешной украл? – прищурился Шлык. – А мы теперича над ей головы ломаем.
– Какую паровую машину? – удивился Григорий.
– Каку-каку! – рассердился Шлык. – Для парохода, что ты сжег. Аглицкую машину аж с Уралу везли, а она возьми и пропади по дороге! Твоих рук дело?
– Машину ты мне не приплетай. Не знаю никакой машины! Ты слушай, что дале скажу.
– А вы проходите в избу, как раз к столу поспели.
Степан хотел было что-то сказать, но передумал – махнул рукой, представил:
– Хозяйка моя Матрена Михайловна, а это – мой знакомец давнишний Григорий… Как тебя по батюшке-то, я и не ведаю.
– Алексеевич, – усмехнулся гость.
– Вот, значитца, Григорий Алексеевич.
– Проходите, Григорий Алексеевич, – пропела Матрена. – Гостем будете. Небось с дороги дальней?
– Да уж не близкой, – снова усмехнулся Вогул, поднимаясь на крыльцо и входя в избу вслед за хозяйкой. Степан хмуро шел позади.
– А остановились где? Давайте, Григорий Алексеевич, вашу одёжу я на гвоздок повешу. Вон рукомойник в углу, и опосля – прямо к столу.
– Благодарствую, Матрена Михайловна. – Григорий прошел к рукомойнику, вымыл руки тепловатой водой, вытирая, ответил на первый вопрос: – Да пока нигде не остановился. Вот с дороги прямо к Степану… к вам.
– Так у нас и остановитесь, ежели не побрезгуете. У летней кухни пристроечка, топчанок там имеется с тюфячком и подголовничком. И простынка с наволокой найдутся. А ночи стоят теплые – перинка не потребуется…
Матрена говорила и говорила – провожая Вогула в горницу, усаживая за стол, ставя перед ним глиняную обливную тарелку и чарку зеленого стекла, подавая вилку железную двузубую и железную ложку – обе были начищены до блеска. Говорила так воркующе, что Степан, вернувшись на свое место, как раз напротив Григория, почувствовал болезненный укол в сердце: его-то Матрена столь горячо не обласкивала. Однако тут же сам себе возразил: а как же ее всклокоченный от страсти шепот в ночи, в самые изнеможительные мгновения «Степушка… родненький… ох!., еще!..» – и быстрые радостные поцелуи? Подумал и устыдился – все тело, снизу до самой головы, окатило жаром – и невольно приобнял за плечи невенчанную – пока невенчанную! – жену, как бы показывая Вогулу свое право на нее.
Но Григорий, похоже, не обратил внимания ни на слова Матрены, ни на ревность Степана, он словно ушел в себя, в какие-то свои не очень-то веселые мысли. Отвечал, правда, впопад, пил-ел неторопливо; узнав от хозяйки, что стол посреди недели богато накрыт по случаю Степановой удачи, ничего не сказал, лишь поприветствовал именинника поднятой чаркой и выпил полную за здоровье и счастье хозяйки. Закусив пельмешками, поднялся:
– Позвольте, Матрена Михайловна, нам со Степаном выйти. Подышать свежим воздухом.
– Дак окошки все открыты, – простодушно улыбнулась хозяйка.
– Поговорить надо, – коротко сказал Степан и встал. – Ты, Матреша, спроворь, значитца, чайку, а мы перетолкуем и возвернемся.
Они вышли в июньскую ночь, хотя называть ночью это состояние природы было, пожалуй, неправильно – оно скорее напоминало прозрачно-дымчатые сумерки: парящий над гаснущей вечерней зарей молодой месяц пронизывал теплый воздух рассеянным светом, а на востоке небо уже начинало высвечиваться снизу, словно там, за горами, разгорался огромный, но бездымный, лесной пожар. Только в зените, на сгущенно-синем небосводе, сложившись в загадочные рисунки, горели яркие звезды. Сквозь кусты и деревья палисада время от времени высвечивались далекие сполохи.
– Что это там горит? – кивнув на них, спросил Вогул.
– Домницы на заводе. Руду плавят. У них работа ночь и день – без продыху.
Григорий сел на лавку, хлопнул, приглашая, ладонью по оструганной доске:
– Садись, Степан, в ногах правды нет.
– А в жопе, значитца, есть? – хмыкнул Шлык, опускаясь рядом с Вогулом.
– Не до смеху мне, брат, – опустив голову, неожиданно севшим голосом сказал Григорий. – Я ведь пришел на крючок тебя посадить…
– Этта на какой такой крючок?! – Степан вознамерился вскочить, но Григорий успел ухватить его за локоть. – Я чё тебе, значитца, вроде сома, чё ли?! – возмутился столяр. Он попытался вырваться, но пальцы Григория держали, как клещи.
– Сома, щуки, ерша – какая разница? Крючок такой, что не сорвешься, сколь ни трепыхайся. – Григорий поднял голову, встретился взглядом со Степаном и даже в рассеянном свете месяца увидел в них такое напряжение тревожного ожидания, что отвернулся и ослабил хватку. – Я должен тебе дать задание, а ты должен его выполнить, – глухо сказал он.
– Этта какое такое задание?! – все-таки взвился Степан. – И почему я должон его выполнить?!
– Не кричи, – попросил Вогул. – Соседям об этом ни к чему знать. Для тебя же лучше.
– A-а, понял я, с каким заданием ты сюда явился! Шилкинскую историю, значитца, решил повторить? Злоб свою супротив генерала потешить? Ан не выйдет у тя ничего. Пароход железный, а железо-ть не горит! Не подожжешь, варнак, не подожжешь! – И для полноты превосходства своих слов над словами Вогула Степан даже припляснул, выворачивая ноги в домашней войлочной обувке и выделывая руками кренделя. – Оппа-оппа-оппа-па…
– А я и не должен ничего поджигать. Ты б не скоморошничал, а сел и послушал. – Григорий сказал это так спокойно-угрюмо, что Степан обескуражился и вроде бы покорно уселся на прежнее место. Но весь вид его говорил: ну чего тебе еще? – Поджечь, брат, должен ты! Да поджечь так, чтобы все сгорело. Весь завод.
От неожиданности Степан громко икнул и закашлялся. Он кашлял долго, останавливался, чтобы глотнуть воздуха и снова заходился в длинном кхаканье.
Вогул терпеливо ждал.
На крыльцо с ковшиком в руке выскочила Матрена:
– Ой, Степушка, чтой-то с тобой? – зачерпнула дождевой воды из деревянной кадки, что стояла под водостоком с крыши, и плеснула Степану в лицо.
Кашель прекратился.
– Иди в дом, Матрена, – рыкнул, отплевываясь, муж невенчанный.
Женщина открыла было рот – возразить, но окинула быстрым пытливым взглядом обоих мужиков и послушалась. Даже дверь за собой притворила.
Степан рукавом рубахи обтер лицо и несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Потом спросил почти весело:
– Ну, выкладай, брат мой Каин, каким, значитца, макаром ты меня заставишь завод жечь? На какой крючок возьмешь?
– Да крючок-то простой, Степа, но уж больно надежный. Такой надежный, что с души воротит. Зверская надежность!
Григорий замолчал. Степан ждал. Он не мог предположить, что будет дальше, но каким-то неведомым образом почувствовал, что в старом друге-товарище, неожиданно ставшем врагом и убийцей, происходит что-то очень серьезное, идет невидимая миру, но беспощадная схватка.
– Я лучше тебе другое скажу, – продолжил Вогул. – Я вот уже пять лет свою обиду тут вот, – он ткнул себя в грудь, – ношу. Все делаю, чтобы генералу досадить, в любом его деле, большом ли, малом – неважно. В Петербурге хотел на перо посадить, ну ножом пырнуть, да ловок он оказался, видать, не в одной рукопашной бывал, меня самого едва не зарубил… Две засады устроил – у Байкала и на тракте Охотском. Облом вышел! Прям заговоренный какой-то!
Григорий глянул на Степана – тот внимательно слушал, а навстречу взгляду встрепенулся, спросил:
– А с чего ты мне все это сказываешь? Совесть проснулась?
– Скажу и о совести. Ты слушай, слушай. Ну ножиком пырнуть – это я сам додумался, а вот засады устроить меня один человек подбил. Не наш человек, из моей жизни прошлой, когда я в легионе был. Ох, Степа, какая же у него злоба на генерала! Куда мне, с моим задом поротым, с этой злобою тягаться!
– А ты, значитца, у энтого человека на коротком поводке? – съязвил Степан.
– Нет, – отрубил Вогул. – Я ему сразу сказал, что с Россией не воюю, что наша дорожка общая только до генерала.
– Слышь, уж не ты ли машину паровую по весне по-задавешной украл? – прищурился Шлык. – А мы теперича над ей головы ломаем.
– Какую паровую машину? – удивился Григорий.
– Каку-каку! – рассердился Шлык. – Для парохода, что ты сжег. Аглицкую машину аж с Уралу везли, а она возьми и пропади по дороге! Твоих рук дело?
– Машину ты мне не приплетай. Не знаю никакой машины! Ты слушай, что дале скажу.