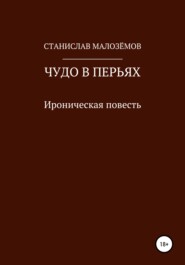По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я твой день в октябре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шмары новенькие, чистые. Влупить – одно удовольствие. У нас же не гадюшник. Хата – гренуля культурная.
И началось! Лёхе надо было убрать камень с души. Вроде бы и готов он был к такому повороту. Отлуп от Надежды заранее предчувствовал. Думал, что сначала отпрыгнет она от него специально для того, чтобы он покаялся про жизнь свою независимую да раздольную и подсел незаметно под каблук. Карьеру чтобы солидную начал делать под папиным присмотром. Она-то росла над простолюдьем. И он должен был поспевать за ней. А потом и отца сменить после его пенсии. Для чего его держали? Для чего в элитную Школу засунули!? Вроде всё понимал Лёха. И вот от того было мерзко внутри, гадко в голове, которая без спроса продолжала строить версии одна хреновее другой.
Короче, надрались они со Змеем до зелёных соплей, но вели себя как неваляшки. Шарахались по двору, песни горланили и вспоминали годы молодые. Когда Змей ещё вором был, а Лёха его от этого дела оторвал и перевел просто в торговца теневого, подпольного. Но уже не треплющего уголовный кодекс за опасные странички. Очень зауважал Змей старого интеллигентного кента своего за это, хотя и раньше относился с уважением за ум и силу.
…Проснулся Лёха под толстым одеялом часов в десять утра, перелез через голую маруху, которая неизвестно как попала под то же одеяло. Пошел на улицу покурить. Змей сидел на завалинке и держал в руке ополовиненную бутылку водки. Лёха хлебнул граммов сто из горла. Стало светлее в голове. Почти как на улице.
– Пойду я, Толян, – он подал Змею руку. – Спасибо за то, что дал мне разрядиться. В напряге я был. С семьей «гроза». Выправим, ладно.
– Заходи, дорогой, – Змей обнял его. – И грудь выпяти. Чтоб так съёжиться – надо только расстрельную статью поиметь. А остальное всё – кизяк. Туфта и фуфел дешевый. Держи грудь! Я на твою любую беду дам голос. Что надо – только скажи.
И они разошлись. Змей на хазу пошел, а Лёха за ворота. Закрыл за собой калитку и остановился.
– А куда идти, собственно? – почесал он затылок. – Кроме дома – некуда. А мама с отцом ещё на работе. А пойду пока к Михалычу, другу безногому со
старой квартиры. Пора уже и с мудрыми людьми начать советоваться. Жить-то надо. И, главное, хочется. Надо просто понять, как жить. А без мудрой подсказки маяться ещё самому да маяться.
Хотел побежать. Как обычно. Но уже не получалось. Голова как стружкой стальной набитая, ноги не слушаются, не стелятся легко над землёй, не летят, а зависают, упираясь в землю раньше тела так, что Лёха на выставленную вперёд ногу натыкается. Ни голове водка добра не даёт, ни телу. Надо завязывать. Тем более, что желания к спиртному нет никакого. Есть явная потребность просто утешить нервы. А они, блин, просто так не затихают. Болят. Выпьешь – тупеют все плохие ощущения.
– Кто-то да подкинет мне мысль, как или тихо расстаться с семьёй, или так с женой поладить, чтобы не унижаться и лбом о землю не биться. Не шибко-то виноватиться без вины. У самого нет мыслей чётких. Сквозняк в голове.
Родной край открылся как волшебный Сезам. Вроде вот только что ничего своего не виделось, с детства любимого и привычного как, например, серебристые тополя вдоль всей улицы Лёхиной. А тут он, придавленный невнятными от водки раздумьями, уже за угол повернул на улицу Пятого апреля и как будто в другое кино попал. Которое сам снял и главную роль в нём сыграл. Колодец, в пятьдесят втором году выкопанный, с деревянным срубом над далёкой водой, в живых остался. Магазин бывшего купца Садчикова из кирпича, который и бомба не поломает – вот он. Люди с авоськами ходят в него и обратно, пригнувшись от тяжелых бумажных кульков с маслом, сахаром, пряниками и бутылками любимого в Зарайске лимонада «Крем-сода». Сквер из одной акации желтой, с асфальтовой дорожкой от края к краю обновил Горкоммунхоз. Посадил сразу высокие ясени вдоль дорожки по обеим её сторонам. А так – ничего больше не изменилось. Трава у дороги с тем же старым запахом ирисок «Кис-кис», бархатцы и космеи с цинниями в каждом палисаднике, сквозь штакетник которых кроме бархатцев высовывались и обожаемые горожанами цветы бессмертника. Невзрачные, обделённые ароматом, а любовь заслужившие терпением к холодам самой поздней осени. И дышалось на своей улице сразу всем, что на ней стояло и росло. Столбами, просмоленными на метр выше земли, нагретым от солнца шифером с крыш, куриным помётом несло со всех дворов через разноцветные дощатые заборы. И сами дома старые, белёные и обитые узенькими дощечками, нарезанными под углом, пахли родиной. Единственной, оставшейся в душе на все времена. До смерти.
В свой старый двор Лёха вошел так аккуратно, как входят только в музеи.
Он сел на лавочку перед внутренним палисадником, где дозревала капуста и чёрная редька, где так и торчал березовый пенёк. Берёзу сдуру давным-давно спилил пьяный сосед и, конечно, огрёб за это от спортивного семнадцатилетнего Алексея по полной. Потом сосед помер от перепития, а берёза от корня новыми тонкими стволами проросла. И они, все три, качали сейчас верхними листочками уже на пятиметровой высоте.
– Михалыч! – крикнул Лёха в открытую дверь подвала. – Лёха Малович вернулся из заключения в очередном ВУЗе! Вылетай!
Минут через пять заскрежетали подшипники тележки. Это дядя Миша пристёгивал тело ремнями к крючкам, ввинченным в низкие борта. Потом послышался грохот движения подшипников по широкому деревянному настилу, соединяющему подземелье с вольным воздухом двора, по которому и сегодня нехотя гуляли куры, поросята и три здоровенных индюка с красными «соплями» почти до земли, как привязанные бродили за двумя невзрачными индюшками. Михалыч вылетел на тележке из подвала, будто катапультой его вышвырнули.
– Ляксей, мать твою! – заорал дядя Миша так громко и торжественно, что многие курицы аж присели. – Дорогуша ты моя, Ляксей батькович! Вот, блин, клянусь, скучал так только по жене Ольге, когда её профком в санаторий посылал. Так то ж на месяц всего. А тут два года промахнули как деньги с пенсии. Вжик – и опять в кармане мелочь одна. Но ты, Ляксей, не мелочь. А вон, какой мужик! На миллион рублёв тянешь! Здоровый, фигура как у артиста одного…Забыл, бляха! Ну, он индейца играл, помнишь?
Подбежал Алексей к Михалычу, встал на колени, обнял голову его белую, прижал к груди и чувствовал, что волос его седой пах так же, как и десять лет назад. Табаком, портвейном и подушкой его любимой с гусиным пухом внутри.
– Раздавишь деда, подлец! – засмеялся Михалыч, но не вырывался, а сам крепко обнял Лёху, обхватив вокруг пояса.
Так и сидели они, слившись телами. Один на коленях замер, а другой на концах обеих своих культей, отходящих от бёдер сантиметров на тридцать.
Сидели, пока не выбежала тётя Оля. Не брало её время. Любило и берегло. Лицо почти без морщин, как и руки, быстрая походка, платок на голове, который она и в конце пятидесятых носила, да новенький фартук на синем с цветочками платье. Она тоже обняла Алексея и три раза поцеловала, сделала шаг назад, да перекрестила его размашисто и гипнотически. Потому, что почувствовал Лёха какое-то озарение в мозге. Светлое, яркое. А может и показалось ему это, но то, что стало легче на душе – это уж точно.
Долго сидели они на скамейке с тётей Олей, а Михалыч возле их ног, говорили что-то, вспоминали, смеялись, а когда Лёха сказал, как любила при жизни любимая бабушка Стюра и двор свой и соседей, ставших за жизнь почти родственниками, тётя Оля всплакнула и слёзы её сделали влажным край передника.
– Ладно, я пойду обед готовить. Скоро есть будем. Ты, Алёша, за бутылкой не бегай. У меня припасено для хорошего случая, – и она почти бегом добежала до двери подвала.
– У тебя с лица, Ляксей, грусть-печаль капает, – посмотрел в глаза Лёхины Михалыч. – Со рта водкой несёт. А ты ж в рот сроду не брал. Так как оно у тебя выходит? Сдуру начал керосинить иль печаль какую глушишь пакостью этой?
Лёха взял его за плечи, посмотрел в старые умные глаза друга с детства, да за какой-то час с небольшим и рассказал ему о жизни своей в семье Альтовых, о треснувшей любви, пропаже семьи, о московской окончательной размолвке. Ну и, конечно, «приговор» Надин, сквозь закрытую дверь вынесенный, тоже передал.
Дядя Миша слушал всё это без выражения на лице. Только губы изредка у него дрожали, да папирос выкурил с десяток.
– Обед готов. Давайте! – крикнула снизу в открытое окно тётя Оля.
– А, ну тебя. Не пропадёт. Разогреешь, – Михалыч махнул ей рукой. – У нас тут дело мирового значения. Некогда нам!
– Ну и что думаешь, дядь Миш? – спокойно спросил Лёха и закурил. Пальцы слегка дрожали и пару спичек он сломал о коробок.
Молча сидел Михалыч минут десять, глядя прямо в старые доски ворот на заборе. Пальцами он скручивал сыромятный ремень возле бедра, а головой покачивал в такт каким-то мыслям своим. Глубоким, уверенным.
– Тебе не надо туда идти больше. Звонить не надо, – сказал он наконец хрипло и откашлялся. Волновался, видно. – Они все тебя ждут. И тесть с тёщей, и жена с дочерью. Дочь пока не понимает ничего. А жена и новая твоя родня понимают как раз всё. Но только так, как им надо. А надо ей и тёще с тестем, чтобы ты лёг к её ногам. Чтобы по тебе можно было ходить всем им, а ты бы только счастлив был.
– Но намёка на это не было сроду, – возразил Лёха. – Они все говорили: живи и делай то, что любишь и хочешь.
– Ты, Ляксей, сам статьи пишешь. Рассказы. Песни. Как ты пишешь? – Михалыч уложил руки Лёхе на колени. – Как ты сам хочешь, да? Но сначала идёт начало. Оно может быть добрым и ласковым. Потом развитие идёт. Оно уже проясняет цель и задачу писания твоего, задумки твоей. А конец от начала может так отличаться, как зима от лета. В начале у тебя всё мягко и тепло, а в конце – жестко и холодно. Так и здесь у тебя. Сперва всё мило и любимо в тебе. Потом появляется цель – сделать тебя ручным и направить туда, куда им надо, чтобы семья твоя считалась весомой в обществе и властной. А ты брыкаешься. Не ложишься вроде подстилки. Но тебя должны дожать. Никто с тобой не собирается разводиться. Весь спектакль почти прошел. Остался финал. И вот он – холодный и жесткий как февраль. «Я с тобой жить не буду»
– Ты считаешь – провоцирует меня вся семья через Надежду? Так она уже в Москве меня как бы отшила. Не звонила, к себе не пускала, – Лёха насторожился. – Думаешь, это всё договорено с родителями?
– А то! Именно так! – дядя Миша покатался на тележке по двору и подъехал снова. – Ты что, знаешь, о чём они говорили до того, как тесть устроил тебя в школу эту, а не в какую-нибудь газетёнку московскую? Их там сто штук. А ему это – как два пальца…Отработал бы в ней пару лет и уехал с женой обратно. А он тебя легко туда втолкнул, куда захочешь – хрен попадешь. И учат там не сваи заколачивать, а властью уметь правильно орудовать. Шишкарей там готовят. Ну, вот и думай: на хрена он тебя в эту школу воткнул и как это заранее обговорил с женой твоей да с тёщей? И что твоей жене, которую ты вроде безумно любил, было сказано, чтобы она сделала тебя в Москве именно провинившимся и чтобы ты потом ползал и просился обратно?
– А, может, и не просился бы, – сказал Лёха.
– Не может, – Михалыч посмотрел на часы. – Портевешок пора пить, однако.
Ты чего ко мне пришел? Чтобы выяснить у меня, дурака калеченного и старого, проситься назад или не надо. И не говори, что нет, мол, хотел просто пообниматься да похвастаться новым образованием.
– Да прав ты, Михалыч, – впился в него глазами Лёха. – Да только на кой пёс им было такую шпионскую почти операцию проводить? Ну, взял бы, да и заставил меня служить компартии в обкоме. Он может. Заставить он кого хочешь, может. Туз козырный.
– Ага! – заржал дядя Миша. – Тебя заставишь! Ты ж как пружина. Чем сильнее надавишь, тем резче она выпрямится. И жена твоя это знает. И тесть с тёщей. А так, спектакль разыграли удачно и у тебя теперь выхода нет. Дочь без отца. Хорошая жена непокорного мужа пнула коленом под зад. Тестя ты подвел. Осрамил, можно сказать, перед московскими тузами, которых просил воткнуть тебя в ряды элиты коммунистической. Это плохо и тебя надо наказать. Нет у тебя выхода, по их разумению. Должен приползти и покаятся. Тебя простят. Но тогда ты останешься их общей подстилкой и дальше тебя можно двигать как пешку. Куда владыка подвинет. Вверх, конечно. Себе на замену. Больше у него нет шансов придержать власть на пенсии. Только через тебя. Послушного и преданного. Тебя это устраивает?
– А оно так и будет? Не густо разливаешь, Михалыч? – Лёха, кажется, сам увидел описанную картину его будущего.
– Попробуй, похлебай, – мрачно сказал дядя Миша. – Жена твоя здесь, в игре этой, тоже пешка. Её саму он вытащил на доступную ей верхотуру. Он ей отец и ноги лизать она ему не будет. Но сделать так, как он захочет, отказаться не посмеет.
– Так мне что делать? Валить подальше и забыть всё как страшный сон? – вздохнул Лёха.
– Её и дочь ты не забудешь и так никогда, – Михалыч закурил уже черт знает какую по счёту папиросу.– Но к ним не ходи больше. Не звони и не пиши. Жить тебе здесь он, конечно не даст. Оскорбил ты его донельзя. Но ты душу-то расправь, плечи, ум-разум. Ты самец. Мощный, жесткий, бесстрашный. И согнуть тебя – целую ораву надо звать. Ты жизни ведь не боишься?
– Нет, – Лёха пожал Михалычу руку. – Спасибо, дядь Миш! Я свет увидел. Есть свет. И я до него дойду. Сам. Всё. Пошел я.
– А есть кто будет? – крикнула снова тетя Оля.
– Я скоро вернусь, – крикнул Лёха уже с улицы. Он бежал. Странно. Ещё час назад не мог. Ноги не гнулись. Бежал и бежал. Тяжело дышал, спина вспотела. Но он бежал. Причем не думая, куда. И очнулся только у воды. На берегу Тобола возле зарослей камыша. Разделся, разогнался и с разбегу нырнул в осеннюю воду. Вынырнул и, болтаясь посреди реки как поплавок, говорил громко и твердо сам себе.
– Я вернусь! К себе! Я обязательно вернусь! Ждите меня там, где я обязательно нужен. Я уже в пути. Я вернусь! Течение медленно уносило его вниз. Заметил это Лёха. И изо всех сил рванул к своему месту. Против течения.
30.Глава тридцатая, заключительная
Все совпадения названий, имен и событий – случайны.