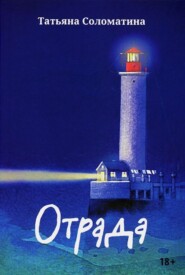По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Община Святого Георгия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но как бы ни были интересны дела профессорского кабинета и задворок, основная жизнь университетской клиники бурлила у коек больных. Мужская палата, где в наркотическом сне получал недолгое отдохновение от мук несчастный ампутант, была заполнена сверх нормы и более напоминала военный лазарет, нежели структурную единицу гражданской университетской клиники. На двадцати койках пребывали простые мужики, рабочие и крестьяне, ещё недавно бывшие солдатами и унтер-офицерами. Всех сюда привели последствия ранений.
Невозможно вернуться с войны здоровым, даже если бог дал возвратиться живым. И не всем мёртвым было отсыпано благодати упокоиться в родной земле. Сопки Маньчжурии нынче утыканы крестами. Не такой виделась государю русская экспансия на Восток. И как бы мучительно душевно и духовно он ни переживал последствия случившегося, не его раны нагнаивались, не его плоть бороздили очнувшиеся осколки.
Даже под блаженными опиатами по телу страдальца пробегали волны конвульсий. Он бежал на японские цепи, бежал на своих двоих, снова и снова предчувствуя первобытный ужас того, что свершится. Он опять и опять оказывался там, в грязи, под свистом пуль, на гудящей от разрывов земле, широко раскрытыми глазами глядя на свои ноги, лежащие невдалеке от него. Мгновением прежде он бежал – и вот они там, и он даже не заметил, когда и как это произошло. В животном ужасе он полз к тому, что ещё ощущал, что чувствовал неотъемлемой частью себя, но почему-то они в нескольких метрах, и если только успеть доползти и вернуть их на место, то…
«…И в той долине два ключа: один течёт волной живою, по камням весело журча, тот льётся мёртвою водою… И стал над рыцарем старик, и вспрыснул мёртвою водою, и раны засияли вмиг, и труп чудесной красотою процвёл; тогда водой живою героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встаёт Руслан, на ясный день очами жадными взирает…» – бормотал тогда юный ротный, сошедший с ума над телом друга. Бормотал снова и снова, и эти слова въелись в память, солдат и не заметил как. И вот они явились ему сейчас, когда он полз к своим ногам и чья-то сильная рука схватила его. С этими словами он и очнулся, чувствуя адскую боль там, где ничего не было. С ними он проваливался в этот кошмар, с ними возвращался из него. Не представляя, кто такой Руслан, чей труп процвёл чудесною красотою. Не ведая, что юный ротный покончил с собой. Не зная ничего, кроме всепоглощающей боли и этих дьявольских слов, мёртвою водою ритмично льющихся в аду. Удивительно, но и в преисподней черти играли в шахматы…
На соседней койке действительно играли в шахматы. У одного игрока не было правой руки, у другого – левой. Они азартно рубились, окружённые болельщиками на костылях.
– Ты пешку про… это самое! Как император – Цусиму!
– Без рук, без ног – ни крестьянин, ни пролетарий! Ситуация патовая…
– Спасибо министрам и лично государю!
Удивительно, но эти простые люди умудрялись шутить, и в словах их было куда меньше желчи и надрыва, нежели в речах серьёзных государственных мужей, которых не обдавало внутренностями товарищей, смешанных с чужеземной землицей. Велик простой человек, несгибаем, спасаем шутовством, когда спасаться больше, признаться, нечем.
В палату тихо вошёл Белозерский. Сейчас в нём не было шиковатой лихости, явленной на утреннем профессорском обходе. Лица пациентов, насторожившиеся, когда дверь открылась, просияли. Александра Николаевича любили. Он был, что называется, добрый доктор. Нет, в клинике не было злых докторов, но Белозерского любили порой совершенно незаслуженно. Он был из тех людей, при появлении которых будто ярче светит солнышко. И серый петербургский полдень становится уютней. Редко когда природная доброта озарена таким ласковым обаянием.
Сашка Белозерский будто был рождён нести свет. Хотя слово Lucifer у этих простых мужиков вызвало бы отрицательную коннотацию, ибо с позднего Средневековья в христианстве отождествлялось с сатаной, дьяволом, падшим ангелом, восставшим против бога. И в гимназиях они не учились, чтобы знать, что lux – это свет, а fero – несу. Впрочем, у славян Денница – утренняя заря… Но никому сейчас в этой палате не было никакого дела до этимологии, схоластики и пустопорожних толкований. Александр Николаевич Белозерский, единственный наследник колоссального состояния, был для простых покалеченных мужиков свой – и этого было достаточно.
– Здравствуйте ещё раз! – мягко произнёс он.
Раздался ответный нестройный хор, состоящий из пожеланий здравия, шутливого «И вам не хворать!».
Он направился к постели прооперированного по поводу нагноения шрапнели. Тот было приподнялся на локте.
– Лежи, лежи! – заботливо упредил Белозерский.
Откинув одеяло, Александр Николаевич внимательно осмотрел состояние раны. Сейчас он был вдумчив и сосредоточен и по-особому внимателен. Становилось ясным то, что не понималось и не принималось в гостиных: отчего это «император кондитеров» позволил единственному наследнику учиться в военно-медицинской академии, если по факту рождения ему предстояло обучаться совсем другому делу. Если и существуют врачи от бога, Саша Белозерский, очевидно, принадлежал к их касте. Любому ремеслу обучить человека возможно, ежели человек не глуп, прилежен и с определённого возраста не ест козявки. Но совмещение призвания с ремеслом – высшая благодать. Ею Александр Николаевич и был пожалован.
Размотав бинты, осмотрев рану и убедившись, что заживление идёт положенным путём, ординатор Белозерский улыбнулся и, достав из кармана шрапнель, протянул пациенту на раскрытой ладони.
– Сувенир!
Тот взял с опаской, прежде перекрестившись. Осмотрев кусок металла с искренним детским любопытством, он произнёс с серьёзным мужицким уважением:
– Ишь! Япона мама! Год, значит, во мне тихонько сидела. А тут, смотри, добить решила! Врёшь, не возьмёшь!
– Вовремя обезвредили. Так что поступай с врагом, как знаешь. Хочешь – утопи, а хочешь – в красный угол поставь. Рана твоя дренируется…
– Вы по-русски, Александр Николаевич!
– Гной наружу вышел. Сухо. Перевязывать больше не будем. Без повязки, на воздухе, быстрей заживёт.
– Уж и не болит совсем! Два дня тому думал – всё! Взорвётся моя нога, так распёрло и стреляло. Я это… – мужик замялся, застеснялся, воздуху набрал, неловко потянувшись к прикроватной тумбочке, положил на неё шрапнель, да так и застыл. – Жена приехала, господин доктор! Дурында! Покос, а она шастает, переживает. Я сам-то сейчас фабричный, у Мельцера. Денег больше. Она на хозяйстве в деревне, баба моя, значит…
– Достать чего? Помогу.
Мужик кивнул. Белозерский нагнулся и вынул из тумбочки что-то округлое, завёрнутое в чистое полотно. Великолепный запах не оставлял места сомнениям: в руках он держал свежий хлеб, какой умеют печь только в деревнях.
Пациент выпалил, окончательно смутившись:
– Не побрезгуйте, Ваше благородие! Сама пекла!
Он поклонился Сашке, насколько это было возможно из положения лёжа. Белозерский расчувствовался простецкой душевной благодарности, стигме его признания. Развернув полотно, он предъявил всем любопытствующим большой красивый пшеничный каравай, смачно вдохнул запах, чуть не зарывшись носом в хлеб. Скорее, чтобы не расплакаться. Все жадно потянули воздух. Осмелев, завидя такую естественную реакцию, пациент решительно заявил:
– Ещё это! Полугар там! Отборнейшая рожь! Сама гнала!
Следом за караваем Белозерский извлёк бутыль самогону в четверть ведра.
– Ох ты! – чистосердечно восхитился он.
Увидав эдакий товар, израненные, искалеченные мужики присвистнули. Повисла напряжённая тишина, будто мир стал на паузу.
– Я сейчас!
Александр Николаевич выскочил из палаты. Пациенты сверлили бутыль взглядами. Даритель несколько растерялся.
– Сдаст профессору! – сглотнув, произнёс один из шахматистов, тот, что без левой руки.
– Не таков наш Саня! – заверил его товарищ без правой.
– Без царя в голове наш лекарь! – ткнул в направлении двери костылём один из болельщиков.
Конечно же, никого сдавать профессору Белозерский не собирался. Бутыль следовало изъять. Но и ничего не откинуть мужикам, уставшим от строгого больничного режима, было непозволительно. Следовало найти соломоново решение и как можно скорее. Вылетев из палаты, он обозрел коридор: пустынно! Только в дальнем конце из дверей кабинета Алексея Фёдоровича вышел высокий стройный молодой человек и пошёл в направлении, неизвестном обыкновенным посетителям, – на выход с непарадного крыльца. Белозерский испытал приступ ревностного любопытства, но тут из-за угла вышла Ася, торопившаяся по сестринским делам с кружкой Эсмарха. Соломоново решение явилось само собой, как являлось Сашке Белозерскому всё.
– Ася! – окликнул он, присовокупив нежнейший из своего арсенала взглядов. – Асенька! – он схватил её за тонкие плечики.
Ася моментально растаяла.
– Да?!
– Минутку часовым на посту, Асенька!
Белозерский увлёк девушку к дверям палаты и выхватил у неё кружку Эсмарха.
– Стойте здесь и немедленно сигнализируйте при приближении… кого бы то ни было!
После чего зашёл в палату, плотно прикрыв дверь.
Напряжённые лица сосредоточенно взирали на бутыль самогону. Александр Николаевич поставил кружку Эсмарха на тумбочку.
– Быстро вздрогнем, где же кружки?!
Вовремя доктор разрядил атмосферу. Все дружно потянулись за ёмкостями, каждый в меру личной маневренности. С одобрительным гомоном, под восклицание виновника появления хлебного вина:
– Вот это дело!
Другие электронные книги автора Татьяна Юрьевна Соломатина
Другие аудиокниги автора Татьяна Юрьевна Соломатина
Доброе утро, Одесса!




 4.67
4.67