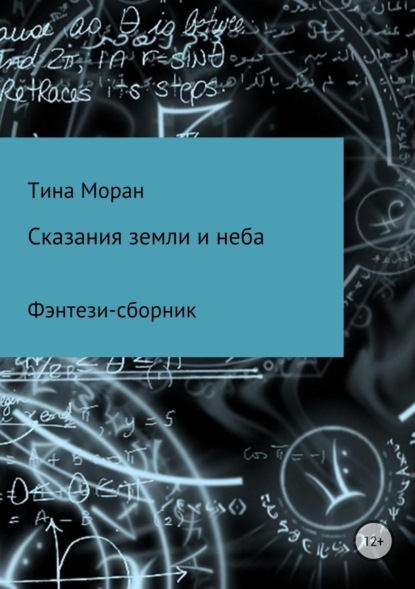По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказания земли и неба. Фэнтези-сборник
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сказания земли и неба. Фэнтези-сборник
Тина Моран
Краткие истории о мире и волшебстве.
Лисье солнце
Каждый год снег для нее оборачивался праздником, белым праздником очищения и обновления, когда чистейшее в своей синеве небо переливается сиянием цвета, а искрящиеся снежинки мельтешат в морозном воздухе.
Лиса с радостью встречает первый побуревший лист, с восторгом внимает первому дуновению холодного ветра, что принесся с севера, прижимает уши, когда на них падают тяжелые капли осеннего дождя. С поклоном провожает она духа зеленого лета, чествует огромным костром, искры которого летят в ночное, уже похолодевшее небо мириадами светляков. Достигают ли они того, кому предназначены – неизвестно, да и неинтересно, ведь греть старые кости у жаркого пламени приятно, а большего ей и не надо.
Изба ее, сложенная из берез в незапамятные времена, стоит и по сей день – время не покушается на закаленные лисьими чарами бревна, – но служит она только лишь для ночлега. Днями напролет бродит лиса вне дома, летом роется в буром подшерстке леса, дремлет на нагретых солнцем валунах рядом с горной грядой, наблюдает за мелкой живностью и слушает песни птиц, мечтая вплести их трели в свои многочисленные амулеты.
С наступлением зимы жизнь в лесу затихает, прячется или засыпает, и лиса становится полноправной правительницей белого безмолвия. Короткие зимние дни она проводит в спячке, а с наступлением темноты прыгает и кувыркается в сугробах, поднимая снежные вихри. В восторженном веселье лиса забывает о том, что глухая ночь наблюдает за ней, а лес молчит в ожидании, когда свет солнца растопит угольную темноту. Только без лисьей помощи утра не настанет: вот уже не одну тысячу лет своими лапами выкатывает она на небо светящийся шар, который освещает лесные тропы, поля, деревни и города, помогает людям в трудах и заботах. Летом солнце жглось, и лиса надевала рукавицы, сшитые из шкур бурундуков и белок, холодное же зимнее солнце можно было толкать перед собою безбоязненно, только изредка дуя на лапы.
Заветный час на подходе, лиса вострит уши и замирает – в предрассветное время в зимнем воздухе стынет едва слышная трель, чистая, звонкая, и думается, что это духи серебряными молоточками стучат по небесной тверди, застывшей в ожидании зари. Пора действовать.
Солнце дремлет на чердаке деревянного сруба, на подстилке из золотой соломы и окаменелых ветвей, круглое и горячее. Оно немое и сонное, но лиса не ищет собеседников, которые изъясняются звуками, она трогает колючую желтую шкуру, мыслью пробуждая светило ото сна. Поплевав на лапы, толкает солнце изо всех своих лисьих сил, и оно бодро выкатывается на середину небосвода, растолкав звезды и потеснив ночной мрак. Покружившись и покрасовавшись, желтый шар вспоминает о своем предназначении и начинает делиться своим теплом с вверенным ему миром. Лиса с гордостью наблюдает за стремительно светлеющим небом – еще одно утро позади. Теперь можно отдохнуть до вечера, выспаться всласть, закусить чашкой масла, поднесенной давеча людьми из деревни, что за ее лесом. Лиса не нуждается в пище, но масло приходится ей по вкусу, она всегда вылизывает плошку досуха, наслаждается запахом тающего на языке янтарного жира. Старейшины окрестных деревень, окружающих лес, исправно чтят ее подношениями, которые лиса принимает без гордости, но с благодарностью.
Давным-давно старый добрый бог с лисьим хвостом вручил лисе маленький желтый огонек и наказал заботиться о нем, беречь, как своего детеныша, которого у нее никогда не было. И берегла его лиса, растила, укачивала, лапами прикрывала от ледяного дыхания мрачной Пустоты и огненных щупалец жирного Хаоса. Хвостом прятала, песни пела без единого звука, покуда не стал огонек втрое больше себя изначального, а после – и вчетверо самой лисы. И тогда облюбовала лиса голубой шар величиной с троих добрых богов, поселилась в дремучей чаще, укрылась под шумными кронами деревьев – понравилась ей зелень леса, до той поры не виданная ею. А дитя, взращенное на лисьих песнях, согретое мягкостью рыжей шерсти, отпускала порезвиться каждое утро на небосвод и каждый вечер зазывала обратно. Она – не небожитель, а всего лишь безымянная лиса, которая вырастила свое собственное Солнце, отданное большим старым богом с лисьим хвостом.
Всего по крупице
В безымянном лесу, что в стране Суоми, дрожащий воздух извечно весеннего утра особенно прозрачен. Напоенный морозной смолой, до самого розовощёкого рассвета лес настолько тих, что впору бы мёртвым его назвать, но суровые сосны полны жизни, да и солнце слишком шустро водит горячими пальцами по земле, щёлкает по плоским мордочкам выползающих на теплеющие валуны змей, заставляет жмуриться и зевать сонных зверей, что высовывают из нор любопытные носы. Гладит солнце цветочные головы на затерянной в глубине дремучего леса поляне, скользят те пальцы между вековыми деревьями к подножью не то холма, не то кургана. К полудню его лысина, кое-где поросшая мелкой острой травой, трескается, и на зов дня выбирается выбеленная смертью дева. Смахивает с серых ресниц клейкую паутину сна, встряхивает тонкими руками, притопывает ногами, призывая силу вернуться в тело. Лицо тонкое и слишком бесцветное, чтобы казаться красивым даже самому неприхотливому мужчине; ни подол, ни рукава простого серого платья не отягощает ненужное богатство, не затянут лиф на тончайшей талии, свободна узкая грудь, хоть и не вздымается от дыхания. От сна под тяжёлой толщей земли её глаза неподвижны, но взглядом, подобным пущенной стреле, она отмечает всё, что пригодится в сегодняшней работе. Бруснику, застывшую каплями крови на тёмной зелени, природные корзинки, плотно набитые морошкой. Листья всех оттенков, округлые, вытянутые, острые, как кинжалы. Белый ствол берёзы, лихо кручёные побуревшие завитки на крепких шляпках подберёзовиков. Пень, облепленный жирными волокнистыми маслятами, и россыпь мелких камешков рядом.
Слышит она шаги зайцев и храп медведя, дыхание росомахи и мягкую поступь рыси. До чуткого слуха доносятся истончившиеся до призрачного гула голоса людей, живущих далеко-далеко за лесом, скрежет машин, рокот где-то в вышине. Чует она за многие тысячи шагов радость, жестокую боль, разочарование. Не сокрыть от её взора затаённые мечты, сокровенные желания и самые мрачные чёрные мысли. Возвратив силу, воспаряет она над верхушками самых высоких деревьев, слушает и смотрит, а после принимается за дело.
С наступлением вечера возвращается с полным подолом сосновых иголок, яркой ягоды и звериных шкурок. Ссыпает бережно свою добычу на утоптанную перед курганом землю, кладёт сверху морскую звезду и тропический фрукт и снова выходит навстречу закату.
Во второй раз подол едва не рвётся от тяжести порождений гор, того, что люди почитают за богатство. Жёлтое, такое дорогое золото, малахит и изумруды, бесплодный железный колчедан и рыжая медь, прозрачные кристаллы. Всего по крупице, но и того много. Напевая песню без слов, она ссыпает добычу на землю и глядит на предзакатное небо. Оно говорит, что пора.
Озеро встречает её приветственной рябью, плеском и серебристыми спинками мелкой рыбёшки. Опустив пальцы в холодную воду, берёт она отражение солнца с поверхности и подбрасывает его в воздух, чтобы просохло, после кладёт на голую землю, подальше от сухой травы. Самое время немного передохнуть и послушать песню ветра.
Едва только с небосвода подмигивает первая звезда, знаменуя крадущуюся ночь, она вновь отправляется на поиски бесшумными, но скорыми шагами. Возвращается быстро, на сей раз подол серого платья наполнен звуками: шелестом листьев, рыком медведя, детским плачем, жужжанием пчёл, ровным голосом корабельного двигателя.
Запах машинного масла для неё так же хорош, как и запах мёда, она бесстрастна, когда выгоняет пыльный дух раскалённого песка, и тот смешивается с корицей и запахом сырой земли. Она всего лишь собиратель.
Самое важное путешествие заканчивается уже глубокой ночью; подходит она к кургану с подолом, наполненным мудрёными мечтами, хитростью и коварством, желаниями и чаяниями простых людей, незамысловатыми страхами белок, яростью кошек, тяжёлой злостью волков. В тишине звенят удивление и опасение, радостно вьётся восхищение, а безразличие пытается поглотить раболепие.
Второй круг, полный лик луны, она берёт с водной глади, едва только он отражается в озере. Встряхивает, накладывает на солнечный; вот и готовы сверкающие пяльцы. Полотно бытия витает в воздухе, такое прозрачное, что заметить его может лишь тот, кто держал в своих руках жизнь и смерть, распутывал их переплетение. Она осторожно нащупывает край и вытягивает ткань до земли. Зажимает намертво огненным кругом серебряный лунный, вот и готово всё к работе.
И всю ночь под музыку шорохов и редкое уханье сов вышивает она на глади новый день. Каким он будет, неизвестно даже ей, ведь глаза её закрыты, а руку направляет неведомая сила. Ровно ложатся рядом и тяжёлое железо, и мягкое золото, прячутся в бересте невесомые хвоинки, а змеиная шкурка между иссохших чешуек таит беспокойное дыхание ветра. Соперничают в ярости красок полевые цветы и гнев ребёнка, оставленного родителями. Пламенеет вожделение, но не затмить ему прозрачности огромного сапфира. Спит добрый смех в когтистых тёплых лапах, крутятся шестерёнки механизмов, поросшие спорыньёй и бурой шерстью с каплями крови.
И слой за слоем ложатся воплощения снов на поверхность легчайшего полотна, переливаясь и оживая. Пульсируют жизни, обрамлённые камнем и землёй, увлажнённые водой с примесью цветочной пыльцы, вопят страсти, утопленные в стакане кислого вина. Пока кипит работа, ветер в своих невесомых ладонях несёт голодный вой, запах молока и рождения новой жизни, и они тотчас оказываются частью мозаики.
Когда неповторимый узор нового дня готов, с неизменной помощью ветра она расправляет полотно над землёй. Разгладив и сбрызнув росой, оглядывает своё творение – всё ли учла? – и снова уходит в холодные объятия кургана, чтобы видеть сны, которые после пробуждения снова вышьет на радость и печаль всему миру.
Небесные художники
Проносятся над хребтом сумрачных гор облака, цепляют лохматыми боками вековые ели и летят дальше, свободные, как быстроходные судёнышки. Щедро разливает краску быстрокрылый золотистый дракон Йельтс, дитя Сумрака и Абсолюта. В его когтистых лапах зарождаются переливающиеся светом сгустки, которые то и дело меняют цвет. А уж цвету Йельтс быстро находит применение. Кое-где багрянец слишком яркок, и приходилось его смазывать, оттенять розовой дымкой. Плещет Йельтс хвостом то сильно, то осторожно и костяной иглой на кончике тончайшие узоры выводит. Пыхтят облака недовольно, а стоит Йельтсу неверно смешать краски, превращаются в угрюмые тучи. Ворчат громовые раскаты в потемневшей утробе, ярятся колючие молнии – только успевай уворачиваться. Йельтс сгоняет тучи в стаю, а особо упорствующих угощает кнутом хвоста. Серые бока, уже наливающиеся грозовым дождём, приходится взбивать и раскрашивать старательней, чем все прочие. Йельтс ловит за искрящиеся хвосты молнии и натирает им носы серебристой краской. Возмущённые молнии громко потрескивают и съёживаются, тем самым отсрочив начало грозы.
А вдали блеск золотых чешуек и трубные голоса – то резвятся другие дети стихий, столь же могучие и благородные. И радостно становится Йельтсу, сильнее бьёт он хвостом, разбрасывая разноцветные брызги. Взбухают тучи то там, то здесь и, напитавшись тяжестью красок, низвергаются проливным дождём.
Холодны звонкие капли и быстры, но ещё быстрее Йельтс, снующий меж ними. Ни одна капля не долетит до его чешуи, рассыпавшись на брызги, не застит наполненных тысячелетней мудростью глаз. Летит Йельтс над полями, сумрачными лесами, только переполненные сердитой усталостью города не любит он, стремительно проносится над крышами и, обогнав ветер, исчезает в выси.
Уж близок конец разнузданной грозе, всё тише гром, всё слабее и ленивее молнии. Плотные щиты туч прорезают солнечные лучи. Свиваются в жгуты разноцветные потёки, стекающие с бывших облаков, и повисают над землёй радужным коромыслом. Дрожит воздух, и льётся свет на гладкую поверхность радуги, и природа поёт: шумом деревьев, звоном капели, ворчанием удаляющегося грома. Проносится над обновлённой травой победная песнь драконов и устремляется ввысь, к лукаво выглядывающему солнцу.
Едва сумерки затемняют омытую дождём голубизну неба, утихают и небесные художники. Дремлет в небе великий Йельтс, покачиваясь в прозрачном воздухе, и снится ему завтрашний день, наполненный солнцем и разноцветными брызгами.
Веточка багульника
В тихие, преимущественно летние вечера, когда небо чуть темнеет с краю, а рогалик месяца гордо висит среди редких облаков, хвастая молодостью и изяществом, из давно недействующей трубы выбирается наружу Ранежка, юная и белая, что твой месяц. Она принюхивается – не несёт ли ветер запах ненавистного дождя, выползает из чрева обрушенной заколоченной печки, некогда бывшей сердцем нового, только построенного дома, и расправляет конечности. Свесив длинные ноги с края крыши, она болтает ими и наблюдает за умирающим днём. Наблюдает она и за машинами, и за людьми на улицах – с тем особенным, присущим только детям интересом. Корявыми пальцами она пробует на прочность стекло ближайших к ней окон, и звук напоминает такой привычный стук ветки, знакомый каждому из нас.
Иногда люди в окнах замечают её ноги, колышущиеся на ветру. Кто-то в недоумении выглядывает из окна, кто-то считает, что показалось – тяжёлый рабочий день, кризис в стране, напряжённые отношения с соседями, да и дети шумят-мельтешат, как тут не одуреть? Плохая экология, опять же, мало ли что примерещится?
Что глухая, с бездонным чёрным небом ночь, что время магического полнолуния одинаково приятны. С первой звездой в ней просыпается жажда жизни. И тогда дремота оставляет её кручёное тело окончательно. Её радостные мяукающие вопли, слишком тихие для кошачьих, люди принимают за завывание ветра в старых трубах, скрежет кривых когтей – за сползающую черепицу, за птицу или же снова за разгулявшееся воображение.
Ранежка просыпается в особенную ночь – ночь осеннего равноденствия, ночь охоты. Ранежка крадётся, пытливо заглядывает в погасшие окна, принюхивается, в надежде уловить тот самый аппетитный запах.
Издавна люди развешивали над камином веточки багульника, чтобы отвадить отродье из трубы. Ранежка плевалась стремительно краснеющей слюной от терпкого острого запаха, колющего её плоский нос, но в дом входить не смела. Крутилась, едва не кусая себя за длинный плоский хвост, и надолго пропадала из этого дома. Но нет-нет да заглянет: вдруг убрали противную траву, вдруг есть, чем поживиться?
В эту ночь ей повезло. Стащив добычу, усыпив её заунывной песней, тащит её Ранежка наверх, под луну. И упивается до самого рассвета тем, какая она ловкая, да смелая, да могучая.
Едва брезжит рассвет, глаза Ранежки начинают слипаться, а голова становится тяжёлой. Пора спать. Она ползёт по крыше, перебирая руками и ногами, причудливо выворачивая тело, изредка останавливается, поводит длинным носом – утренние запахи такие резкие, что слезятся глаза. Звуки и вовсе малоприятные: грохот колёс вытянутой как бревно машины по железным палкам такой, что достаёт до самых потрохов. А молочники, дворники – ну какие шумные беспокойные люди! Жаль, что такие большие, всех не заешь.
Она пробирается в родную трубу, в уютное гнёздышко из шуршащей бумаги и тряпок, широко зевает и потягивается так, что руки выходят из суставов. В последнюю сотню лет это стало уже привычной проблемой, Ранежка с трудом вправляет их и думает, что надо бы разнообразить рацион содержимым костей, оно любой недуг за несколько ночей излечивает.
Ранежка зевает так, что клацают зубы, и зарывается во вкусно пахнущую тряпочку, которую принесла с охоты. Ещё недавно в неё был завёрнут мягкий и тёплый человеческий детёныш. Детёныш уже кончился, осталась только обглоданная, обсосанная добела косточка крохотной ручки. Ранежке жаль уже съеденного сладкого мяса. Но будет ещё не одна ночь, радостно ей, что несъеденных детёнышей в этом городе ещё предостаточно.
Веревочные качели
Еще в новолуние Мади решила обзавестись верёвочной качелей, но прохудился навес на пляже, и пришлось идти вглубь острова за пальмовыми листьями и каучуковым соком. Там, у водопада, она обнаружила, что рыбок в тихой заводи стало больше, и порадовалась: будет чем разнообразить рацион, состоящий из одних лишь ягод и продолговатого растения с довольно приятным запахом. Животных на острове не водилось, не было даже мелких грызунов, которых она с удовольствием бы выпотрошила и поджарила на камнях до хрустящей корочки. Этот остров был слишком необитаемым, Мади была ужасно-ужасно голодной.
Так что рыбки кончились быстро. Выброшенные на раскалённые камни скользкие пёстрые тельца моментально темнели и начинали пахнуть чем-то таким, что едят исключительно избранные. Мади глотала их, почти не жуя. Её язык не знал вкуса соли, паприки или иных добавок, что скрашивают человеческое существование.
Солнце уже вошло в зенит, и блестящее ониксовое тело, никогда не знавшее тесноты одежды, уже текло и переливалось. Серебристые капли, шипя, смешивались с плодородной почвой острова. Что породит этот союз: новое плодоносное дерево, бесполезный валун, пруд с вкуснейшими утками или пустыми лотосами, Мади не задумалась ни на секунду. Чем бы ни обернулась вздувающаяся сейчас почва – это можно будет использовать во благо. Мади потянула за свисающие с деревьев жилы джунглей – лианы, они поддались легко и послушно легли в ладони. Качели будут.
От жары не спасал даже ветер, усилившийся по мере того, как Мади покидала джунгли и возвращалась к своему убежищу на берегу. Охапка листьев почти ничего не весила, а каучуковый сок, собранный в щербатый самодельный кувшин, был и того легче. Туго стянутые вокруг шеи лианы весь недолгий путь игриво ласкали раздутые икры и нехотя сползли к ногам, зарываясь в песок.
Навес чинился в несколько простых движений. Мади наградила себя за труды виноградинами, мелкими и терпкими до боли в горле. Не удаётся ей виноград. Уж лучше мясо, но мясо на острове жить не может.
Неясный гул в островных джунглях напомнил ей о самом важном: о том, зачем она здесь. Мади бросила слюдяной нож, и песок поглотил его. Озеро снова не в порядке.
Чёрное, наполненное гнилой водой озеро жило в лысой глинистой низине. Обычно невозмутимая поверхность дрожала. Со дна поднимались мелкие пузырьки, они росли и росли, пока вода не закипела. Мади присвистнула и отскочила назад.
Остров содрогнулся. Внезапная волна омыла разноцветную гальку берега, и из глубин с мукой глянул помутневший, некогда голубой глаз. Глазное яблоко, пронизанное позеленевшими сосудами без единой капли крови, беспокойно ворочалось в затянутом слизью ложе. Ресницы второго всколыхнули молодую ель у подножия горы за сотню метров; острое зрение Мади различало, как плещутся в синей дали иглы, шелест которых чуткое ухо уловило бы и в штормовое неистовство. Если остров не успокоить – придётся снова чинить навес, а то и джунгли возрождать. О самом худшем думать не хотелось.
То, что могло успокоить остров, находилось к северу от озера, сразу за вздыбленной красноглинной пустошью. Скалы-близнецы, в одной из которых таилось сердце острова, разрезали верхушками вечный серый туман. Мади дёрнула пушистым ухом – остров затих – и обратилась к неуютной узкой дыре в слившемся подножье. Из расщелины пахнуло зловонием, но Мади не имела лёгких и не дышала и потому лишь с досадой присвистнула. Похоже, остров уже начал разлагаться. Надо поторопиться.
Наполненные клубящимся сумраком глаза превосходно видели в темноте пещеры, ловкие четырехпалые конечности уверенно и мягко шлёпали по сочащимся слизью камням. Гулкий удар – и снова смердящая тишина. Мади протиснулась между двух бурых сталагмитов, миновала тёплое озеро густеющей крови и вышла в тесную пещерку с низким потолком.
Тина Моран
Краткие истории о мире и волшебстве.
Лисье солнце
Каждый год снег для нее оборачивался праздником, белым праздником очищения и обновления, когда чистейшее в своей синеве небо переливается сиянием цвета, а искрящиеся снежинки мельтешат в морозном воздухе.
Лиса с радостью встречает первый побуревший лист, с восторгом внимает первому дуновению холодного ветра, что принесся с севера, прижимает уши, когда на них падают тяжелые капли осеннего дождя. С поклоном провожает она духа зеленого лета, чествует огромным костром, искры которого летят в ночное, уже похолодевшее небо мириадами светляков. Достигают ли они того, кому предназначены – неизвестно, да и неинтересно, ведь греть старые кости у жаркого пламени приятно, а большего ей и не надо.
Изба ее, сложенная из берез в незапамятные времена, стоит и по сей день – время не покушается на закаленные лисьими чарами бревна, – но служит она только лишь для ночлега. Днями напролет бродит лиса вне дома, летом роется в буром подшерстке леса, дремлет на нагретых солнцем валунах рядом с горной грядой, наблюдает за мелкой живностью и слушает песни птиц, мечтая вплести их трели в свои многочисленные амулеты.
С наступлением зимы жизнь в лесу затихает, прячется или засыпает, и лиса становится полноправной правительницей белого безмолвия. Короткие зимние дни она проводит в спячке, а с наступлением темноты прыгает и кувыркается в сугробах, поднимая снежные вихри. В восторженном веселье лиса забывает о том, что глухая ночь наблюдает за ней, а лес молчит в ожидании, когда свет солнца растопит угольную темноту. Только без лисьей помощи утра не настанет: вот уже не одну тысячу лет своими лапами выкатывает она на небо светящийся шар, который освещает лесные тропы, поля, деревни и города, помогает людям в трудах и заботах. Летом солнце жглось, и лиса надевала рукавицы, сшитые из шкур бурундуков и белок, холодное же зимнее солнце можно было толкать перед собою безбоязненно, только изредка дуя на лапы.
Заветный час на подходе, лиса вострит уши и замирает – в предрассветное время в зимнем воздухе стынет едва слышная трель, чистая, звонкая, и думается, что это духи серебряными молоточками стучат по небесной тверди, застывшей в ожидании зари. Пора действовать.
Солнце дремлет на чердаке деревянного сруба, на подстилке из золотой соломы и окаменелых ветвей, круглое и горячее. Оно немое и сонное, но лиса не ищет собеседников, которые изъясняются звуками, она трогает колючую желтую шкуру, мыслью пробуждая светило ото сна. Поплевав на лапы, толкает солнце изо всех своих лисьих сил, и оно бодро выкатывается на середину небосвода, растолкав звезды и потеснив ночной мрак. Покружившись и покрасовавшись, желтый шар вспоминает о своем предназначении и начинает делиться своим теплом с вверенным ему миром. Лиса с гордостью наблюдает за стремительно светлеющим небом – еще одно утро позади. Теперь можно отдохнуть до вечера, выспаться всласть, закусить чашкой масла, поднесенной давеча людьми из деревни, что за ее лесом. Лиса не нуждается в пище, но масло приходится ей по вкусу, она всегда вылизывает плошку досуха, наслаждается запахом тающего на языке янтарного жира. Старейшины окрестных деревень, окружающих лес, исправно чтят ее подношениями, которые лиса принимает без гордости, но с благодарностью.
Давным-давно старый добрый бог с лисьим хвостом вручил лисе маленький желтый огонек и наказал заботиться о нем, беречь, как своего детеныша, которого у нее никогда не было. И берегла его лиса, растила, укачивала, лапами прикрывала от ледяного дыхания мрачной Пустоты и огненных щупалец жирного Хаоса. Хвостом прятала, песни пела без единого звука, покуда не стал огонек втрое больше себя изначального, а после – и вчетверо самой лисы. И тогда облюбовала лиса голубой шар величиной с троих добрых богов, поселилась в дремучей чаще, укрылась под шумными кронами деревьев – понравилась ей зелень леса, до той поры не виданная ею. А дитя, взращенное на лисьих песнях, согретое мягкостью рыжей шерсти, отпускала порезвиться каждое утро на небосвод и каждый вечер зазывала обратно. Она – не небожитель, а всего лишь безымянная лиса, которая вырастила свое собственное Солнце, отданное большим старым богом с лисьим хвостом.
Всего по крупице
В безымянном лесу, что в стране Суоми, дрожащий воздух извечно весеннего утра особенно прозрачен. Напоенный морозной смолой, до самого розовощёкого рассвета лес настолько тих, что впору бы мёртвым его назвать, но суровые сосны полны жизни, да и солнце слишком шустро водит горячими пальцами по земле, щёлкает по плоским мордочкам выползающих на теплеющие валуны змей, заставляет жмуриться и зевать сонных зверей, что высовывают из нор любопытные носы. Гладит солнце цветочные головы на затерянной в глубине дремучего леса поляне, скользят те пальцы между вековыми деревьями к подножью не то холма, не то кургана. К полудню его лысина, кое-где поросшая мелкой острой травой, трескается, и на зов дня выбирается выбеленная смертью дева. Смахивает с серых ресниц клейкую паутину сна, встряхивает тонкими руками, притопывает ногами, призывая силу вернуться в тело. Лицо тонкое и слишком бесцветное, чтобы казаться красивым даже самому неприхотливому мужчине; ни подол, ни рукава простого серого платья не отягощает ненужное богатство, не затянут лиф на тончайшей талии, свободна узкая грудь, хоть и не вздымается от дыхания. От сна под тяжёлой толщей земли её глаза неподвижны, но взглядом, подобным пущенной стреле, она отмечает всё, что пригодится в сегодняшней работе. Бруснику, застывшую каплями крови на тёмной зелени, природные корзинки, плотно набитые морошкой. Листья всех оттенков, округлые, вытянутые, острые, как кинжалы. Белый ствол берёзы, лихо кручёные побуревшие завитки на крепких шляпках подберёзовиков. Пень, облепленный жирными волокнистыми маслятами, и россыпь мелких камешков рядом.
Слышит она шаги зайцев и храп медведя, дыхание росомахи и мягкую поступь рыси. До чуткого слуха доносятся истончившиеся до призрачного гула голоса людей, живущих далеко-далеко за лесом, скрежет машин, рокот где-то в вышине. Чует она за многие тысячи шагов радость, жестокую боль, разочарование. Не сокрыть от её взора затаённые мечты, сокровенные желания и самые мрачные чёрные мысли. Возвратив силу, воспаряет она над верхушками самых высоких деревьев, слушает и смотрит, а после принимается за дело.
С наступлением вечера возвращается с полным подолом сосновых иголок, яркой ягоды и звериных шкурок. Ссыпает бережно свою добычу на утоптанную перед курганом землю, кладёт сверху морскую звезду и тропический фрукт и снова выходит навстречу закату.
Во второй раз подол едва не рвётся от тяжести порождений гор, того, что люди почитают за богатство. Жёлтое, такое дорогое золото, малахит и изумруды, бесплодный железный колчедан и рыжая медь, прозрачные кристаллы. Всего по крупице, но и того много. Напевая песню без слов, она ссыпает добычу на землю и глядит на предзакатное небо. Оно говорит, что пора.
Озеро встречает её приветственной рябью, плеском и серебристыми спинками мелкой рыбёшки. Опустив пальцы в холодную воду, берёт она отражение солнца с поверхности и подбрасывает его в воздух, чтобы просохло, после кладёт на голую землю, подальше от сухой травы. Самое время немного передохнуть и послушать песню ветра.
Едва только с небосвода подмигивает первая звезда, знаменуя крадущуюся ночь, она вновь отправляется на поиски бесшумными, но скорыми шагами. Возвращается быстро, на сей раз подол серого платья наполнен звуками: шелестом листьев, рыком медведя, детским плачем, жужжанием пчёл, ровным голосом корабельного двигателя.
Запах машинного масла для неё так же хорош, как и запах мёда, она бесстрастна, когда выгоняет пыльный дух раскалённого песка, и тот смешивается с корицей и запахом сырой земли. Она всего лишь собиратель.
Самое важное путешествие заканчивается уже глубокой ночью; подходит она к кургану с подолом, наполненным мудрёными мечтами, хитростью и коварством, желаниями и чаяниями простых людей, незамысловатыми страхами белок, яростью кошек, тяжёлой злостью волков. В тишине звенят удивление и опасение, радостно вьётся восхищение, а безразличие пытается поглотить раболепие.
Второй круг, полный лик луны, она берёт с водной глади, едва только он отражается в озере. Встряхивает, накладывает на солнечный; вот и готовы сверкающие пяльцы. Полотно бытия витает в воздухе, такое прозрачное, что заметить его может лишь тот, кто держал в своих руках жизнь и смерть, распутывал их переплетение. Она осторожно нащупывает край и вытягивает ткань до земли. Зажимает намертво огненным кругом серебряный лунный, вот и готово всё к работе.
И всю ночь под музыку шорохов и редкое уханье сов вышивает она на глади новый день. Каким он будет, неизвестно даже ей, ведь глаза её закрыты, а руку направляет неведомая сила. Ровно ложатся рядом и тяжёлое железо, и мягкое золото, прячутся в бересте невесомые хвоинки, а змеиная шкурка между иссохших чешуек таит беспокойное дыхание ветра. Соперничают в ярости красок полевые цветы и гнев ребёнка, оставленного родителями. Пламенеет вожделение, но не затмить ему прозрачности огромного сапфира. Спит добрый смех в когтистых тёплых лапах, крутятся шестерёнки механизмов, поросшие спорыньёй и бурой шерстью с каплями крови.
И слой за слоем ложатся воплощения снов на поверхность легчайшего полотна, переливаясь и оживая. Пульсируют жизни, обрамлённые камнем и землёй, увлажнённые водой с примесью цветочной пыльцы, вопят страсти, утопленные в стакане кислого вина. Пока кипит работа, ветер в своих невесомых ладонях несёт голодный вой, запах молока и рождения новой жизни, и они тотчас оказываются частью мозаики.
Когда неповторимый узор нового дня готов, с неизменной помощью ветра она расправляет полотно над землёй. Разгладив и сбрызнув росой, оглядывает своё творение – всё ли учла? – и снова уходит в холодные объятия кургана, чтобы видеть сны, которые после пробуждения снова вышьет на радость и печаль всему миру.
Небесные художники
Проносятся над хребтом сумрачных гор облака, цепляют лохматыми боками вековые ели и летят дальше, свободные, как быстроходные судёнышки. Щедро разливает краску быстрокрылый золотистый дракон Йельтс, дитя Сумрака и Абсолюта. В его когтистых лапах зарождаются переливающиеся светом сгустки, которые то и дело меняют цвет. А уж цвету Йельтс быстро находит применение. Кое-где багрянец слишком яркок, и приходилось его смазывать, оттенять розовой дымкой. Плещет Йельтс хвостом то сильно, то осторожно и костяной иглой на кончике тончайшие узоры выводит. Пыхтят облака недовольно, а стоит Йельтсу неверно смешать краски, превращаются в угрюмые тучи. Ворчат громовые раскаты в потемневшей утробе, ярятся колючие молнии – только успевай уворачиваться. Йельтс сгоняет тучи в стаю, а особо упорствующих угощает кнутом хвоста. Серые бока, уже наливающиеся грозовым дождём, приходится взбивать и раскрашивать старательней, чем все прочие. Йельтс ловит за искрящиеся хвосты молнии и натирает им носы серебристой краской. Возмущённые молнии громко потрескивают и съёживаются, тем самым отсрочив начало грозы.
А вдали блеск золотых чешуек и трубные голоса – то резвятся другие дети стихий, столь же могучие и благородные. И радостно становится Йельтсу, сильнее бьёт он хвостом, разбрасывая разноцветные брызги. Взбухают тучи то там, то здесь и, напитавшись тяжестью красок, низвергаются проливным дождём.
Холодны звонкие капли и быстры, но ещё быстрее Йельтс, снующий меж ними. Ни одна капля не долетит до его чешуи, рассыпавшись на брызги, не застит наполненных тысячелетней мудростью глаз. Летит Йельтс над полями, сумрачными лесами, только переполненные сердитой усталостью города не любит он, стремительно проносится над крышами и, обогнав ветер, исчезает в выси.
Уж близок конец разнузданной грозе, всё тише гром, всё слабее и ленивее молнии. Плотные щиты туч прорезают солнечные лучи. Свиваются в жгуты разноцветные потёки, стекающие с бывших облаков, и повисают над землёй радужным коромыслом. Дрожит воздух, и льётся свет на гладкую поверхность радуги, и природа поёт: шумом деревьев, звоном капели, ворчанием удаляющегося грома. Проносится над обновлённой травой победная песнь драконов и устремляется ввысь, к лукаво выглядывающему солнцу.
Едва сумерки затемняют омытую дождём голубизну неба, утихают и небесные художники. Дремлет в небе великий Йельтс, покачиваясь в прозрачном воздухе, и снится ему завтрашний день, наполненный солнцем и разноцветными брызгами.
Веточка багульника
В тихие, преимущественно летние вечера, когда небо чуть темнеет с краю, а рогалик месяца гордо висит среди редких облаков, хвастая молодостью и изяществом, из давно недействующей трубы выбирается наружу Ранежка, юная и белая, что твой месяц. Она принюхивается – не несёт ли ветер запах ненавистного дождя, выползает из чрева обрушенной заколоченной печки, некогда бывшей сердцем нового, только построенного дома, и расправляет конечности. Свесив длинные ноги с края крыши, она болтает ими и наблюдает за умирающим днём. Наблюдает она и за машинами, и за людьми на улицах – с тем особенным, присущим только детям интересом. Корявыми пальцами она пробует на прочность стекло ближайших к ней окон, и звук напоминает такой привычный стук ветки, знакомый каждому из нас.
Иногда люди в окнах замечают её ноги, колышущиеся на ветру. Кто-то в недоумении выглядывает из окна, кто-то считает, что показалось – тяжёлый рабочий день, кризис в стране, напряжённые отношения с соседями, да и дети шумят-мельтешат, как тут не одуреть? Плохая экология, опять же, мало ли что примерещится?
Что глухая, с бездонным чёрным небом ночь, что время магического полнолуния одинаково приятны. С первой звездой в ней просыпается жажда жизни. И тогда дремота оставляет её кручёное тело окончательно. Её радостные мяукающие вопли, слишком тихие для кошачьих, люди принимают за завывание ветра в старых трубах, скрежет кривых когтей – за сползающую черепицу, за птицу или же снова за разгулявшееся воображение.
Ранежка просыпается в особенную ночь – ночь осеннего равноденствия, ночь охоты. Ранежка крадётся, пытливо заглядывает в погасшие окна, принюхивается, в надежде уловить тот самый аппетитный запах.
Издавна люди развешивали над камином веточки багульника, чтобы отвадить отродье из трубы. Ранежка плевалась стремительно краснеющей слюной от терпкого острого запаха, колющего её плоский нос, но в дом входить не смела. Крутилась, едва не кусая себя за длинный плоский хвост, и надолго пропадала из этого дома. Но нет-нет да заглянет: вдруг убрали противную траву, вдруг есть, чем поживиться?
В эту ночь ей повезло. Стащив добычу, усыпив её заунывной песней, тащит её Ранежка наверх, под луну. И упивается до самого рассвета тем, какая она ловкая, да смелая, да могучая.
Едва брезжит рассвет, глаза Ранежки начинают слипаться, а голова становится тяжёлой. Пора спать. Она ползёт по крыше, перебирая руками и ногами, причудливо выворачивая тело, изредка останавливается, поводит длинным носом – утренние запахи такие резкие, что слезятся глаза. Звуки и вовсе малоприятные: грохот колёс вытянутой как бревно машины по железным палкам такой, что достаёт до самых потрохов. А молочники, дворники – ну какие шумные беспокойные люди! Жаль, что такие большие, всех не заешь.
Она пробирается в родную трубу, в уютное гнёздышко из шуршащей бумаги и тряпок, широко зевает и потягивается так, что руки выходят из суставов. В последнюю сотню лет это стало уже привычной проблемой, Ранежка с трудом вправляет их и думает, что надо бы разнообразить рацион содержимым костей, оно любой недуг за несколько ночей излечивает.
Ранежка зевает так, что клацают зубы, и зарывается во вкусно пахнущую тряпочку, которую принесла с охоты. Ещё недавно в неё был завёрнут мягкий и тёплый человеческий детёныш. Детёныш уже кончился, осталась только обглоданная, обсосанная добела косточка крохотной ручки. Ранежке жаль уже съеденного сладкого мяса. Но будет ещё не одна ночь, радостно ей, что несъеденных детёнышей в этом городе ещё предостаточно.
Веревочные качели
Еще в новолуние Мади решила обзавестись верёвочной качелей, но прохудился навес на пляже, и пришлось идти вглубь острова за пальмовыми листьями и каучуковым соком. Там, у водопада, она обнаружила, что рыбок в тихой заводи стало больше, и порадовалась: будет чем разнообразить рацион, состоящий из одних лишь ягод и продолговатого растения с довольно приятным запахом. Животных на острове не водилось, не было даже мелких грызунов, которых она с удовольствием бы выпотрошила и поджарила на камнях до хрустящей корочки. Этот остров был слишком необитаемым, Мади была ужасно-ужасно голодной.
Так что рыбки кончились быстро. Выброшенные на раскалённые камни скользкие пёстрые тельца моментально темнели и начинали пахнуть чем-то таким, что едят исключительно избранные. Мади глотала их, почти не жуя. Её язык не знал вкуса соли, паприки или иных добавок, что скрашивают человеческое существование.
Солнце уже вошло в зенит, и блестящее ониксовое тело, никогда не знавшее тесноты одежды, уже текло и переливалось. Серебристые капли, шипя, смешивались с плодородной почвой острова. Что породит этот союз: новое плодоносное дерево, бесполезный валун, пруд с вкуснейшими утками или пустыми лотосами, Мади не задумалась ни на секунду. Чем бы ни обернулась вздувающаяся сейчас почва – это можно будет использовать во благо. Мади потянула за свисающие с деревьев жилы джунглей – лианы, они поддались легко и послушно легли в ладони. Качели будут.
От жары не спасал даже ветер, усилившийся по мере того, как Мади покидала джунгли и возвращалась к своему убежищу на берегу. Охапка листьев почти ничего не весила, а каучуковый сок, собранный в щербатый самодельный кувшин, был и того легче. Туго стянутые вокруг шеи лианы весь недолгий путь игриво ласкали раздутые икры и нехотя сползли к ногам, зарываясь в песок.
Навес чинился в несколько простых движений. Мади наградила себя за труды виноградинами, мелкими и терпкими до боли в горле. Не удаётся ей виноград. Уж лучше мясо, но мясо на острове жить не может.
Неясный гул в островных джунглях напомнил ей о самом важном: о том, зачем она здесь. Мади бросила слюдяной нож, и песок поглотил его. Озеро снова не в порядке.
Чёрное, наполненное гнилой водой озеро жило в лысой глинистой низине. Обычно невозмутимая поверхность дрожала. Со дна поднимались мелкие пузырьки, они росли и росли, пока вода не закипела. Мади присвистнула и отскочила назад.
Остров содрогнулся. Внезапная волна омыла разноцветную гальку берега, и из глубин с мукой глянул помутневший, некогда голубой глаз. Глазное яблоко, пронизанное позеленевшими сосудами без единой капли крови, беспокойно ворочалось в затянутом слизью ложе. Ресницы второго всколыхнули молодую ель у подножия горы за сотню метров; острое зрение Мади различало, как плещутся в синей дали иглы, шелест которых чуткое ухо уловило бы и в штормовое неистовство. Если остров не успокоить – придётся снова чинить навес, а то и джунгли возрождать. О самом худшем думать не хотелось.
То, что могло успокоить остров, находилось к северу от озера, сразу за вздыбленной красноглинной пустошью. Скалы-близнецы, в одной из которых таилось сердце острова, разрезали верхушками вечный серый туман. Мади дёрнула пушистым ухом – остров затих – и обратилась к неуютной узкой дыре в слившемся подножье. Из расщелины пахнуло зловонием, но Мади не имела лёгких и не дышала и потому лишь с досадой присвистнула. Похоже, остров уже начал разлагаться. Надо поторопиться.
Наполненные клубящимся сумраком глаза превосходно видели в темноте пещеры, ловкие четырехпалые конечности уверенно и мягко шлёпали по сочащимся слизью камням. Гулкий удар – и снова смердящая тишина. Мади протиснулась между двух бурых сталагмитов, миновала тёплое озеро густеющей крови и вышла в тесную пещерку с низким потолком.