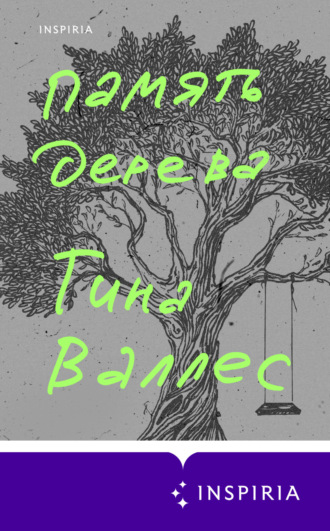
Память дерева
С тех пор как бабушка и дедушка живут с нами, меня гнетет тишина, тишина, обретающая голос, когда все вокруг молчат, когда речь дедушки прерывается на полуслове, когда бабушка раскладывает воспоминания на скатерти, по соседству с апельсиновой кожурой, но достучаться до него не может. Лучше бы я оглох и не слышал такой тишины.
Всего лишь бутерброд
– Можно к тебе?
Бабушка заглядывает в комнату. Я сижу на кровати. Оглохнуть мне не удалось, и я онемел. Я киваю головой. Она заходит, закрывает дверь и садится рядышком.
– Это всего лишь бутерброд. Не расстраивайся.
– К тому же сегодня он был невкусный.
– Могу себе представить.
– Надеюсь, хоть завтра он ничего не забудет.
– Он и сегодня ничего не забыл. Это я, растяпа, отправила его в школу с пустыми руками, ясно?
Я молча киваю. Я опять онемел.
– Так что же, может быть, покушаешь еще? Пойдем со мной на кухню…
Я молча качаю головой. Бабушка встает и медленно-медленно уходит. Она так долго закрывает дверь, как будто в этом таится нечто такое, чего я еще не понимаю. Как в дедушкиных словах.
Домашнее задание
Дверь, так неспешно закрытую бабушкой, я открыл с трудом. Казалось, она весит целую тонну.
Бабушка в столовой читает, не глядя в книгу. И тут я понимаю, почему дверь была такая тяжелая: от бабушкиного взгляда.
– Будешь сегодня делать уроки?
Я киваю в знак согласия.
– Давай-ка тогда садись, занимайся, а то вот-вот мама придет.
И я делаю домашнее задание, не глядя в тетрадку. А бабушка не смотрит в книгу. А дедушка в газету. Все мы прячемся за бумажной стеной, ведь скоро вернется мама.
До чего тут тихо
Мама пришла в том же хорошем настроении, в каком была с утра. Наша королева Гвиневра открыла дверь в прихожую, как ветерок, треплющий волосы зевак. Я крепко ухватился за тетрадку.
– До чего тут тихо!
Дедушка с бабушкой покосились на меня.
– А, ты все еще делаешь уроки?
Я кивнул. Похоже, бабушка безмолвно просила меня помолчать, укрывшись за книгой. И вот клоники заперлись на кухне, а дедушка так пристально уставился в газету, что колонка новостей окрасила его в грустно-серый цвет.
Серый цвет
К тому времени, как мама и бабушка вышли из кухни, я уже трижды перепроверил домашнее задание по математике. После разговора они тоже стали грустно-серыми. Но тут входная дверь распахнулась, и в нее влетел новый цветной вихрь. Это был наш король Артур.
– До чего я проголодался! А что у нас на ужин?
Оказалось, что на кухне ничего не булькает, и кипят только страсти клоников.
– Тогда, ребята, наделаем бутербродов со всякой всячиной!
Похоже, что от нас с дедушкой аппетит убежал к папе.
Черная бутифарра
Мама и бабушка вместе наготовили целое блюдо колбас и сыров, стоя рядом в уголочке у кухонной столешницы. Они нарезали их неторопливо и складывали ломтик к ломтику, а папа намазывал хлеб томатом, поливал оливковым маслом и посыпал солью с охотой, какой хватило бы на нас троих. Мы с дедушкой молча накрыли на стол.
– Приятного аппетита, мои дорогие!
Все еще сияя, как разноцветный фонарик, папа соорудил себе бутербродик с белой и черной бутифаррой[6]: в его руках он казался необычайно вкусным.
– Жан, тебе положить кровяной колбасы?
– Он ее уже кушал после школы, правда, сынок?
И мне показалось, что кусочки колбасы на блюде – как черные дыры. Одна за другой, они исчезали в животе у папы.
Вспять
Сегодня мне снится сон, в котором время идет вспять. Я у бабушки с дедушкой, в маленьком домике, где всегда пахнет пылающими в печке дровами, даже летом. Дедушка сидит у себя в мастерской, пытаясь починить непослушный будильник, не желающий отсчитывать время. Бабушка чистит картошку. Папа с мамой ушли на террасу на крыше загорать и читать книжки. А я их всех вижу, но меня там нет, или я там, но меня не видно, и я все смотрю и смотрю на дедушку и на часы, на бабушку и на картошку, на родителей под жарким солнцем и не могу надышаться, насытиться резким запахом пылающих в печке дров. И вдруг я у всех на виду, я будильник, отказывающийся отсчитывать время в руках у деда, и мне больно, очень больно, потому что он пытается закрепить у меня в животе новое колесико, круглое, как буква О.
6. Вилаверд
Дрова
Как-то раз в выходные я поехал с Мойсесом погостить у его бабушки и дедушки. Они живут в поселке рядом с морем, Сан-Антони-де-Калонже, в доме с бассейном, и целыми днями ходят в купальных костюмах и в шлепках.
– Мы из воды почти не вылезаем, только разве чтобы поесть и поспать! – радостно сообщил мне Мойсес.
– А как же запах дров?
– Каких еще дров?
– У дедушек и бабушек всегда пахнет дровами, пылающими в печке.
– Да ты что! У моих бабушки и дедушки дома пахнет морем.
Так я узнал, что дома у дедушек и бабушек запах всегда особенный, но не везде один и тот же.
А у бабушек, у самих бабушек, тоже есть свой аромат, уникальный и неповторимый. Бабушка Мойсеса пахнет кремом для загара и петрушкой из рыбной лавки.
– Что это такое? – Каждое застолье сопровождалось для меня открытием нового вида рыбы или морепродуктов.
– Устрицы. Ты никогда их не видел? А мы их просто обожаем!
Дедушка Мойсеса, сеньор Роберт, положил устрицу на ладонь, сложенную чашечкой, взял другой рукой половинку лимона и вылил из нее на устрицу несколько капель лимонного сока, потом отправил в рот скользкое содержимое этой корявой шершавой створки и, прикрыв глаза, стал смаковать ее, выразительно и не совсем благопристойно причмокивая.
– Давай, попробуй, Жан! – стал подначивать меня Мойсес, уже хватая устрицу с блюда, которое бабушка поставила на стол.
– А какие они на вкус? – спросил я, чтобы оттянуть время, прежде чем нечто подобное окажется у меня во рту.
– Как море! – хором сказали все трое.
Бабушка Мойсеса, Фина – «что ж ты зовешь меня сеньорой, как старушку!» – взяла одну устрицу, чуть-чуть побрызгала ее лимонным соком и протянула мне:
– Бери, Жан, не бойся.
Я положил ее в рот, закрыв глаза, для того чтобы не видеть, как это происходит, а не для того, чтобы аппетитно проговорить «ммм!», как сеньор Роберт, и понемногу стал ее пережевывать, сначала со страхом, а потом с отвращением, потому что она оказалась более склизкой, чем я думал, и в конце концов проговорил, широко вытаращив глаза:
– Она и вправду со вкусом моря!
– Пальчики оближешь, правда?
– Нисколечко не правда! – ответил я на бегу, только и желая побыстрее запить ее оранжадом из своего стакана.
Все трое рассмеялись и стали доедать оставшиеся на блюде устрицы, а я в это время с аппетитом уплетал жареные креветки, обсасывая их головы «со знанием дела», как учил меня сеньор Роберт.
У дедушки и бабушки Мойсеса дома пахло морем, и еда там была тоже со вкусом моря, а у моих дедушки и бабушки дома пахло дровами, пылающими в печке, и еда там была с привкусом дымка.
Тик-так
Прошло несколько недель, и теперь Мойсес приехал на пару дней к моим дедушке с бабушкой в Вилаверд.
– Как тут шумно! – Не успев войти, он зажал уши и начал разглядывать дедушкину коллекцию старинных часов на стенах. – Которые из них правильно идут?
Дедушка рассмеялся и повел нас в мастерскую. Там мы просидели до тех пор, пока бабушка не позвала нас к столу. Мы увидели, из чего состоят многие из старинных часов, хранящихся у деда в витрине. Он показал нам даже старые часы с кукушкой, которые сосед по поселку принес ему починить, да так никогда за ними и не вернулся.
– Наверное, они мешали ему спать, и он хотел от них избавиться! – И мы долго смеялись втроем.
Однако на следующее утро Мойсесу стало вовсе не до смеха. Вид у него был, по словам дедушки, «как на похоронах». Такой, что смотреть было страшно.
– Что с тобой, малыш?
Бабушка усадила его на стул у печки, на котором, говорят, до самой смерти сидела моя прабабушка. Я на него никогда не сажусь, мне кажется, это было бы словно залезть к ней на колени, а по бабушкиным рассказам, она была большая злюка.
– Мне кажется, я ни минуты не спал. Тиканье ночью еще слышнее, часы смелее перекликаются, заводят разговоры, выдумывают новые ритмы и песни… Они меня совсем перепугали!
Дедушка расхохотался, а бабушка пихнула его локтем в бок. Такое бывает и с папой, когда мы остаемся ночевать в Вилаверде. С утра у него синяки под глазами, голос глуше обычного, и весь день он чем-нибудь да недоволен, что ему совершенно несвойственно.
У Мойсеса синяков под глазами не было, они у него скорее распухли, и голос у него был такой же, как всегда, только немного тише. Дедушка погладил его по голове, все еще взъерошенной, и успокоил:
– После завтрака пойдем на участок, и ты там выспишься как следует под миндальным деревом. Все как рукой снимет!
Дедушкина вера в деревья неколебима.
Участок
Миндальное дерево Мойсеса. На участке у дедушки с бабушкой растет миндаль, с того дня ставший деревом Мойсеса, потому что он так славно под ним выспался, даже храпел. Но для начала мне пришлось растолковать ему, что это за участок.
– Какой участок? Участок чего?
– Земли или поля, это что-то вроде сада.
– Но ведь твои бабушка и дедушка живут в центре поселка, на маленькой площади с цементным покрытием!
– До этого участка полчаса ходьбы, он на окраине Вилаверда.
– Так выходит, они еще и крестьяне?
– Нет-нет, земля принадлежала моему прадеду и прабабушке: они-то и вправду были крестьянами и выращивали миндаль, фундук, яблоки и персики. Бабушка – портниха, а дед ты и сам знаешь, чем занимается, так ведь?
– Даже и не напоминай!
– Сейчас на участке, кроме нескольких миндальных деревьев, осталась только одна смоковница, а еще там растет картошка, помидоры и латук, и бабушка с дедушкой говорят, что приходят сюда отдохнуть и поразмять ноги.
– Да уж, было бы желание… а жарища-то здесь какая! – сказал он, зажмурив глаза от палящего солнца и почти в полусне, укладываясь в тени миндального дерева, которое вскоре назовет своим.
Пока Мойсес спал, мы с дедушкой дерево за деревом перебирали в памяти семейную историю.
– А как же твоя верба, дедушка? Где именно она росла?
– У нас на площади.
– На маленькой площади? Но она же цементная!
– Зацементировали ее тогда, когда вербы уже не было. Я тебе когда-нибудь об этом расскажу.
Палящее солнце
– Приготовились?
Папа всегда так говорит, когда глушит мотор, припарковавшись на главной площади. А мама ворчит себе под нос и говорит: тоже мне, неженка из большого города, выходит из машины и набирает столько воздуха, что кажется, когда-нибудь она надуется, как шарик, и улетит.
– Не забудьте, до дома Колбасницы в тенечке нигде не спрячешься!
На ходу закрывая машину с брелка, папа мчится к первому подъезду на улице, ведущей к дому дедушки, и скрывается в тени балкона.
А мама, наоборот, шагает не спеша, останавливается, снова дышит полной грудью, будто ей впервые дали надышаться, и говорит, что нежится на солнышке.
Я всегда пытаюсь ей подражать, но в конце концов не выдерживаю и сломя голову несусь к дому Колбасницы.
Мойсес прав, жара в Вилаверде неумолимая, но маму, родившуюся там, должно быть, и правда ласкает это знойное солнце, ведь в его лучах она становится нежнее, мягче, розовее, она даже двигается медленнее, и все это ей так к лицу, что если чуть-чуть прищуриться, глядя на нее из-под балкона Колбасницы, мне почти удается увидеть ее такой, какой она была в детстве, и я хочу, чтобы она бегала и прыгала, чтобы голосок у нее был тоненький, а колени в царапинах, мне так этого хочется, что когда-нибудь мое желание сбудется, даже если чудо продлится всего несколько секунд.
У колбасницы
Колбасницу так зовут потому, что она делает лонганисы[7], похожие на барселонские бутифарры, только еще вкуснее. Услышав это прозвище, Мойсес перепугался, а увидев сеньору Манелу, Колбасницу, чуть было не бросился бежать.
Сеньора Манела всегда ходит в черном. Мама говорит, что она носит траур по своему покойному мужу, который умер больше тридцати лет назад. А еще у нее есть болезнь зрения: повышенная чувствительность к яркому свету – и это-то в Вилаверде, где солнце палит так нещадно! – и поэтому на носу у нее всегда огромные, чрезвычайно темные очки, за которыми ее глаз совсем не видно. Передвигается она с клюкой, которая тридцать лет тому назад, должно быть, была веткой дерева, а волосы у нее собраны в седой пучок, такой жидкий и приплюснутый, что голова похожа на ореховую скорлупку в очках.
– Доброе утро, сеньора Манела. Это Мойсес, друг Жана, он приехал к нам погостить на выходные, – прокричала ей в ухо бабушка, чтобы та лучше слышала.
– Хорошо, голубчик. К твоему отъезду будут у нас свежие лонганисы! – И Колбасница потрепала рукой по плечу застывшего на месте Мойсеса.
– Раз уж Колбасница нас заприметила, стало быть, мы и вправду тут! – пошутил с нами дедушка по дороге домой. – Мимо нее и муха не пролетит!
– А при чем… при чем тут лонганисы? – все еще дрожа, пролепетал Мойсес. – Из… из чего Колбасница делает лонганисы?
Дедушка с бабушкой расхохотались, а я стал успокаивать друга, который все еще потирал плечо, к которому несколько минут назад прикоснулась рука Манелы.
Площадь, ведущая в никуда
Дедушка любит похвастаться, что его дом стоит на площади Каталонии[8], и как только ему удается подловить доверчивого слушателя, вообразившего, что живет он в Барселоне, мимоходом замечает, что его Пласа-де-Каталунья шириной не больше двадцати метров, а обитателей там всего три семьи. Тут-то мой дед и сообщает, что он из Вилаверда, так сияя и пыжась от гордости, что бабушка всплескивает руками от нетерпения:
– Жоан, оставь людей в покое!
Площадь Каталонии в Вилаверде меньше нашего класса в школе. Там три подъезда, несколько цветочных клумб и каменная скамейка, и солнце туда почти не заглядывает. Мостовая теперь цементная, но когда дедушке было столько лет, сколько мне сейчас, ветер поднимал облако глиняной пыли всякий раз, когда решался заглянуть на маленькую площадь, ведущую в никуда. Так дедушка называет свою Пласа-де-Каталунья и голосом радиоведущего добавляет, что другой такой нет во всей стране. «Никто даже и не знает, каким словом ее описать, – заявляет дедушка, – потому что улица, ведущая в никуда – это тупик, но это же не улица, а площадь!», заглядывает собеседнику в глаза, пожимает плечами так, что те достают до ушей, разводит руками ладонями вверх, как будто проверяет, не пошел ли дождик, и улыбается с видом человека, уверенного в своей правоте.
В одном из этих подъездов никто уже не живет, а в другом живут такие же бабушка и дедушка, как и мои. Их зовут Матильде и Игнасио, и летом к ним тоже приезжает внук по имени Антонио, он на год старше меня и в поселке ему знаком каждый уголок.
Пару лет назад нам с Антонио наконец-то разрешили ходить на главную площадь играть в футбол, потому что на нашей площади мы все время бьем мячом по стенам, и бабушка Антонио, сеньора Матильде, у которой уже десять лет как голова раскалывается, ругает нас за то, что мы шумим.
Дедушка говорит, что научился кататься на велосипеде прямо тут, на площади, ведущей в никуда, и что, когда он не мог удержать равновесие, ему стоило только протянуть руку, чтобы облокотиться на стену или на дерево, которое росло как раз посередине.
Мне трудно себе представить, как он крутит педали в этом замкнутом пространстве, в клубах желтой пыли, пытаясь смотреть вперед, а не на руль, и взгляд его мечется от стенки к стенке, как бьет по ним наш с Антонио футбольный мяч, покаabuela[9] Матильде из окна своей спальни не взмолится, чтобы мы перестали. И еще сложнее мне вообразить, что посреди этой маленькой площади когда-то стояло дерево.
– Здесь росло дерево? Не может такого быть!
– Конечно, росло. Я же тебе говорил. Это была моя верба, Жан!
Главная площадь
– Осторожно, Жан, там машины!
Бабушка всегда волнуется, когда мы идем играть на главную площадь, потому что в поселок можно проехать только через нее. Но тишина в Вилаверде такая густая, что если к площади подъезжает машина, мы слышим ее задолго до того, как она появится, и у нас есть время подобрать мяч и сесть на каменную скамейку. Не говоря уже о том, что я барселонец, а Антонио из города Корнелья-де-Льобрегат[10], и мы оба собаку съели на том, чтобы не попасть под машину.
Но посидеть на каменной скамье нам удается не всегда. Ее облюбовали местные старики, потому что это единственное место на площади, где можно посидеть в тени, и оттуда им видно все: церковь, качели, улицу, ведущую к нашему дому, дорогу, по которой едут машины, спуск к реке, где раньше стирали белье.
Когда на скамье не остается свободных мест, и на ней уже сидят четверо старичков, тишина становится гуще, ведь они совсем не разговаривают, они даже не смотрят друг на друга, а только пожевывают зубочистки или веточки фенхеля, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль.
Время от времени кто-нибудь из них, то один, то другой, поднимает левую руку ровно настолько, насколько необходимо для того, чтобы рукав его рубашки немного задрался, и смотрит на часы, поднося запястье почти к самому носу, и объявляет, который час, а все прочие кивают.
Дедушка говорит, что так они проводят время. Я отвечаю, что так день тянется бесконечно, а дедушка кивает точно так же, как старики на скамейке, и добавляет: «В этом-то вся и штука, Жан, сынок».
Время
Время у дедушки с бабушкой проходит медленнее, и я не знаю, обжигающее ли солнце тому причиной, или густая тишина, или множество отсчитывающих его – тик-так, тик-так – часов. Дедушка говорит, что все как раз наоборот, что это в Барселоне мы вечно куда-то спешим, и, может быть, он и прав, потому что под конец лета, когда я возвращаюсь в город, прожив у них целый месяц, мне не сразу удается войти в русло.
– Пошевеливайся, вилавердский ты ребенок! – посмеивается надо мной мама и снова рассказывает мне, что произошло с дедушкой, когда он впервые приехал в город за специальными деталями для часов.
Когда дедушка увидел, что все куда-то спешат по улице Тальерс, он подумал, что где-то неподалеку что-то загорелось, тоже ускорил шаг и, добежав до магазина, спросил, не слышно ли чего о пожаре; перепуганный продавец стремглав выскочил на улицу, чтобы посмотреть, откуда идет дым. Увидев, что все спокойно, он спросил, куда девалась вся беготня и переполох, а дедушка указал ему на прохожих: вот же, глядите, как они мчатся со всех ног. Владелец магазина, сеньор Миньямбрес, расхохотался и осведомился: «А вы откуда приехали?», и не прошло и года с тех пор, как дед, сияя и пыжась от гордости, поведал ему о Вилаверде, когда тот уже наведался к нему в гости. А через пять лет, когда родилась мама, они с дедушкой были уже такими закадычными друзьями, что сеньор Миньямбрес стал ее крестным отцом. Ни мне, ни даже папе не довелось его узнать, но мама, бабушка и дедушка говорят, что он так полюбил Вилаверд, что весь магазин увешал фотографиями нашей площади, реки, мостков для стирки белья, часовни и других уголков поселка, поскольку, кроме всего прочего, он и фотографом был превосходным.
У нас в столовой стоит фотография маленькой мамы, сделанная в ателье сеньора Миньямбреса, с наклейкой с адресом магазина на обратной стороне рамки: Запчасти Миньямбреса, улица Тальерс, 33, Барселона.
Терраса на крыше
Когда мы с Антонио не играем возле дома или на главной площади, я люблю забираться на крышу. Оттуда видно весь поселок и поля вокруг него. Там дедушка сушит на солнце миндаль, а бабушка расставила кучу цветочных горшков с геранями всех цветов. А еще, среди синего неба, там крест-накрест натянуты две лески для сушки белья, и висящие на них простыни – паруса моего корабля, плывущего, как по морям, по окрестным полям и горам, и я мастерю себе шпагу из прищепок, чтобы сражаться с пиратами.
Когда мама с папой приезжают в Вилаверд, они любят выходить на эту террасу. Когда мы с бабушкой и дедушкой уже спим, они берут два стула, два бокала вина и направляются туда подышать свежим воздухом. Они сидят почти в темноте, как будто прячутся, но мама говорит, что света там хватает, для того чтобы видеть все, что ей нужно: сияющие папины глаза, звезды, луну и хрусталь бокалов.
Зимой на крыше сильнее всего чувствуется запах горящих в печке дров, потому что туда выходит печная труба. Я часто гляжу как зачарованный, как облачка дыма уходят в небо, словно стадо барашков.
Как-то раз, когда я любовался дымными барашками, гулявшими по синему небу, дедушка рассказал мне, что в свое время его верба тоже улетела в небо, отдав дому свое тепло.
– Ее сожгли?
– Да, раскололи на дрова.
– Но почему же?
– Потому что ее пришлось срубить.
При этих словах дедушка замер, глядя в вышину, и мне показалось, что он все еще видит в небе облачка вербного дыма. Я так и не успел спросить, зачем срубили его вербу: бабушка позвала нас к столу.
Печь
А еще в Вилаверде мы встречаем Рождество и празднуем Кастаньяду[11]. Бабушка жарит каштаны в печке, и весь дом наполняется теплым ароматом. Осенью в Вилаверде холоднее, чем в Барселоне, и мы куда охотнее уплетаем горячие каштаны и сладкий картофель, чем марципановые сладости с кедровыми орешками.
Под Рождество Бревнышко[12] полеживает у печки и питается мандаринами, и дедушка каждый год напоминает нам, как я в детстве рассердился, что его поставили туда, откуда видно, как его родственники-поленья горят в печи. Все от души хохочут над его рассказом, а мне ничуточки не смешно.
Когда бабушка и дедушка навещают нас зимой в Барселоне, им всегда жарко. Они говорят, что мама с папой включают отопление на полную катушку и что первое средство от холода – шерстяная фуфайка, и только потом уж вязанка дров. Тогда папа пытается втолковать им, что времена меняются, а дедушка подходит к батарее и восклицает: «Это же адская машина!», ну и пошло-поехало. Разбирательство всегда заканчивается тем, что мама всех мирит и признает, что и она тоскует по тому, как пышет жаром печка, но отопление гораздо практичнее и гигиеничнее, «зато дороже!», заключает дедушка, за которым всегда остается последнее слово.
Приехали
Бабушка говорит, что у папы с дедушкой бывают «стычки», потому что они очень похожи, и я уже знаю не только то, что «сталкиваются» они тогда, когда ссорятся и спорят, но и то, что их споры всегда кончаются миром, хотя и часто для этого требуется вмешательство мамы.
По прибытии в Вилаверд мама уходит на кухню поболтать с бабушкой, и та рассказывает ей, что нового в поселке: кто женился, кто развелся, кто ждет ребенка, а кто умер. А папа стучится в дверь дедушкиной мастерской, садится на стул, стоящий у окна, и они вместе сидят в тишине, пока дедушка не выполнит все срочные заказы и не уберет инструменты в малюсенький ящичек. Тут они заводят разговор о работе и о деньгах, и папа в ответ на дедушкины наставления поддакивает, если он в добром расположении духа, а если день у него выдался не из лучших, то назревает стычка.
Мама время от времени заглядывает из кухни в мастерскую, чтобы убедиться, что там все гладко, и, если есть необходимость, подходит поближе и всех мирит. А я сижу с ними либо на кухне, либо в мастерской, а иногда забираюсь на террасу на крыше и, если там развешаны паруса-простыни, плыву на своем корабле.
Мне нравится, что все наши приезды в Вилаверд похожи друг на друга. Мы выскакиваем из машины, спасаясь от палящего солнца, прячемся в тени под балконом Колбасницы, добегаем до маленькой площади и здороваемся с Матильде и Игнасио и уже потом заходим к дедушке и бабушке и до обеда сидим кто на кухне, кто в мастерской, потому что мы всегда приезжаем к ним рано утром, а уезжаем поздно ночью, ведь «с Вилавердом расстаться трудно» – так всегда говорит дед.
7. В одном доме
Что случилось
Сегодня грустно-серым был папа. Мы с бабушкой и дедушкой играли в домино в столовой, а мама смотрела как будто сквозь нас, сидя на подлокотнике кресла, такая же грустно-серая, каким был папа, когда появился на пороге прихожей.
– Жан, давай проверим домашнее задание?
– Прямо сейчас? Но ведь мы еще играем, а ты только что пришел.
– Жан, сынок, пойдем-ка немедленно проверим домашнее задание.
И когда мы с папой отправились в мою комнату, мама встала с кресла, а дедушка начал убирать костяшки домино с потухшим взглядом, значения которого я не понял и никогда не смогу забыть.

