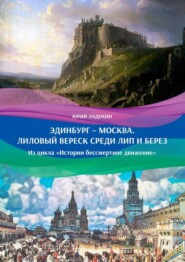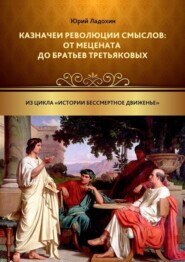По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Атлантида инноваций. Портреты гениев на фоне усадеб. Из цикла «Пассионарии Отечества»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Исследователь усадебной культуры Марина Звягинцева так определила эту ее любопытную особенность: «Одной из важнейших характеристик русской усадьбы является монологичность. Для каждого помещика усадьба служила своеобразной „лабораторией“, „монологом“ человека, ее создавшего, воплотившего в ней собственные взгляды и представления о „рае на земле“. Весьма значимой в социальном плане являлась отгороженность искусственно созданного в усадьбе идиллического „рая“ от проблем и невзгод внешнего мира» (из автореферата диссертации на тему «Русская усадьба как культурно-исторический феномен (на материале Курского края)»).
После опубликования в 1762 году манифеста Петра III «О вольности дворянства» тысячи дворян, которым самодержцем было позволено оставить государственную службу, устремились в свои провинциальные поместья. Поначалу многие жили в деревенской глуши по-старому, в незатейливых деревянных домах, окруженных небольшими строениями для прислуги. Но уже с 1780-х годов молодые хозяева, приезжающие к родителям после окончания учебы в столице, стали делать первые попытки обустроить имения так, чтобы не отстать от веяний «большого света».
На первых порах, и это было вполне закономерно, за образцы архитектуры были взяты здания в Петербурге, построенные в стиле классицизма. Примерами могут служить сооруженные в Подмосковье известным архитектором-паллалианцем Николаем Львовым усадьба Введенское князя Лопухина, главный восьмиколонный дом имения Вороново графа Ростопчина, а также изумительной красоты комплекс построек в усадьбе Знаменское-Раёк в Тверской губернии.
Но стремление придать своей усадьбе неповторимый стиль, даже попытка превзойти столичные образцы, похоже, иногда толкала хозяев поместий в туманные сферы неизведанного. Риск? – безусловно, да. Но, думается он того стоил!
Вот что писал об этой тенденции в начале двадцатого столетия авторитетный специалист по культуре усадеб Николай Врангель: «Параллельно с увлечением строгими формами классицизма, так оригинально и в то же время хорошо идущими к русской природе, в последней четверти XVIII века стали возводиться во множестве постройки более экзотического характера, так как всё, что шло вразрез с прямыми линиями empire, казалось тогда замысловатым, причудливым и сказочным. В стиле готики a la Louis, если можно так выразиться, построена Чесма (1780) Орловым, Вишенки (1769) – Румянцевым, Островки – Потемкиным. В 30-х годах XIX столетия при увлечении романтизмом множество помещичьих усадеб были также построены в так называемом „рыцарском“ стиле, наподобие замков феодальных…» (из книги «Старые усадьбы»).
К середине столетия интерес к готике поутих, однако в последней трети XIX века, с усилением воздействия идей романтизма, вновь возобновился: «В ряде крупных поместий возникают здания дворцового типа, вызывающие ассоциации с французскими замками эпохи Возрождения (Шаровка Кёнигов Харьковской губернии, Аллатскиви Нолькенов вблизи Чудского озера). Их архитектура была построена на сочетании разновеликих объемов, дополненных многочисленными башенками, фронтонами, зубцами» (из книги Е. Марасимовой и Т. Каждан «Культура русской усадьбы»).
Однако расцвет псевдоготики связан не только со стремлением хозяина усадьбы в архитектурных контурах выразить свое тщеславное «я». В основе это явления, как считают исследователи, – более глубокие психологические и мировоззренческие смыслы: «Дом в виде замка, с башнями, стрельчатыми проемами окон, садовая ограда, воспроизводящая феодальные укрепления, – все это не было случайной „затеей“. За псевдоготическими мотивами, за прихотливым нарушением всякой ордерности видятся сложные мотивы владельца-заказчика, связанные, в частности, и с сеньориальным гонором несостоявшейся в России независимости феодальных замков, попыткой хотя бы в архитектурных формах возродить былое боярское могущество рода. В данных строениях мы вновь встречаем настроения личности, внутренне защищающейся от всепроникающей государственности» (Там же).
Примечательно, что подчас архитектурные амбиции владельцев усадеб не имели ничего общего с идеями популярного в то время шотландского экономиста Адама Смита. Там, где ученый каждое действие участника рынка видел через призму экономической целесообразности, помещик словно специально делал всё шиворот-навыворот. Иначе чем можно было объяснить сооружение конюшни или каретного сарая с архитектурными элементами греческого храма или строительство погребов, увенчанных беседками. Известны случаи, когда сооружение людских, кладовых, амбаров нередко поручалось выдающимся архитекторам: «Так, погреб-пирамиду и корпуса винокуренного завода в Митино Новоторжского уезда проектировал владельцу Д. И. Львову его дальний родственник Н. А. Львов» (из книги В. Чернышева «Усадьбы России»).
Но это касалось не только архитектуры. Чего стоят попытки акклиматизации шелковицы на далеких от Гольфстрима просторах Среднерусской возвышенности, эксперименты по высаживанию фисташковых деревьев или разведение выписанных из Англии оленей для натуры пейзажного парка. Это явление Н. Врангель охарактеризовал несколько резковато, но, похоже, ухватил саму суть: «Русское самодурство, главный двигатель нашей культуры и главный тормоз ее, выразилось как нельзя ярче в быте помещичьей России. Безудержная фантазия доморощенных меценатов создала часто смешные, чудаческие затеи, часто курьезные пародии, но иногда и очаровательные, самобытные и тем более неожиданные волшебства» (из книги «Старые усадьбы»).
По понятным причинам хозяевам дворянских поместий было далеко до архитектурной осведомленности таких меценатов, как, к примеру, флорентийский банкир Козимо Медичи, на чьи средства был построен уникальный купол собора Санта-Мария-дель-Флоре. Основная масса любителей изысканного зодчества с трудом представляла себе партитуру создания будущей «музыки в камне»: «Один русский художник чертил план здания для зажиточного помещика, и несколько раз перечеркивал, ибо помещик находил тут худой вид кровли, там столбы не хороши. „Да позвольте вас спросить, – говорил зодчий, – какого чина или ордера угодно вам строение?“. „Разумеется, братец, – ответствует помещик, – что моего чина штабского, а об ордене мы еще подождем, я его не имею“» (из книги А. Писарева «Начертание художеств или правил в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре с разных отрывков, касательно до художеств избранных из лучших сочинений»).
Как нередко случается, зазор между анекдотичным случаем и реальным событием располагается, как сейчас модно говорить, «в области наноразмеров»: «Этот рассказ, приведенный как анекдот, в сущности, вполне правдоподобен. Ведь построил же помещик Дурасов свой подмосковный дом Люблино в виде ордена св. Анны со статуей этой святой на крыше – в память получения им давно желаемого отличия. И, что всего курьезнее, дом вышел совсем красивый и до сих пор является одним из милых подмосковных памятников не только русского чудачества, но и вкуса» (из книги Н. Врангеля «Старые усадьбы»).
Следует, правда, отметить, что музейные специалисты относят этот случай к красивой легенде. Но легенда легендой, а дворец Николая Дурасова в московском районе Люблино, действительно по очертаниям напоминающий орден Святой Анны, недавно отреставрирован и поражает посетителей изяществом архитектурных форм и изысканностью интерьеров.
Но попробуем заменить резковатое слово «самодурство» на более симпатичное – «чудачество». И тогда станут, похоже, более понятны мотивы купца первой гильдии Митрофана Грачева, задумавшего построить на окраине Москвы, в Ховрино, невиданный чудо-дворец с гранеными французскими куполами и многочисленными скульптурами. Выигравший, по легенде, в карты за одну ночь в Монако целое состояние, он заказал в 1900 году известному московскому зодчему Льву Кекушеву проект особняка, очертания которого напоминали бы здание Casino di Monte-Carlo. Создатель шедевров в силе модерн: особняков Листа в Глазовском переулке и Носова на Введенской площади, и здесь не стал устанавливать пределов своей архитектурной фантазии. Башенки и ризалиты со сложными кровлями, чешуйчатые купола с люкарнами, сложная лепнина и разнообразные скульптурные объемы, а в результате – органичный парафраз на облик старейшего игорного заведения Европы.
Иначе как чудачеством не объяснить, видимо, и появление в 1884 году в поселке Муромцево близ Владимира неоготического замка графа Владимира Храповицкого. Путешествуя четырьмя годами ранее по Франции, отставной полковник лейб-гвардии неоднократно выражал восхищение утонченной архитектурой крепостных строений местной знати. Польщенные похвалами, французы имели неосторожность «уколоть русского путешественника: в России-де такого не встретишь».
Обиженный за державу Храповицкий заключил пари, что возведет такой замок у себя на родине в вотчине. (см. статью М. Нащокиной «Русские усадьбы эпохи символизма»). Основные изюминки здания, спроектированного архитектором Петром Бойцовым, – круглые башни, венчающие южное и юго-западные крылья замка, анфилады различной этажности, а также намеренная асимметричность архитектурной композиции. Для обитателей дворца был предложен и невиданный по тем временам комфорт: электрическое освещение от автономного локомобиля, центральное отопление, водопровод и телефонная связь.
Хозяина изысканной подмосковной усадьбы Архангельское князя Николая Юсупова тоже, наверное, можно было назвать «большим оригиналом». Но для обладателя уникальной для первой половины XIX века коллекции из 600 живописных полотен, множества скульптур, фарфоровых изделий, библиотеки, насчитывающей 20 тысяч томов, этого звания, было бы, думается, недостаточно.
Владелец недвижимости на сумму более двадцати миллионов «царских» рублей (что позволяло бы ему, например, сравняться по доходам с каждым из двадцати богатейших английских землевладельцев), он, похоже, мог для себя определить такое кредо, как «заводить что редко, и чтобы все было лучше, нежели у других».
Думается, исходя из этого принципа в Архангельском всячески развивались художественные ремесла, не имеющие промышленного значения и призванные лишь удовлетворять амбициозные эстетические пристрастия владельца. По стенам дворца висели гравюры учеников Юсуповской рисовальной школы. На усадебной мануфактуре изготовлялась фаянсовая и фарфоровая посуда, которая затем расписывалась подглазурным кобальтом.
В Купавне по распоряжению князя выделывались дорогие художественные шелка, скатерти, шали, пояса, обойные штофы. Крепостные девушки ткали ковры и даже целые картины, передающие виды регулярных парков с прогуливающимися среди стриженых аллей кавалерами и дамами и с размещенными среди травы и листвы животными и птицами (см. книгу А. Греча «Венок усадьбам»).
1.4. «Простор вселенной был необитаем, // И только сад был местом для житья» (парк – душа усадьбы)
Думается, наиболее ярко монологичность русской усадьбы, можно даже сказать, особая задушевность проявлялась в обустройстве их владельцами ее «зеленой» части – парковой зоны. В стихотворении «Гефсиманский сад» (1949 г.) Борис Пастернак попытался передать атмосферу трепетных надежд Спасителя на защитные силы оливковой рощи у подножья Елеонской горы в Иерусалиме:
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтожения и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
Было бы, наверное, слишком вызывающим утверждать, что хозяева русских поместий таким же образом пытались создавать своеобразную защитную стену из деревьев и кустарников от грозных реалий окружающего мира, но, согласитесь, такие параллели в какой-то степени вполне допустимы.
Конечно, речь пойдет не о так называемых «засеках» – древнерусских оборонительных сооружениях из сваленных крест-накрест деревьев, защищавших южные российские рубежи с XII по XVII столетия от набегов половцев и монголо-татар. Для обитателей провинциальных сельских усадеб лиходей, от которого нужен зеленый заслон, – не конкретный всадник с колчаном стрел и кривой саблей, а что-то более призрачное, но не менее устрашающее (здесь – больше для психики), например, сутолока городской жизни:
Оставь город суетный,
Столицу рассеянья,
В деревню, в деревню к нам
Укройся от грозных бурь,
Под сень рощи липовой,
Где ждет соловей тебя,
Соперник твой в пении
(Александр Воейков, из стихотворения «К Мерзлякову…
Призывание в деревню», 1810 г.).
Снадобье от суматохи каменных улиц, пожалуй, трудно определить каким-то одним словом. Но, похоже, основным его ингредиентом может служить что-то воздушное, даже невесомое; рискнем предположить – атмосфера.
Атмосфера некоего микрокосма, уютного дома, где, скажем, липы усадебной аллеи, смыкаясь кронами, заставляют воспринимать этот зеленый коридор как единый свод, вслед за небесным осеняющий обитателей поместья и всю усадебную жизнь.
Атмосфера воспитания чувств и полноты ощущений, когда упавший в траву желтый кленовый лист наталкивает на мысль о возможном увядании сердечных привязанностей, а быстро теряющий свои краски сорванный полевой цветок может многое сказать о бренности бытия.
Атмосфера поисков и сомнений, когда при продвижении по извилистым тропкам парка в английском стиле после каждого поворота открывается новый пейзаж, не похожий на предыдущий, а неизведанные красоты почему-то навевают меланхолию и грусть.
Атмосфера припоминания собственных чувств, когда во время прогулок по усадебному парку, пусть даже сентиментальная память стремится по тем или иным причинам притушить возникающие воспоминания, но осязательная, физическая память прежних «зеленых моционов», неизбежно оживит их.
Атмосфера накала чувств и интеллектуального напряжения, когда неожиданно простая прогулка может превратиться в метания по природному лабиринту, когда «правильные» тропки, как в библейских текстах, должны вывести к Иерусалиму, а «неправильные» – завести в тупик.
Однако атмосфера атмосферой, но, согласитесь, не помешают и осязаемые, облеченные в камень и мрамор знаки, вызывающие разнообразную палитру эмоций: восхищение, меланхолия, скорбь. Вот хотя бы такие: «В укромных уголках садов скрывались изящные храмы Дружбы и Любви, украшенные причудливыми раковинами и цветным стеклом гроты Венеры, грустные памятники с мемориальными надписями и урнами, многозначительные алтари Надежды или аллеи влюбленных. Известно, что в знаменитом Павловском парке под куполом Розового павильона были даже специально устроены эоловы арфы, издававшие при дуновении ветра печальные звуки, которые приводили присутствующих в тоскливое, меланхоличное расположение духа» [Лысиков 2006, с. 145].
В начале девятнадцатого столетия, в эпоху мечтательного романтизма, усадебные сады и парки стали наилучшим местом времяпровождения натур эмоциональных, обретавших в постоянно изменяющемся природном ландшафте идеальную созвучность состоянию своей мятущейся души. Для гостей и посетителей – парадная часть парка, примыкающая к главному усадебному дому, для отдохновения – лирический пейзажный сад, постепенно переходящий в леса и луга. Известный специалист по ландшафтному дизайну Андрей Лысиков в качестве такого примера приводит сведения о роскошном парке, обрамляющем знаменитый Воронцовский дворец в Алупке: «Нижний парк, к которому дворец обращен своим южным фасадом, решен в регулярном стиле с непременно ровными аллеями, четкими линиями цветников, аккуратными газонами. Верхний парк, забирающийся в гору – его противоположность. Романтичный и интригующий, он изобилует живописными полянами, водопадами и гротами, удивляет сложным каскадом прудов, в которых плавают белоснежные лебеди» [Там же, с. 146].
Нередко закладка приусадебных парков осуществлялась, похоже, не без участия волшебных чар Афродиты. Яркий пример тому – сооружение в конце XVIII века графом Николаем Шереметевым, увлеченным талантливой крепостной актрисой Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой, дворцового комплекса Останкино с театром и обширным парком, разделенным на две части. «Увеселительный сад» примыкал ко дворцу и включал в себя регулярную часть с двумя восьмилучевыми аллеями, партер, насыпную горку «Парнас» и кедровую рощу. В этом же стиле был спланирован и обширный «Прибавочный сад» с несколькими живописными прудами, берегам которых был приданы очертания полуостровов и заливов. Далее аллеи парка уводили гуляющих к дубовым рощам, в глубины лесного массива, служившего раньше охотничьими угодьями.
Не с меньшей горячностью, похоже, руководил в 1796 году закладкой под Уманью пейзажного парка в честь своей красавицы жены Софьи богатейший польский магнат Станислав-Феликс Потоцкий: «Гречанка, рожденная в Турции, она много лет тосковала по своей родине, милой ее сердцу природе и восточным садам. Наконец гетман Потоцкий задумывает и создает грандиозный дворцовый комплекс с пышной растительностью, каменными глыбами и скалами, водой во всем ее многообразии. Парк нарекается Софиевкой, он призван поражать воображение и, очевидно, навевать ассоциации и образы Древней Эллады и Византии. Поэтому в нем появляются грот Венеры, критский Лабиринт, подземная река Стикс, Тарпейская скала, статуи античных героев и богов» [Там же, с. 150].
Отметим, правда, что накал страстей и романтическая грусть отнюдь не отменяли и более прагматичного подхода к обустройству приусадебных садов. Тот же самый «пылко влюбленный» граф Н. Шереметев создал на своих подмосковных землях подлинный образчик весьма прибыльного поместья: «В 1822 году один путешественник назвал оранжерею в Кускове „лучшей в окрестностях Москвы“, отметив, что продажа ее продукции доставляет владельцу ежегодный доход в 8000 рублей» (из книги П. Свиньина «Странствия в окрестностях Москвы»).
Впрочем, в этом соперничестве «садов Семирамиды» победу, пожалуй, следовало бы отдать имению Разумовских Горенки, расположившемуся близ нынешней Балашихи к востоку от столицы: «Имение славилось огромным ботаническим садом, который Роберт Лайолл назвал в 1825 году „одним из великолепных во всем мире“; содержание сада, вверенного заботам известного ботаника Ф. Б. Фишера, обходилось от 70 000 до 100 000 рублей в год. По свидетельству Лайолла, здесь можно было совершить „превосходную прогулку по галерее длиной в 910 футов, по двум концам которой располагаются просторные теплицы… привлекательные вдвойне благодаря сладости плодов апельсинной и лимонной рощ, равно как и обилию персиков и абрикосов, которые здесь производят“. В саду было представлено от 9000 до 10 000 видов растений, включая все встречающиеся в Российской империи, а также образцы флоры Европы и Америки» [Рузвельт 2008, с. 122].
Примечательно, что усилиями увлекающихся садовой тематикой русских толстосумов в конце XVIII века Россия занимала завидные позиции на международном рынке экзотических растений: «В парках иных аристократов содержались ливанские кедры и американские вязы, в теплицах – редкие тропические цветы. В то время как русские аристократы соревновались между собой, собирая образцы иноземной флоры, иностранцы проявляли живой интерес к русской экзотике. Джеймс Мидер старался изо всех сил удовлетворить пожелания герцога Нортумберлендского и садовников из Кью раздобыть некоторые сибирские растения и семена, но иной раз в ответ на самые настойчивые просьбы призывал их „взглянуть на карту Российской империи и убедиться в том, что Сибирь находится на огромном удалении… Не считая разбойников и солдат, немногие отваживаются на путешествие в те края“. К счастью для Мидера, в Москве два садовника-англичанина предложили ему семена из коллекции знаменитого ботаника барона П. А. Демидова» [Там же, с. 120 – 121].
Но было бы, наверно, заведомым упрощением представлять себе, что приусадебный парк вбирал в себя только богатство природных форм и многообразие эмоциональных состояний его созерцателей. Его прихотливая эклектика способна была развернуть перед сосредоточенным взором (и это, думаем, не будем излишним преувеличением) широчайшее пространство истории, планетарную географию Земли. В парках русской дворянской усадьбы сооружаются павильоны для научных и музыкальных занятий, Руссоевы хижины, Радклифские замки, беседки Трефиля, руины Трои, Римские темницы, произрастают Дарьины, Магомедовы или Элоизины рощи, насыпаются холмы, носящие название Курган, Гора Синай, Парнас. В пейзажных парках можно было встретить Итальянский домик, Персидскую палатку, мечеть, античную колоннаду, росписи, подражающие помпейским орнаментам. Как пишет В. Турчин, с «подобным „семантическим инвентарем“ человек ощущал себя гражданином мира» (см. книгу Е. Кириченко «Русская усадьба в контексте культуры»).
Однако, как известно, гармония требует, по меньшей мере, соразмерности. В 1786 году аббат Жак Делиль едко высказался по поводу увлечения экзотическими постройками:
Да, надо строить их. Но – меру соблюдать.
Легко утратить вкус, коль моде угождать.
Стремясь соединять различнейшие стили,
Иные модники подряд нагромоздили
Ротонду, пагоду, беседку, обелиск —
Европу, Индию, Китай и Рим! А риск,
Что создан лишь хаос – безвкусицы примета —
Их не страшит: зато там есть все страны света!
После опубликования в 1762 году манифеста Петра III «О вольности дворянства» тысячи дворян, которым самодержцем было позволено оставить государственную службу, устремились в свои провинциальные поместья. Поначалу многие жили в деревенской глуши по-старому, в незатейливых деревянных домах, окруженных небольшими строениями для прислуги. Но уже с 1780-х годов молодые хозяева, приезжающие к родителям после окончания учебы в столице, стали делать первые попытки обустроить имения так, чтобы не отстать от веяний «большого света».
На первых порах, и это было вполне закономерно, за образцы архитектуры были взяты здания в Петербурге, построенные в стиле классицизма. Примерами могут служить сооруженные в Подмосковье известным архитектором-паллалианцем Николаем Львовым усадьба Введенское князя Лопухина, главный восьмиколонный дом имения Вороново графа Ростопчина, а также изумительной красоты комплекс построек в усадьбе Знаменское-Раёк в Тверской губернии.
Но стремление придать своей усадьбе неповторимый стиль, даже попытка превзойти столичные образцы, похоже, иногда толкала хозяев поместий в туманные сферы неизведанного. Риск? – безусловно, да. Но, думается он того стоил!
Вот что писал об этой тенденции в начале двадцатого столетия авторитетный специалист по культуре усадеб Николай Врангель: «Параллельно с увлечением строгими формами классицизма, так оригинально и в то же время хорошо идущими к русской природе, в последней четверти XVIII века стали возводиться во множестве постройки более экзотического характера, так как всё, что шло вразрез с прямыми линиями empire, казалось тогда замысловатым, причудливым и сказочным. В стиле готики a la Louis, если можно так выразиться, построена Чесма (1780) Орловым, Вишенки (1769) – Румянцевым, Островки – Потемкиным. В 30-х годах XIX столетия при увлечении романтизмом множество помещичьих усадеб были также построены в так называемом „рыцарском“ стиле, наподобие замков феодальных…» (из книги «Старые усадьбы»).
К середине столетия интерес к готике поутих, однако в последней трети XIX века, с усилением воздействия идей романтизма, вновь возобновился: «В ряде крупных поместий возникают здания дворцового типа, вызывающие ассоциации с французскими замками эпохи Возрождения (Шаровка Кёнигов Харьковской губернии, Аллатскиви Нолькенов вблизи Чудского озера). Их архитектура была построена на сочетании разновеликих объемов, дополненных многочисленными башенками, фронтонами, зубцами» (из книги Е. Марасимовой и Т. Каждан «Культура русской усадьбы»).
Однако расцвет псевдоготики связан не только со стремлением хозяина усадьбы в архитектурных контурах выразить свое тщеславное «я». В основе это явления, как считают исследователи, – более глубокие психологические и мировоззренческие смыслы: «Дом в виде замка, с башнями, стрельчатыми проемами окон, садовая ограда, воспроизводящая феодальные укрепления, – все это не было случайной „затеей“. За псевдоготическими мотивами, за прихотливым нарушением всякой ордерности видятся сложные мотивы владельца-заказчика, связанные, в частности, и с сеньориальным гонором несостоявшейся в России независимости феодальных замков, попыткой хотя бы в архитектурных формах возродить былое боярское могущество рода. В данных строениях мы вновь встречаем настроения личности, внутренне защищающейся от всепроникающей государственности» (Там же).
Примечательно, что подчас архитектурные амбиции владельцев усадеб не имели ничего общего с идеями популярного в то время шотландского экономиста Адама Смита. Там, где ученый каждое действие участника рынка видел через призму экономической целесообразности, помещик словно специально делал всё шиворот-навыворот. Иначе чем можно было объяснить сооружение конюшни или каретного сарая с архитектурными элементами греческого храма или строительство погребов, увенчанных беседками. Известны случаи, когда сооружение людских, кладовых, амбаров нередко поручалось выдающимся архитекторам: «Так, погреб-пирамиду и корпуса винокуренного завода в Митино Новоторжского уезда проектировал владельцу Д. И. Львову его дальний родственник Н. А. Львов» (из книги В. Чернышева «Усадьбы России»).
Но это касалось не только архитектуры. Чего стоят попытки акклиматизации шелковицы на далеких от Гольфстрима просторах Среднерусской возвышенности, эксперименты по высаживанию фисташковых деревьев или разведение выписанных из Англии оленей для натуры пейзажного парка. Это явление Н. Врангель охарактеризовал несколько резковато, но, похоже, ухватил саму суть: «Русское самодурство, главный двигатель нашей культуры и главный тормоз ее, выразилось как нельзя ярче в быте помещичьей России. Безудержная фантазия доморощенных меценатов создала часто смешные, чудаческие затеи, часто курьезные пародии, но иногда и очаровательные, самобытные и тем более неожиданные волшебства» (из книги «Старые усадьбы»).
По понятным причинам хозяевам дворянских поместий было далеко до архитектурной осведомленности таких меценатов, как, к примеру, флорентийский банкир Козимо Медичи, на чьи средства был построен уникальный купол собора Санта-Мария-дель-Флоре. Основная масса любителей изысканного зодчества с трудом представляла себе партитуру создания будущей «музыки в камне»: «Один русский художник чертил план здания для зажиточного помещика, и несколько раз перечеркивал, ибо помещик находил тут худой вид кровли, там столбы не хороши. „Да позвольте вас спросить, – говорил зодчий, – какого чина или ордера угодно вам строение?“. „Разумеется, братец, – ответствует помещик, – что моего чина штабского, а об ордене мы еще подождем, я его не имею“» (из книги А. Писарева «Начертание художеств или правил в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре с разных отрывков, касательно до художеств избранных из лучших сочинений»).
Как нередко случается, зазор между анекдотичным случаем и реальным событием располагается, как сейчас модно говорить, «в области наноразмеров»: «Этот рассказ, приведенный как анекдот, в сущности, вполне правдоподобен. Ведь построил же помещик Дурасов свой подмосковный дом Люблино в виде ордена св. Анны со статуей этой святой на крыше – в память получения им давно желаемого отличия. И, что всего курьезнее, дом вышел совсем красивый и до сих пор является одним из милых подмосковных памятников не только русского чудачества, но и вкуса» (из книги Н. Врангеля «Старые усадьбы»).
Следует, правда, отметить, что музейные специалисты относят этот случай к красивой легенде. Но легенда легендой, а дворец Николая Дурасова в московском районе Люблино, действительно по очертаниям напоминающий орден Святой Анны, недавно отреставрирован и поражает посетителей изяществом архитектурных форм и изысканностью интерьеров.
Но попробуем заменить резковатое слово «самодурство» на более симпатичное – «чудачество». И тогда станут, похоже, более понятны мотивы купца первой гильдии Митрофана Грачева, задумавшего построить на окраине Москвы, в Ховрино, невиданный чудо-дворец с гранеными французскими куполами и многочисленными скульптурами. Выигравший, по легенде, в карты за одну ночь в Монако целое состояние, он заказал в 1900 году известному московскому зодчему Льву Кекушеву проект особняка, очертания которого напоминали бы здание Casino di Monte-Carlo. Создатель шедевров в силе модерн: особняков Листа в Глазовском переулке и Носова на Введенской площади, и здесь не стал устанавливать пределов своей архитектурной фантазии. Башенки и ризалиты со сложными кровлями, чешуйчатые купола с люкарнами, сложная лепнина и разнообразные скульптурные объемы, а в результате – органичный парафраз на облик старейшего игорного заведения Европы.
Иначе как чудачеством не объяснить, видимо, и появление в 1884 году в поселке Муромцево близ Владимира неоготического замка графа Владимира Храповицкого. Путешествуя четырьмя годами ранее по Франции, отставной полковник лейб-гвардии неоднократно выражал восхищение утонченной архитектурой крепостных строений местной знати. Польщенные похвалами, французы имели неосторожность «уколоть русского путешественника: в России-де такого не встретишь».
Обиженный за державу Храповицкий заключил пари, что возведет такой замок у себя на родине в вотчине. (см. статью М. Нащокиной «Русские усадьбы эпохи символизма»). Основные изюминки здания, спроектированного архитектором Петром Бойцовым, – круглые башни, венчающие южное и юго-западные крылья замка, анфилады различной этажности, а также намеренная асимметричность архитектурной композиции. Для обитателей дворца был предложен и невиданный по тем временам комфорт: электрическое освещение от автономного локомобиля, центральное отопление, водопровод и телефонная связь.
Хозяина изысканной подмосковной усадьбы Архангельское князя Николая Юсупова тоже, наверное, можно было назвать «большим оригиналом». Но для обладателя уникальной для первой половины XIX века коллекции из 600 живописных полотен, множества скульптур, фарфоровых изделий, библиотеки, насчитывающей 20 тысяч томов, этого звания, было бы, думается, недостаточно.
Владелец недвижимости на сумму более двадцати миллионов «царских» рублей (что позволяло бы ему, например, сравняться по доходам с каждым из двадцати богатейших английских землевладельцев), он, похоже, мог для себя определить такое кредо, как «заводить что редко, и чтобы все было лучше, нежели у других».
Думается, исходя из этого принципа в Архангельском всячески развивались художественные ремесла, не имеющие промышленного значения и призванные лишь удовлетворять амбициозные эстетические пристрастия владельца. По стенам дворца висели гравюры учеников Юсуповской рисовальной школы. На усадебной мануфактуре изготовлялась фаянсовая и фарфоровая посуда, которая затем расписывалась подглазурным кобальтом.
В Купавне по распоряжению князя выделывались дорогие художественные шелка, скатерти, шали, пояса, обойные штофы. Крепостные девушки ткали ковры и даже целые картины, передающие виды регулярных парков с прогуливающимися среди стриженых аллей кавалерами и дамами и с размещенными среди травы и листвы животными и птицами (см. книгу А. Греча «Венок усадьбам»).
1.4. «Простор вселенной был необитаем, // И только сад был местом для житья» (парк – душа усадьбы)
Думается, наиболее ярко монологичность русской усадьбы, можно даже сказать, особая задушевность проявлялась в обустройстве их владельцами ее «зеленой» части – парковой зоны. В стихотворении «Гефсиманский сад» (1949 г.) Борис Пастернак попытался передать атмосферу трепетных надежд Спасителя на защитные силы оливковой рощи у подножья Елеонской горы в Иерусалиме:
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтожения и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
Было бы, наверное, слишком вызывающим утверждать, что хозяева русских поместий таким же образом пытались создавать своеобразную защитную стену из деревьев и кустарников от грозных реалий окружающего мира, но, согласитесь, такие параллели в какой-то степени вполне допустимы.
Конечно, речь пойдет не о так называемых «засеках» – древнерусских оборонительных сооружениях из сваленных крест-накрест деревьев, защищавших южные российские рубежи с XII по XVII столетия от набегов половцев и монголо-татар. Для обитателей провинциальных сельских усадеб лиходей, от которого нужен зеленый заслон, – не конкретный всадник с колчаном стрел и кривой саблей, а что-то более призрачное, но не менее устрашающее (здесь – больше для психики), например, сутолока городской жизни:
Оставь город суетный,
Столицу рассеянья,
В деревню, в деревню к нам
Укройся от грозных бурь,
Под сень рощи липовой,
Где ждет соловей тебя,
Соперник твой в пении
(Александр Воейков, из стихотворения «К Мерзлякову…
Призывание в деревню», 1810 г.).
Снадобье от суматохи каменных улиц, пожалуй, трудно определить каким-то одним словом. Но, похоже, основным его ингредиентом может служить что-то воздушное, даже невесомое; рискнем предположить – атмосфера.
Атмосфера некоего микрокосма, уютного дома, где, скажем, липы усадебной аллеи, смыкаясь кронами, заставляют воспринимать этот зеленый коридор как единый свод, вслед за небесным осеняющий обитателей поместья и всю усадебную жизнь.
Атмосфера воспитания чувств и полноты ощущений, когда упавший в траву желтый кленовый лист наталкивает на мысль о возможном увядании сердечных привязанностей, а быстро теряющий свои краски сорванный полевой цветок может многое сказать о бренности бытия.
Атмосфера поисков и сомнений, когда при продвижении по извилистым тропкам парка в английском стиле после каждого поворота открывается новый пейзаж, не похожий на предыдущий, а неизведанные красоты почему-то навевают меланхолию и грусть.
Атмосфера припоминания собственных чувств, когда во время прогулок по усадебному парку, пусть даже сентиментальная память стремится по тем или иным причинам притушить возникающие воспоминания, но осязательная, физическая память прежних «зеленых моционов», неизбежно оживит их.
Атмосфера накала чувств и интеллектуального напряжения, когда неожиданно простая прогулка может превратиться в метания по природному лабиринту, когда «правильные» тропки, как в библейских текстах, должны вывести к Иерусалиму, а «неправильные» – завести в тупик.
Однако атмосфера атмосферой, но, согласитесь, не помешают и осязаемые, облеченные в камень и мрамор знаки, вызывающие разнообразную палитру эмоций: восхищение, меланхолия, скорбь. Вот хотя бы такие: «В укромных уголках садов скрывались изящные храмы Дружбы и Любви, украшенные причудливыми раковинами и цветным стеклом гроты Венеры, грустные памятники с мемориальными надписями и урнами, многозначительные алтари Надежды или аллеи влюбленных. Известно, что в знаменитом Павловском парке под куполом Розового павильона были даже специально устроены эоловы арфы, издававшие при дуновении ветра печальные звуки, которые приводили присутствующих в тоскливое, меланхоличное расположение духа» [Лысиков 2006, с. 145].
В начале девятнадцатого столетия, в эпоху мечтательного романтизма, усадебные сады и парки стали наилучшим местом времяпровождения натур эмоциональных, обретавших в постоянно изменяющемся природном ландшафте идеальную созвучность состоянию своей мятущейся души. Для гостей и посетителей – парадная часть парка, примыкающая к главному усадебному дому, для отдохновения – лирический пейзажный сад, постепенно переходящий в леса и луга. Известный специалист по ландшафтному дизайну Андрей Лысиков в качестве такого примера приводит сведения о роскошном парке, обрамляющем знаменитый Воронцовский дворец в Алупке: «Нижний парк, к которому дворец обращен своим южным фасадом, решен в регулярном стиле с непременно ровными аллеями, четкими линиями цветников, аккуратными газонами. Верхний парк, забирающийся в гору – его противоположность. Романтичный и интригующий, он изобилует живописными полянами, водопадами и гротами, удивляет сложным каскадом прудов, в которых плавают белоснежные лебеди» [Там же, с. 146].
Нередко закладка приусадебных парков осуществлялась, похоже, не без участия волшебных чар Афродиты. Яркий пример тому – сооружение в конце XVIII века графом Николаем Шереметевым, увлеченным талантливой крепостной актрисой Прасковьей Ковалевой-Жемчуговой, дворцового комплекса Останкино с театром и обширным парком, разделенным на две части. «Увеселительный сад» примыкал ко дворцу и включал в себя регулярную часть с двумя восьмилучевыми аллеями, партер, насыпную горку «Парнас» и кедровую рощу. В этом же стиле был спланирован и обширный «Прибавочный сад» с несколькими живописными прудами, берегам которых был приданы очертания полуостровов и заливов. Далее аллеи парка уводили гуляющих к дубовым рощам, в глубины лесного массива, служившего раньше охотничьими угодьями.
Не с меньшей горячностью, похоже, руководил в 1796 году закладкой под Уманью пейзажного парка в честь своей красавицы жены Софьи богатейший польский магнат Станислав-Феликс Потоцкий: «Гречанка, рожденная в Турции, она много лет тосковала по своей родине, милой ее сердцу природе и восточным садам. Наконец гетман Потоцкий задумывает и создает грандиозный дворцовый комплекс с пышной растительностью, каменными глыбами и скалами, водой во всем ее многообразии. Парк нарекается Софиевкой, он призван поражать воображение и, очевидно, навевать ассоциации и образы Древней Эллады и Византии. Поэтому в нем появляются грот Венеры, критский Лабиринт, подземная река Стикс, Тарпейская скала, статуи античных героев и богов» [Там же, с. 150].
Отметим, правда, что накал страстей и романтическая грусть отнюдь не отменяли и более прагматичного подхода к обустройству приусадебных садов. Тот же самый «пылко влюбленный» граф Н. Шереметев создал на своих подмосковных землях подлинный образчик весьма прибыльного поместья: «В 1822 году один путешественник назвал оранжерею в Кускове „лучшей в окрестностях Москвы“, отметив, что продажа ее продукции доставляет владельцу ежегодный доход в 8000 рублей» (из книги П. Свиньина «Странствия в окрестностях Москвы»).
Впрочем, в этом соперничестве «садов Семирамиды» победу, пожалуй, следовало бы отдать имению Разумовских Горенки, расположившемуся близ нынешней Балашихи к востоку от столицы: «Имение славилось огромным ботаническим садом, который Роберт Лайолл назвал в 1825 году „одним из великолепных во всем мире“; содержание сада, вверенного заботам известного ботаника Ф. Б. Фишера, обходилось от 70 000 до 100 000 рублей в год. По свидетельству Лайолла, здесь можно было совершить „превосходную прогулку по галерее длиной в 910 футов, по двум концам которой располагаются просторные теплицы… привлекательные вдвойне благодаря сладости плодов апельсинной и лимонной рощ, равно как и обилию персиков и абрикосов, которые здесь производят“. В саду было представлено от 9000 до 10 000 видов растений, включая все встречающиеся в Российской империи, а также образцы флоры Европы и Америки» [Рузвельт 2008, с. 122].
Примечательно, что усилиями увлекающихся садовой тематикой русских толстосумов в конце XVIII века Россия занимала завидные позиции на международном рынке экзотических растений: «В парках иных аристократов содержались ливанские кедры и американские вязы, в теплицах – редкие тропические цветы. В то время как русские аристократы соревновались между собой, собирая образцы иноземной флоры, иностранцы проявляли живой интерес к русской экзотике. Джеймс Мидер старался изо всех сил удовлетворить пожелания герцога Нортумберлендского и садовников из Кью раздобыть некоторые сибирские растения и семена, но иной раз в ответ на самые настойчивые просьбы призывал их „взглянуть на карту Российской империи и убедиться в том, что Сибирь находится на огромном удалении… Не считая разбойников и солдат, немногие отваживаются на путешествие в те края“. К счастью для Мидера, в Москве два садовника-англичанина предложили ему семена из коллекции знаменитого ботаника барона П. А. Демидова» [Там же, с. 120 – 121].
Но было бы, наверно, заведомым упрощением представлять себе, что приусадебный парк вбирал в себя только богатство природных форм и многообразие эмоциональных состояний его созерцателей. Его прихотливая эклектика способна была развернуть перед сосредоточенным взором (и это, думаем, не будем излишним преувеличением) широчайшее пространство истории, планетарную географию Земли. В парках русской дворянской усадьбы сооружаются павильоны для научных и музыкальных занятий, Руссоевы хижины, Радклифские замки, беседки Трефиля, руины Трои, Римские темницы, произрастают Дарьины, Магомедовы или Элоизины рощи, насыпаются холмы, носящие название Курган, Гора Синай, Парнас. В пейзажных парках можно было встретить Итальянский домик, Персидскую палатку, мечеть, античную колоннаду, росписи, подражающие помпейским орнаментам. Как пишет В. Турчин, с «подобным „семантическим инвентарем“ человек ощущал себя гражданином мира» (см. книгу Е. Кириченко «Русская усадьба в контексте культуры»).
Однако, как известно, гармония требует, по меньшей мере, соразмерности. В 1786 году аббат Жак Делиль едко высказался по поводу увлечения экзотическими постройками:
Да, надо строить их. Но – меру соблюдать.
Легко утратить вкус, коль моде угождать.
Стремясь соединять различнейшие стили,
Иные модники подряд нагромоздили
Ротонду, пагоду, беседку, обелиск —
Европу, Индию, Китай и Рим! А риск,
Что создан лишь хаос – безвкусицы примета —
Их не страшит: зато там есть все страны света!