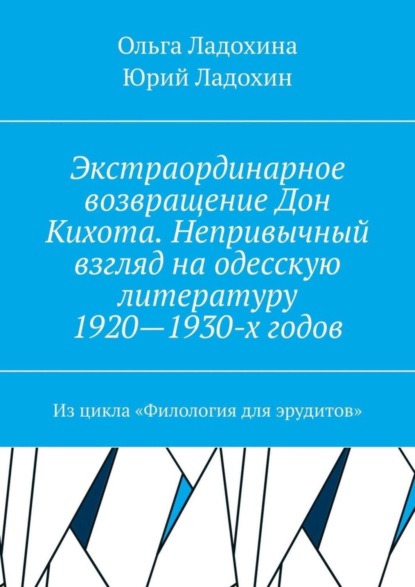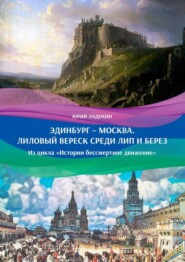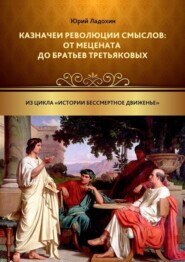По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Экстраординарное возвращение Дон Кихота. Непривычный взгляд на одесскую литературу 1920—1930-х годов. Из цикла «Филология для эрудитов»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Соблазнительной страсти к саморекламе писатель по-донкихотски пылко противопоставляет благородную миссию скрупулезного историографа нарождающейся советской цивилизации: «И разве бетономешалка системы Егера, на которой ударные бригады пролетарской молодежи ставили мировые рекорды, менее достойна сохраниться в памяти потомков, чем ржавый плуг гильотины, который видел я в одном из сумрачных казематов Консьержери? И разве футболка ударника, платочек и тапочки комсомолки, переходящее знамя ударной бригады, детский плакат с черепахой или с паровозом и рваные брезентовые штаны не дороже для нас в тысячи и тысячи раз коричневого фрака Дантона, опрокинутого стула Демулена, фригийского колпака, ордера на арест, подписанного голубой рукой Робеспьера…» [Там же, с. 532].
Скажете: несколько напоминает пропагандистский спич мастера из цеха «инженеров человеческих душ». Но возможная ироничная оценка опрокидывается реальными фактами из биографии В. Катаева: «Он не повел себя, как Демьян Бедный, хотя мог дальше катиться под его крылом. От Магнитки можно было отделаться неделей, ну даже месяцем наблюдений… А вот на год с головой уйти в серый бетон – как это не похоже на лирика и эстета! На год лишить себя столичных увеселений и повсеместных заработков! И одновременно как это на него похоже, неунывающе-волевого, вымуштрованного Гражданской войной и способного круто менять жизнь» [Шаргунов 2017, с. 288].
Итак, конец 1920-х, самое начало 1930-х… Нежданное и столь ожидаемое возвращение Дон Кихота в произведениях четырех знаменитых писателей родом из вольного города у самого Черного моря: В. Жаботинского, И. Бабеля, Ю. Олеши и В. Катаева.
Для тех, кто как-то сомневается в самой возможности такого незаурядного камбэка – полные надежды и жизнеутверждающего вызова строки человека, летом 1941 года ушедшего добровольцем на фронт:
Кто говорит, что умер Дон Кихот?
Вы этому, пожалуйста, не верьте:
Он не подвластен времени и смерти,
Он в новый собирается поход.
Пусть жизнь его невзгодами полна —
Он носит раны, словно ордена!
(из стихотворения Юлии Друниной «Кто говорит, что умер
Дон Кихот?..»)
Так что же, в новый поход, вместе с сокрушителем мельниц-великанов?.. Вперед, вперед, вперед…
Глава 2. «И нас повел вперед и на восток, // И дивно пел о жизни, полной света» (В. Жаботинский: жизнь как подвиг)
2.1. «… параллельность прямых // Листопадом нарушена – значит так надо» (предвестники одесских кабальерос)
Однажды одесский поэт Ольга Ильницкая, видимо, сама того не желая, вступила в заочную дискуссию с математиком Николаем Лобачевским, конечно, не на академическом паркете параллелепипедов и параллелограмм, а на привычном поле гекзаметров и хореев:
Поперёк листопада ложится мой путь,
Вдоль гусиного, мелкого ломкого шага.
Если был кто со мною – отстал отдохнуть,
Если шёл параллельно – то так ему надо:
Обомлеть, столбенея от истин сквозных,
Обалдеть от роскошного лисьего взгляда.
Подойду и скажу: параллельность прямых
Листопадом нарушена – значит так надо
(из стихотворения «Поперёк листопада…»)
Тогда каким же фактором нарушена параллельность власти и благородства, алчности и нестяжательства, панического страха за свою жизнь и безрассудной смелости. А нельзя ли предположить, что имя этому «уполномоченному» по геометрическим (и не только) отклонениям от литой традиционности наших представлений – рассматриваемое нами донкихотство?
Ну, какое, казалось бы, было дело известному одесскому журналисту второй половины девятнадцатого столетия Семену Герцо-Виноградскому до «проделок» местных чиновников. Есть талант, есть свой, неповторимый стиль, пиши и радуйся жизни… Между тем именно у него искали защиты не самые благополучные жители припортового города. Проработав более четверти века в различных периодических городских изданиях, таких как «Одесский вестник», «Новороссийский телеграф», «Одесские новости», сатирический журнал «Пчелка», Барон Икс (так он подписывал свои материалы), написал множество фельетонов, едко высмеивающих коррупцию и произвол власть имущих. Бескомпромиссные статьи «Дон Кихота одесской журналистики», как его уважительно называли коллеги, были для газет тем «основным блюдом», которое придавало номеру необходимую перчинку и остроту.
В 1870-х Герцо-Виноградский стал известен не только на юге России, но и в столицах. Как писал популярный одесский публицист Абрам Кауфман, «мало было подобных ему: легкость пера, редкое остроумие, язвительность делали то, что Барон Икс мог или поставить на пьедестал, или убить и лишить гражданства. Одни его боялись, другие раболепствовали, многие ненавидели…» (вот она – «четвертая власть»! ). Общественный темперамент прославленного фельетониста вполне логично привел его в революционное движение. Он был обвинен в связях с народниками, выслан из Одессы и помещен на несколько месяцев в Мценскую тюрьму. В 1881 году С. Герцо-Виноградский был освобожден, вернулся в родной город и продолжил журналистскую деятельность.
Если обличительные статьи Барона Икса вызывали ненависть к нему властей и «прикормленной» части местной интеллигенции (реакционный историограф Новороссии А. Скальковский, скажем, называл его ни много ни мало как «исчадьем ада, порожденным на гибель славного края»), то для читающей молодежи Герцо-Виноградский был настоящим кумиром («Иеремией развратной Ниневии, города, где все продается и все покупается…» называл страстного публициста Стас Дорошевич). Примечательно, что на праздновании 25-летнего юбилея журналистской деятельности С. Герцо-Виноградского звучали стихи, в которых, похоже, отразилась вся суть его азартной и благородной натуры: «Рыцарь дела, рыцарь слова и борец за идеал! // Много честного, святого в четверть века ты создал».
От журналистики – к покорителям неба. Вроде бы честолюбие участника состязания, а к ней и спортивная злость и великодушие уверенного в себе человека существуют в параллельных мирах. Известный одесский авиатор Сергей Уточкин во время авиаперелета из одной столицы в другую в июле 1911 года доказал обратное. Он первым стартовал на оснащенном для дальних перелетов самолете «Блерио» с Комендантского аэродрома в северной столице. До Новгорода у летчика проблем не было, но в десяти километрах от города стал «чихать» мотор. Пришлось приземляться в пригороде и делать срочный ремонт. На следующий день Уточкин продолжил полет, однако тут на пути авиатора встала непогода: сильный ветер бросил моноплан вниз. Аварийную жесткую посадку пришлось делать в двадцати пяти километрах от Крестцов, у деревни Вины. Самолет был разбит и уже не смог принимать участия в состязании…
Но именно в этих обстоятельства раскрылись самые лучшие человеческие качества прославленного одесского авиатора: «… во время последнего несчастного перелета (Петербург – Москва) показал Уточкин с великолепной стороны свое открытое, правдивое и доброе сердце. Тогда – помните? – один из авиаторов, счастливо упавший, но поломавший аппарат, отказал севшему с ним рядом товарищу в бензине и масле: „Не мне – так никому“. Уточкин, находясь в аналогичном положении, не только отдал Васильеву свой запас, но сам, едва передвигавшийся от последствий жестокого падения, нашел в себе достаточно мужества и терпения, чтобы пустить в ход пропеллер Васильевского аэроплана» (из очерка Александра Куприна «Уточкин»).
От авиационного спорта – разворот на 180 градусов, в насыщенную дискуссиями сферу литературной критики. Традиционность, всегдашний учет мнения большинства и спорные гипотезы мыслителя-индивидуалиста, пожалуй, тоже практически всегда движутся параллельными курсами. И пересекаются лишь тогда, когда накал эмоций и интеллектуального напряжения начинает зашкаливать. Выйти с острым пером исследователя в неравный бой против циклопически устойчивых ветряков классикализма – вполне донкихотская черта литературного критика, выпускника одесской Ришельевской гимназии Юлия Айхенвальда. В 1913 году литературовед, исповедывающий метод «имманентной» критики, публикует очерк о В. Белинском, в котором «изображает „неистового Виссариона“ человеком без сердцевины, вечным недорослем, воспламеняющимся чужими идеями, мнениями и не способным к самопознанию, а потому и к подлинному пониманию других. А для значительной части интеллигенции, в начале ХХ века, Белинский оставался идолом и идеалом» (из статьи Евгения Говсиевича «Об Айхенвальде»).
Ставивший парадоксальное мышление и сомнения в истине на первое место среди черт исследователя, Ю. Айхенвальд не принял идеалы Октябрьской революции 1917 года с ее отрицанием эстетического созерцания и насаждением твердокаменного материализма. Несмотря на посулы и запугивания, он «не подписывал „подметных“ писем, когда к нему обращались сотрудники ЧК. Айхенвальд, один из немногих, смело откликнулся в печати на убийство Гумилёва. Это было последней каплей терпения властей. Троцкий ответил Айхенвальду статьёй-угрозой под заголовком „Диктатура, где твой хлыст?“. Айхенвальда арестовали, отвели на Лубянку. Шёл июнь 1922 г. Через 2 месяца вместе с Бердяевым, Франком и др. он был выслан за границу на „философском пароходе“» (Там же).
И это только несколько лаконичных портретов одесситов, которые, словно подхватив выпавшее из рук слабеющего Дон Кихота копье, вышли на поединок с алчностью, косностью и непринужденно проникающим во все поры человеческого сообщества ледяным равнодушием. Но есть одна особенность. Сражения с внешними врагами, как известно, придают мужчинам авторитета и почета. Награды и именное оружие – если ты отличился, к примеру, в битве с войсками Юлия Цезаря, Карла Великого или Наполеона Бонапарта. А если враг затерялся среди толпы, если это твой, к примеру, сосед (крахобор мельник, скупердяй торговец, хищный ростовщик et cetera)? – тогда, похоже, жди издёвок и глумлений:
Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется;
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.
И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.
Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу,
И с восторгом машет бритвой,
И кричит он Дон Кихоту:
«Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!..»
И не в силах кончить фразы,
Задыхается от смеха
(из стихотворения Дмитрия Мережковского «Дон Кихот»).
Еще хуже, пожалуй, когда сподвижники считают, что время реализации твоих идей еще не пришло, расценивая твои «неуместные» действия как благородную позу и чудачество интеллигента-книжника. Именно с таким ледяным душем предубеждений, пожалуй, приходилось сталкиваться на протяжении всей жизни герою следующей части нашей книги.
2.2. «Копье мое, копье мое, копье // Имущество, могущество мое…» (последний рыцарь Европы)
Имя нашего героя – Владимир Евгеньевич (Зеэв-Вольф Евнович) Жаботинский. Уроженец Одессы (1880), блестящий журналист (с 16 лет стал публиковаться в газете «Одесский листок»), потрясающий поэт и переводчик (автор одного из лучших русских переводов «Ворона» Эдгара По), тонкий писатель (романы «Самсон назорей», «Пятеро», мемуары «Повесть моих дней» и «Слово о полку») и, ко всему этому, лидер правого сионизма (идеолог движения сионистов-ревизионистов и организаций «Иргун» и «Бейтар»).
А как насчет ледяного душа недоверия и скептицизма? – всего этого было полной чашей. Многие со снисходительной усмешкой, а некоторые – и с откровенным испугом отнеслись к тому, что двадцатидвухлетний юноша из интеллигентной семьи (его отец был служащим Российского общества мореходства и торговли) перед Пасхой 1903 года стал инициатором организации первого в России отряда еврейской самообороны. Ожидавшийся погром, правда, произошел не в Одессе, а в Кишиневе (убито 50 человек, искалечено около 600). Понимая, что одними кулаками и палками беспредел не остановить, В. Жаботинский в августе того же года принял участие в 6-м сионистском конгрессе в Базеле, в начале 1904 года вошел в состав редколлегии нового сионистского журнала на русском языке «Еврейская жизнь», а в 1911 году организовал издательство «Тургман» («Переводчик»), в котором печатались книги мировой классики в переводах на иврит.
И уж совсем никто, похоже, не ожидал от гражданского лица, молодого талантливого журналиста в год начала Первой мировой войны невероятного и дерзкого до безумия предложения о сформировании в составе сил Антанты (конкретно – британских войск), еврейского воинского контингента который принял бы участие в освобождении Палестины и стал бы в дальнейшем костяком организации там еврейского государства.
Как собственно всегда в жизни, по решимости храбрых – шквальный и безжалостный огонь осторожных. Вот как об этом вспоминает первый президент государства Израиль Хаим Вейцман: «Жаботинский явился ко мне, и его идея мне понравилась. Я решил быть помощником ему в этом деле, несмотря на сопротивление, которое было почти всеобщим. Невозможно описать все трудности и разочарования, выпавшие на долю Жаботинского. Не знаю, кто еще, кроме него, мог бы это преодолеть. Его убежденность, вытекающая из его преданности идее, была просто сверхъестественной. Со всех сторон на него сыпались насмешки. И как только ни старались, чтобы подрезать ему крылья!.. Сионистский исполком, конечно, был против него, евреи-несионисты считали его какой-то злой напастью» (из книги Х. Вейцмана «Пробы и ошибки»).
Один против всех… И кто даст гарантии, что это не болезненные фантазии отчаянного честолюбца, готового ради славы поставить на кон жизни многих людей? И В. Жаботинский сам отвечает на этот вопрос в мемуарах «Слово о полку»: «„Все ошибаются, ты один прав?“. Не сомневаюсь, что у читателя сама собой напрашивается эта насмешливая фраза. На это принято отвечать извинительными оговорками на тему о том, что я, мол, вполне уважаю общественное мнение, считаюсь с ним, рад был идти на уступки… Все это не нужно, и все это неправда. Этак ни во что на свете верить нельзя, если только раз допустить сомнение, что, быть может, прав не ты, а твои противники. Так дело не делается. Правда на свете одна, и она вся у тебя; если ты в этом не уверен – сиди дома; а если уверен – не оглядывайся, и выйдет по-твоему» [Жаботинский 2012, с. 64].
Откуда такая железобетонная уверенность в своих силах? Ведь даже самый стойкий может сломаться, если все кругом твердят: не то, не то, не то… Явно есть какой-то эликсир несгибаемости, какой-то авторитетный пример для подражания! Нашелся такой на выжженных солнцем равнинах Кастилии-Ла-Манчи: «Я говорю (идея мною заимствована у Тургенева), что у каждого человека и у каждого народа есть две души: душа Гамлета и душа Дон-Кихота. По Тургеневу, Гамлет – это воплощенная аналитическая мысль, рефлексия, рефлексия, сковывающая действия и не позволяющая принимать смелые решения. Дон-Кихот же – он Дон-Кихот. Вовсе не сумасшедший, человек с двумя руками, на каждой по пять пальцев. Для Гамлета главное – „занять позицию“. Если ему удается ее определить и осознать, он может спокойно ожидать любых действий (в точности как современная Лига наций). Дон-Кихот – человек дела. У него действие опережает мысль, для него определение „позиции“ выражается в действии» (слова В. Жаботинского из книги Моше Бела «Мир Жаботинского»).
Думается, наш герой, излагая свое жизненное кредо, мог бы согласиться с каждый словом, произнесенным благородным идальго в XLVI главе бессмертного романа: «Я рыцарь и, если на то будет милость Всевышнего, умру рыцарем. Одни люди идут по пути надменного честолюбия, другие – по путям низкого и рабского ласкательства, третьи – по дороге обмана и лицемерия, четвертые – по стезе истинной веры. Я же, руководимый своей звездой, иду по узкой тропе странствующего рыцарства, ради которого я презрел мирские блага, но не презрел чести. Я мстил за обиды, восстанавливал справедливость, карал дерзость, побеждал великанов, попирал чудовищ» [Сервантес 2018, с. 418].
Недаром В. Жаботинского называли «последним рыцарем Европы». Конечно, бесстрашный, благородный человек, конечно, рыцарь, вот только как быть с сопутствующим прилагательным «странствующий»? И здесь все сходится: чтобы сформировать еврейский легион, журналист без устали колесит по разным странам: «Через несколько дней я телеграфировал редакции в Москву: „Предлагаю посетить мусульманские страны Северной Африки – выяснить эффект провозглашенной султаном священной войны на местное население“… Начал я с Марокко; но поехал через Мадрид. Там жил Макс Нордау; не тем будь помянута Франция – но в самом начале войны кому-то в Париже пришла в голову светлая мысль выселить его как „венгерца“» [Жаботинский 2012, с. 17] (из книги «Слово о полку: история Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора»).
Услышав от соучредителя Всемирной сионистской организации весьма тонкое замечание о характерных чертах своих соплеменников («… логика есть искусство греческое, и евреи терпеть его не могут. Еврей судит не по разуму – он судит по катастрофам. Он не купит зонтика «только» потому, что в небе появились облака: он раньше должен промокнуть и схватить воспаление легких – тогда другое дело» [Там же, с. 19]), В. Жаботинский двинулся дальше: «После этой беседы я побывал в Марокко, Алжире, Тунисе, стараясь «обследовать», произвел ли турецкий призыв какое-либо впечатление, есть действительная опасность магометанского восстания» [Там же, с. 19]).
Воспользовавшись еще одним дельным советом, который, правда, надо сказать, для нашего времени смотрится не так уж оптимистично («Призыв к священной войне? Абсурд. О впечатлении смешно и спрашивать. Только у вас, наивных европейцев, еще верят в то, будто на Востоке во имя солидарности ислама можно поднять народные массы и двинуть их на серьезный риск» [Там же, с. 20]), В. Жаботинский направился в Египет, где и было сформировано первое подразделение еврейского контингента: «В Александрии я нашел очень оживленную сионистскую среду. Пароход, о котором говорил тот офицер, действительно привез больше тысячи беженцев из Яффы… Английские власти дали нам бараки и открыли денежный кредит, при канцелярии губернатора был даже устроен особый отдел попечения о беженцах… Кроме того, была у нас школа, конечно, с преподаванием на еврейском языке; была библиотечка, аптека, вообще целое самоуправление, даже с отрядом стражи, которую мы называли „нотерим“»» [Там же, с. 20 – 21]).
Впрочем, не обошлось и без некоторого казуса, связанного с каким-то вовсе «негероическим» названием боевого формирования. В. Жаботинский так пишет об этом эпизоде в книге «Слово о полку…»: «Нам, штатским, казалось, что предложение генерала Максвелла надо вежливо отклонить. Французское слово Corps de muletiers („отряд погонщиков мулов“), которое он употребил, прозвучало в наших ушах очень уж нелестно, почти презрительно: пристойная ли это комбинация – первый еврейский отряд за всю историю диаспоры, возрождение, Сион… и погонщики мулов?..» [Там же, с. 32]).
Колебания Жаботинского и его товарищей весьма остроумно развеял будущий командир отряда, один из героев русско-японской войны, четырежды георгиевский кавалер: «„Мул“, – отозвался кто-то из нас, – ведь это почти осел. Звучит как ругательство, особенно по-еврейски. – Позвольте, – ответил Трумпельдор, – по-еврейски ведь и „лошадь“ тоже ругательство – bist a ferd! („ты лошадь!“, идиш) – но службу в коннице вы бы считали для них честью. По-французски chameau („верблюд, уродина“) – самое обидное слово: однако есть и у французов, и у англичан верблюжьи корпуса, и служить в них считается шиком. Все это пустяки» [Там же, с. 33]).