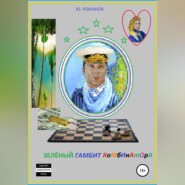По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Курьёзы Комбинатора в тонких намёках на толстые обстоятельства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вообще-то, я в первый раз спросил.
– Прости, Саш…
– Я, Андрей!
– Ну, хорошо, будем считать, что я не права, но ты же можешь, по крайней мере, попросить у меня прощения?..
– Ладно, Оль, не дуйся… Давай прямо из бара пойдем в кино?
– Пойдем.
– А твой парень не будет против?
– У меня нет парня, его муж «пришил» …
– Так вот почему женщины, всё-таки живут дольше мужчин, значит мы равенства ещё не добились! – констатировал Андрей. – Но всё же наверое, не только от этого?
– Это не в моей компетенции, милый. А правда, что зайцы самые глупые животные? – услышал он новый вопрос, не успев проанализировать первый.
– Да, мой зайчик…
Магнитофон неожиданно заурчал и сменил мелодию: «Жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь…»
– Пожалуй, это не оспоримый факт, который невозможно ни опротестовать или опровергнуть, – отметил про себя Оскар, – но это уже из репертуара другого исполнителя. Видимо что-то случилось с плёнкой или кто-то решил разбавить репертуар. А это значит, что пора и мне на выход. Да,… жизнь вокруг бьёт ключом, господа присяжные заседатели и не всегда по голове! Следует поблагодарить магнитофон, что он для меня очень своевременно сменил «пластинку».
Допив пиво, Иванов-Бендер положил журнал «Деньги» в свой кейс, в бытность подаренный Бян Лян Пуком, и откланявшись по-английски, направился к дверному проёму, при этом отметив, что «отряд не заметил потери «бойца».
После «светской болтовни» и общения под кружку с пивом на душе стало немного теплее, отметив: «А всё-таки земля вертится в нужную сторону!»
Глава 3. Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что
Пройдя под наскоро замазанной синькой старой вывеской «Жигули», со слезами от дождя, и мимо трёх цветных вывесок братьев япономать: «Сукин-Сан», «Саке-Сан», «Баня-Сан», гражданин в фуражке и в положительном настроении появился у пешеходно-автомобильной «тропы» Нового Арбата. Всосав в себя очередную порцию газового допинга, Бендер остановился рядом с дверью в кафе и стал наблюдать за многочисленным и разношерстым пешеходом, мелькавшим перед его взором.
– Это видимо хозяйка, с тремя пирамидальными бумажными пакетиками с молоком в нейлоновой растягивающейся авоське, оставляющая трассирующий белый след на сухом асфальте. Она наверняка спешит к двери продуктового магазина, чтобы занять своё место в длинной очереди. Вот, наконец, дождавшись очередного покупателя и получив свой заветный номер, стала тщательно выводить его чернильным карандашом на ладони. Благополучно завершив «регистрацию», побежала обратно к булочной, где видимо, уже приобрела очередной порядковый номер…
Иванов-Бендер медленно перевёл взгляд: «Интересно кто вон тот пожилой мужичок в белых роговых очках на банановом носу, в модном пиджачке с короткими и давно не стиранными боцманскими штанами, завершающих своё продолжение волосатыми конечностями в сандалиях на босу ногу? Куда это он так торопится? Похоже, что это один из последних могикан науки, которому удалось сберечь знания, силы и уверенность в себе. Это он, расталкивая пешеход, явно торопится, успеть донести до молодёжи свои познания, о достижениях человечества, не расплескав их по дороге за последние надцать лет»…
– А это что за господин с портфелем, рядом со мной и дверью кафе «Вся сила в зёрнах»? Он, в помятой кепке и блестящем, в некоторых местах пиджаке, но приличных, правда не по моде, брюках. Причём – одна штанина заправлена в носок, а другая настолько коротка, что обнажала завязки от кальсон. Под усами, типа «а-ля Чаплин», рядом с тёмным пространством от бывшего зуба отдавала блеском фикса из нержавеющей стали. Вероятно «рассеянный – с улицы Басееной» – явно безработный, но не потерявший надежду на приближение горизонта лучшей жизни. «Кепка» нагнулась, старалась пристроить свой заслуженный портфель у витрины кафе, который не «слушался» и сваливался набок.
Наконец, пристроив портфель, господин достал из него бутылку кефира с сайкой. Затем, не теряя времени, притулившись к стеклу витрины, приступил к трапезе закрыв глаза, видимо, чтоб заодно и подремать, считая, что время – деньги, которых, судя по его виду, у него уже не осталось.
Через некоторое время к нему подошёл человек тоже с заслуженным саквояжем.
– Вы товарищ Оболдуев?
– Ну я, – не открывая глаз и не беря перерыв на пережёвывание пищи, сознался Оболдуев.
– Тогда я к вам по программе – одновременной игры с Магом и целителями, – произнёс пароль подошедший.
– Пристраивайся с права от меня, но не загораживая дверь, – не поднимая век, изрёк Оболдуев.
Оболдуев Давид Утопич по натуре был анархистом. Он ненавидел власть Советов точно также как ненавидел и власть капитала, но любил власть денег. Вообще он презирал любую власть, но стремился к ней всеми фибрами своей анархической души. Давид Утопич часто с умилением вспоминал приятные эпизоды из своей жизни, когда трудился в колбасном секторе «Елисеевского», где позади него, как буревестник, гордо реял вымпел «Победителю соцсоревнования». Правда сладкие воспоминанья омрачала тень таксопарка, где когда-то трудился, но в силу своей внутренней убеждённости нарушал закон, регулярно завышая стоимость проезда. Приработком он ни с кем не делился, кладя разницу в карман, и в конце концов созрел для посещения тюрьмы, где на воротах значилось: «Не грусти входящий».
Оболдуев всё же считал себя честным человеком, так как честно «от звонка до звонка» отсидел положенный срок. Но руководство таксопарков, куда он после честной отсидки обращался, его мнения не разделяли. «Проверять» же карманы пешеходов скрытно он не умел, а другой профессией бог не наградил. Встал вопрос: «Куда пойти? Куды податься?» …
При нём оставалась, наглость анархиста, тяга к обсчёту и обвесу, а также дар детства – заводить нужные знакомства, но судьба долго испытывала его на прочность. Наконец, когда он уже было потерял надежду устроиться на работу, ему крупно повезло. Как говорят в народе – «нет худа без добра». И добро пришло в пивную, где Оболдуев неожиданно повстречал сокамерника из заведения «Не грусти входящий», – бывшего директора столичного мясокомбината, члена тайного обществ «Ты мне, я – тебе».
В конце концов, члены этого общества, устроили его в колбасный сектор «Елисеевского» продавцом. Слово «сектор» он не переваривал, но согласился, так как любил колбасу…
В стране был серьёзный дефицит всего, а посему ему, с начальным образованием, через некоторое время под «ветер перемен» удалось, за «докторскую колбасу», сначала купить «Аттестат зрелости» и «Диплом» о высшем, а затем, за «Краковскую», прикупить «Кандидатскую». С ветром «перемен» такие липовые корочки можно купить в любом переходе. Да и зачем обладать какими-то способностями, напрягаться, время терять да заморачиваться, если каждый второй руководитель с такими «глубокими знаниями» уже в академиках ходит, – рассудил Оболдуев.
Высокопоставленные клиенты, прознав о его корочках стали наперебой ему предлагать перейти на работу на высокие должности в другие сферы деятельности, но Оболдуев от этих предложений отказывался. Однажды, когда ему один значимый клиент предложил перейти в Академию Наук на более приличную должность, Давид Утопич отказался, громко заявив: «Я не подкупный продавец из народа и надеюсь, что в «Елисеевском» мою «честность» оценят, а Родина не забудет!»…
История главного московского гастронома началась в 1898 году, когда на Тверской улице, купец Григорий Елисеев купил дом, «наполненной своими загадками и тайнами», положив начало одной из историй братьев Елисеевых, связанной с угрозой закрытия «храма Бахуса»… Дело в том, что по тогдашним законам торговля спиртными напитками не разрешалась ближе 42 сажен от входа в церковь, а посему расположение храмов на Тверской для Елисеева было плохим соседством…
Несмотря на это обстоятельство, а точнее наперекор ему, три года спустя, на первом этаже открылся шикарно оформленный магазин, который в столице быстро прозвали «Елисеевским» …
В день открытия магазина, на Тверской было не протолкнуться. На открытии присутствовало множество гостей из верхов, и представшее их взору зрелище поразило даже самых взыскательных, а посему каждый старался заглянуть через плечо соседа и рассмотреть диковинные деликатесы и напитки, расставленные за стеклами витрин…
Дом на Тверской превратился в настоящий храм искусств. В его залах, украшенных знаменитыми картинами и фресками, регулярно собирался весь цвет московской творческой интеллигенции. Свои произведения здесь читали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Тютчев, Одоевский, Тургенев и многие другие русские классики…
Особняк на Тверской принадлежал Елисееву до 1917 года… – Это конечно не плохо, но только почему мои предки не удосужились что-нибудь похожее сотворить для меня? – надрывалась анархическая душа Давида Утопича. – Ну да ладно. Молчи грусть – молчи…
– Вот, уже в мою бытность, – рассуждал вслух Давид Утопич закрыв глаза, – как сейчас вижу… стол в честь юбиляра Ю. Трезвилова, моего легендарного директора «Елисеевского», которого моя душа так не переваривала… Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра. Высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья…
– Да…, Трезвилов умудрялся снабжать деликатесами элиту Советов и умел налаживать с ними контакты, не забывая себя, одновременно общаясь с гениальными аферистами, – Давид Утопич с грустью вздохнул. – Эти гении торговли умудрялись делать миллионные состояния под носом у советской власти, несмотря на грозящую за это смертную казнь.
– Самый крутой дефицит на прилавки почти не выставлялся, или попадал туда чисто символически. По себе знаю. Я лично проводил в эти закрома с чёрного хода, многих цикашников, руководителей всех мастей и их жён, продавая допущенным к «кормушке», все по блату через общества: «Ты мне, я – тебе», «Ты меня уважаешь», «Я – тебя уважаю», «Мы – уважаемые люди». Да, наш директор понимал в этом толк и был членом всех этих тайных обществ, а посему ему прощались любые вольности, но … Как сейчас помню, – я уже перед пенсией планировал за «Краковскую» приобрести ещё и «Докторскую диссертацию», когда судьба распорядилась по-другому…
Нагрянул ОБХСС – и Родина не забыла мои высказывания о «честности в Елисеевском». Меня уволили без права работы и проживания в городе N, «наградив» условным сроком, со словами: «Вам сильно повезло» … А вот директора – закапали…
Некоторое время спустя, Оболдуев Давид Утопич, удачно используя связи, приобретённые ещё в колбасной секции, с отвращением исхлопотал себе досрочную пенсию, поселившись за городом N – в доме «Забытые грёзы».
Престарелые артисты, пожизненно живущие в этом доме, пытаясь выяснить его заслуги, донимали его распросами, но он их посылал уклончиво: «Да, я своеобразный артист, но я заслужённый артист «Елисеевской школы!»» – в итоге общество и время отказывалось его лечить, не давая успокоения его анархической душе.
Душа его дрожала от негодования и завести даже тогда, когда огорчённый Оболдуев одиноко прогуливаясь мимо открытых окон «Забытых грёз» иногда улавливал обрывки фраз артистов о фильмах, гонорарах, сцене, и их влиянии на общество. Эти все разговоры, где он не мог влиять на процесс изымания денег, его опустошали…
Иногда анархист-одиночка целыми днями смотрел через окно на ручей без названия, где текла родниковая вода, но мысли Давида Утопича всё равно перескакивали на советское, ему подсознательно неприятное. Вспоминались возмутительные ему эпизоды – октябрьские и первомайские демонстрации, на которые его, на добровольно-принудительной основе, регулярно «пригашали»…
В весёлой колонне под флагами и транспарантами, призывающими граждан выполнить пятилетку в четыре года, Давида Утопича ещё больше раздражали разговоры о достижениях и росте благосостояния.
Оболдуева просто опустошали разговоры о достижениях, о жаловании, которые окружающие называли зарплатой, о кассе взаимопомощи, о месячнике помощи детям, о социальной значимости соц. Соревнований, вручение грамот и вымпелов победителям.
Давид Утопич вздрагивал от песни о паровозе, который… «летит вперёд», потому что не понимал почему именно в коммуне должна быть остановка… и вообще он просто не знал в какой стороне коммуна, но боялся спросить. Зато твёрдо усвоил, – «коммунизм на горизонте», где «каждому по–потребности, а от каждого по способности»! Первая же часть лозунга ему нравилась значительно больше…
В мире же киноискусства ему ближе был фильм «Процесс о трёх миллионах» и «Блеф», а не «Бронепоезд» с «Клопом» и пьесой «На дне», где, как ему казалось, он находится после выхода на пенсию. От этого «Дна», Оболдуев не мог прийти в себя – помогали только минуты молчания, опущенные веки и воспоминания о его работе в Елисеевском. Там его почерневшая душа искренне радовалась процессам обвеса и моментам реализации просроченной продукции оптом, по завышенным ценам, клиентам с «чёрного входа» …
Вот и сейчас, закрыв глаза, перед ним возникло дорогое убранство Елисеевского и шикарный ассортимент продуктов: «А какие были колбасы в моём секторе!» – неожиданно для самого себя снова вслух произнёс Оболдуев.
– Прости, Саш…
– Я, Андрей!
– Ну, хорошо, будем считать, что я не права, но ты же можешь, по крайней мере, попросить у меня прощения?..
– Ладно, Оль, не дуйся… Давай прямо из бара пойдем в кино?
– Пойдем.
– А твой парень не будет против?
– У меня нет парня, его муж «пришил» …
– Так вот почему женщины, всё-таки живут дольше мужчин, значит мы равенства ещё не добились! – констатировал Андрей. – Но всё же наверое, не только от этого?
– Это не в моей компетенции, милый. А правда, что зайцы самые глупые животные? – услышал он новый вопрос, не успев проанализировать первый.
– Да, мой зайчик…
Магнитофон неожиданно заурчал и сменил мелодию: «Жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь…»
– Пожалуй, это не оспоримый факт, который невозможно ни опротестовать или опровергнуть, – отметил про себя Оскар, – но это уже из репертуара другого исполнителя. Видимо что-то случилось с плёнкой или кто-то решил разбавить репертуар. А это значит, что пора и мне на выход. Да,… жизнь вокруг бьёт ключом, господа присяжные заседатели и не всегда по голове! Следует поблагодарить магнитофон, что он для меня очень своевременно сменил «пластинку».
Допив пиво, Иванов-Бендер положил журнал «Деньги» в свой кейс, в бытность подаренный Бян Лян Пуком, и откланявшись по-английски, направился к дверному проёму, при этом отметив, что «отряд не заметил потери «бойца».
После «светской болтовни» и общения под кружку с пивом на душе стало немного теплее, отметив: «А всё-таки земля вертится в нужную сторону!»
Глава 3. Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что
Пройдя под наскоро замазанной синькой старой вывеской «Жигули», со слезами от дождя, и мимо трёх цветных вывесок братьев япономать: «Сукин-Сан», «Саке-Сан», «Баня-Сан», гражданин в фуражке и в положительном настроении появился у пешеходно-автомобильной «тропы» Нового Арбата. Всосав в себя очередную порцию газового допинга, Бендер остановился рядом с дверью в кафе и стал наблюдать за многочисленным и разношерстым пешеходом, мелькавшим перед его взором.
– Это видимо хозяйка, с тремя пирамидальными бумажными пакетиками с молоком в нейлоновой растягивающейся авоське, оставляющая трассирующий белый след на сухом асфальте. Она наверняка спешит к двери продуктового магазина, чтобы занять своё место в длинной очереди. Вот, наконец, дождавшись очередного покупателя и получив свой заветный номер, стала тщательно выводить его чернильным карандашом на ладони. Благополучно завершив «регистрацию», побежала обратно к булочной, где видимо, уже приобрела очередной порядковый номер…
Иванов-Бендер медленно перевёл взгляд: «Интересно кто вон тот пожилой мужичок в белых роговых очках на банановом носу, в модном пиджачке с короткими и давно не стиранными боцманскими штанами, завершающих своё продолжение волосатыми конечностями в сандалиях на босу ногу? Куда это он так торопится? Похоже, что это один из последних могикан науки, которому удалось сберечь знания, силы и уверенность в себе. Это он, расталкивая пешеход, явно торопится, успеть донести до молодёжи свои познания, о достижениях человечества, не расплескав их по дороге за последние надцать лет»…
– А это что за господин с портфелем, рядом со мной и дверью кафе «Вся сила в зёрнах»? Он, в помятой кепке и блестящем, в некоторых местах пиджаке, но приличных, правда не по моде, брюках. Причём – одна штанина заправлена в носок, а другая настолько коротка, что обнажала завязки от кальсон. Под усами, типа «а-ля Чаплин», рядом с тёмным пространством от бывшего зуба отдавала блеском фикса из нержавеющей стали. Вероятно «рассеянный – с улицы Басееной» – явно безработный, но не потерявший надежду на приближение горизонта лучшей жизни. «Кепка» нагнулась, старалась пристроить свой заслуженный портфель у витрины кафе, который не «слушался» и сваливался набок.
Наконец, пристроив портфель, господин достал из него бутылку кефира с сайкой. Затем, не теряя времени, притулившись к стеклу витрины, приступил к трапезе закрыв глаза, видимо, чтоб заодно и подремать, считая, что время – деньги, которых, судя по его виду, у него уже не осталось.
Через некоторое время к нему подошёл человек тоже с заслуженным саквояжем.
– Вы товарищ Оболдуев?
– Ну я, – не открывая глаз и не беря перерыв на пережёвывание пищи, сознался Оболдуев.
– Тогда я к вам по программе – одновременной игры с Магом и целителями, – произнёс пароль подошедший.
– Пристраивайся с права от меня, но не загораживая дверь, – не поднимая век, изрёк Оболдуев.
Оболдуев Давид Утопич по натуре был анархистом. Он ненавидел власть Советов точно также как ненавидел и власть капитала, но любил власть денег. Вообще он презирал любую власть, но стремился к ней всеми фибрами своей анархической души. Давид Утопич часто с умилением вспоминал приятные эпизоды из своей жизни, когда трудился в колбасном секторе «Елисеевского», где позади него, как буревестник, гордо реял вымпел «Победителю соцсоревнования». Правда сладкие воспоминанья омрачала тень таксопарка, где когда-то трудился, но в силу своей внутренней убеждённости нарушал закон, регулярно завышая стоимость проезда. Приработком он ни с кем не делился, кладя разницу в карман, и в конце концов созрел для посещения тюрьмы, где на воротах значилось: «Не грусти входящий».
Оболдуев всё же считал себя честным человеком, так как честно «от звонка до звонка» отсидел положенный срок. Но руководство таксопарков, куда он после честной отсидки обращался, его мнения не разделяли. «Проверять» же карманы пешеходов скрытно он не умел, а другой профессией бог не наградил. Встал вопрос: «Куда пойти? Куды податься?» …
При нём оставалась, наглость анархиста, тяга к обсчёту и обвесу, а также дар детства – заводить нужные знакомства, но судьба долго испытывала его на прочность. Наконец, когда он уже было потерял надежду устроиться на работу, ему крупно повезло. Как говорят в народе – «нет худа без добра». И добро пришло в пивную, где Оболдуев неожиданно повстречал сокамерника из заведения «Не грусти входящий», – бывшего директора столичного мясокомбината, члена тайного обществ «Ты мне, я – тебе».
В конце концов, члены этого общества, устроили его в колбасный сектор «Елисеевского» продавцом. Слово «сектор» он не переваривал, но согласился, так как любил колбасу…
В стране был серьёзный дефицит всего, а посему ему, с начальным образованием, через некоторое время под «ветер перемен» удалось, за «докторскую колбасу», сначала купить «Аттестат зрелости» и «Диплом» о высшем, а затем, за «Краковскую», прикупить «Кандидатскую». С ветром «перемен» такие липовые корочки можно купить в любом переходе. Да и зачем обладать какими-то способностями, напрягаться, время терять да заморачиваться, если каждый второй руководитель с такими «глубокими знаниями» уже в академиках ходит, – рассудил Оболдуев.
Высокопоставленные клиенты, прознав о его корочках стали наперебой ему предлагать перейти на работу на высокие должности в другие сферы деятельности, но Оболдуев от этих предложений отказывался. Однажды, когда ему один значимый клиент предложил перейти в Академию Наук на более приличную должность, Давид Утопич отказался, громко заявив: «Я не подкупный продавец из народа и надеюсь, что в «Елисеевском» мою «честность» оценят, а Родина не забудет!»…
История главного московского гастронома началась в 1898 году, когда на Тверской улице, купец Григорий Елисеев купил дом, «наполненной своими загадками и тайнами», положив начало одной из историй братьев Елисеевых, связанной с угрозой закрытия «храма Бахуса»… Дело в том, что по тогдашним законам торговля спиртными напитками не разрешалась ближе 42 сажен от входа в церковь, а посему расположение храмов на Тверской для Елисеева было плохим соседством…
Несмотря на это обстоятельство, а точнее наперекор ему, три года спустя, на первом этаже открылся шикарно оформленный магазин, который в столице быстро прозвали «Елисеевским» …
В день открытия магазина, на Тверской было не протолкнуться. На открытии присутствовало множество гостей из верхов, и представшее их взору зрелище поразило даже самых взыскательных, а посему каждый старался заглянуть через плечо соседа и рассмотреть диковинные деликатесы и напитки, расставленные за стеклами витрин…
Дом на Тверской превратился в настоящий храм искусств. В его залах, украшенных знаменитыми картинами и фресками, регулярно собирался весь цвет московской творческой интеллигенции. Свои произведения здесь читали Пушкин, Жуковский, Вяземский, Тютчев, Одоевский, Тургенев и многие другие русские классики…
Особняк на Тверской принадлежал Елисееву до 1917 года… – Это конечно не плохо, но только почему мои предки не удосужились что-нибудь похожее сотворить для меня? – надрывалась анархическая душа Давида Утопича. – Ну да ладно. Молчи грусть – молчи…
– Вот, уже в мою бытность, – рассуждал вслух Давид Утопич закрыв глаза, – как сейчас вижу… стол в честь юбиляра Ю. Трезвилова, моего легендарного директора «Елисеевского», которого моя душа так не переваривала… Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах, в кольце прозрачного льда, стерляжья мелкая икра. Высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белужья…
– Да…, Трезвилов умудрялся снабжать деликатесами элиту Советов и умел налаживать с ними контакты, не забывая себя, одновременно общаясь с гениальными аферистами, – Давид Утопич с грустью вздохнул. – Эти гении торговли умудрялись делать миллионные состояния под носом у советской власти, несмотря на грозящую за это смертную казнь.
– Самый крутой дефицит на прилавки почти не выставлялся, или попадал туда чисто символически. По себе знаю. Я лично проводил в эти закрома с чёрного хода, многих цикашников, руководителей всех мастей и их жён, продавая допущенным к «кормушке», все по блату через общества: «Ты мне, я – тебе», «Ты меня уважаешь», «Я – тебя уважаю», «Мы – уважаемые люди». Да, наш директор понимал в этом толк и был членом всех этих тайных обществ, а посему ему прощались любые вольности, но … Как сейчас помню, – я уже перед пенсией планировал за «Краковскую» приобрести ещё и «Докторскую диссертацию», когда судьба распорядилась по-другому…
Нагрянул ОБХСС – и Родина не забыла мои высказывания о «честности в Елисеевском». Меня уволили без права работы и проживания в городе N, «наградив» условным сроком, со словами: «Вам сильно повезло» … А вот директора – закапали…
Некоторое время спустя, Оболдуев Давид Утопич, удачно используя связи, приобретённые ещё в колбасной секции, с отвращением исхлопотал себе досрочную пенсию, поселившись за городом N – в доме «Забытые грёзы».
Престарелые артисты, пожизненно живущие в этом доме, пытаясь выяснить его заслуги, донимали его распросами, но он их посылал уклончиво: «Да, я своеобразный артист, но я заслужённый артист «Елисеевской школы!»» – в итоге общество и время отказывалось его лечить, не давая успокоения его анархической душе.
Душа его дрожала от негодования и завести даже тогда, когда огорчённый Оболдуев одиноко прогуливаясь мимо открытых окон «Забытых грёз» иногда улавливал обрывки фраз артистов о фильмах, гонорарах, сцене, и их влиянии на общество. Эти все разговоры, где он не мог влиять на процесс изымания денег, его опустошали…
Иногда анархист-одиночка целыми днями смотрел через окно на ручей без названия, где текла родниковая вода, но мысли Давида Утопича всё равно перескакивали на советское, ему подсознательно неприятное. Вспоминались возмутительные ему эпизоды – октябрьские и первомайские демонстрации, на которые его, на добровольно-принудительной основе, регулярно «пригашали»…
В весёлой колонне под флагами и транспарантами, призывающими граждан выполнить пятилетку в четыре года, Давида Утопича ещё больше раздражали разговоры о достижениях и росте благосостояния.
Оболдуева просто опустошали разговоры о достижениях, о жаловании, которые окружающие называли зарплатой, о кассе взаимопомощи, о месячнике помощи детям, о социальной значимости соц. Соревнований, вручение грамот и вымпелов победителям.
Давид Утопич вздрагивал от песни о паровозе, который… «летит вперёд», потому что не понимал почему именно в коммуне должна быть остановка… и вообще он просто не знал в какой стороне коммуна, но боялся спросить. Зато твёрдо усвоил, – «коммунизм на горизонте», где «каждому по–потребности, а от каждого по способности»! Первая же часть лозунга ему нравилась значительно больше…
В мире же киноискусства ему ближе был фильм «Процесс о трёх миллионах» и «Блеф», а не «Бронепоезд» с «Клопом» и пьесой «На дне», где, как ему казалось, он находится после выхода на пенсию. От этого «Дна», Оболдуев не мог прийти в себя – помогали только минуты молчания, опущенные веки и воспоминания о его работе в Елисеевском. Там его почерневшая душа искренне радовалась процессам обвеса и моментам реализации просроченной продукции оптом, по завышенным ценам, клиентам с «чёрного входа» …
Вот и сейчас, закрыв глаза, перед ним возникло дорогое убранство Елисеевского и шикарный ассортимент продуктов: «А какие были колбасы в моём секторе!» – неожиданно для самого себя снова вслух произнёс Оболдуев.