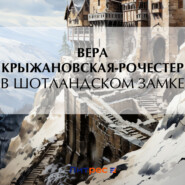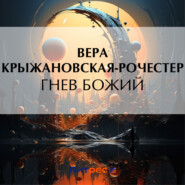По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рекенштейны
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сделать из людей братскую семью, превратить шакалов, готовых растерзать друг друга, в голубков… Ха, ха, ха! Одной этой претензии достаточно в моих глазах, чтобы видеть во всем этом учении сущий вздор.
Готфрид рассмеялся сухим, презрительным смехом.
– Но допустив даже, что эти пустые мечты не причиняют вреда, они все-таки применимы лишь в четырех стенах. Когда живешь уединенно, вдали от света и его страстей, можно мечтать об идеале и создавать планы улучшения человечества; но стоит только войти в соприкосновение с людьми, с их неблагодарностью, с их грубым эгоизмом, чтобы радикально разочароваться.
– Как, отец, ты не веришь в прогрессивное улучшение человечества?
– Я полагаю, что люди всегда будут людьми. Высокое учение Христа не могло исправить их сердца. И вот их благодарность – они распяли Иисуса! Мучили и поносили Его точно так же, как и всех своих благодетелей. И чего не могло сделать христианство, того не сделает и спиритизм.
– Но ведь ты никогда не читал книг, которые так порицаешь!
– Он и не хочет просветиться, – заметила с грустью старушка.
– Подымите, мадам, свои печально поникшие головы, – сказал весело Готфрид, – я прочту все ваши книги, чтобы поражать вас вашим собственным оружием. Но вот Рита с чаем и хваленым пирогом. Не будем больше спорить.
Около десяти часов они разошлись. Готфрид вернулся к себе в библиотеку и сел к большому столу, заваленному книгами и рукописями; но вместо того, чтобы заниматься, он откинулся на спинку кресла и, полузакрыв глаза, отдался своим думам. Невыразимая усталость, мрачная горечь сменили веселость, которую он выказывал своей дочери, и порой губы его нервно дрожали, обнаруживая раздражение.
Его осуждение и два ужасных года, которые он провел в тюрьме, произвели сильный переворот в душе гордого молодого человека. Сначала думали, что он сойдет с ума, и его преследовало желание наложить на себя руки, чтобы смертью избавить себя от нравственных мук; но его искреннее глубокое благочестие и мысль о ребенке, который остался бы сиротой, помогли ему победить искушение. Старик Берг написал Готфриду, что считает его невиновным в низости, какую ему приписывают, и по истечении срока наказания принял его с распростертыми объятиями и усыновил, чтобы дать ему законное право носить его имя. Но Готфрид был разбит морально и физически и вскоре по возвращении опасно заболел. Добрая Ирина ходила за ним, как преданная сестра, и он стал медленно поправляться. Но в душе его что-то окончательно надорвалось; позор, замаравший его древнее незапятнанное имя, необходимость скрывать его теперь, оставить своей дочери темное плебейское имя снедали гордую душу Веренфельса, и порой ему было невыносимо тяжело глядеть на своего ребенка. Неизлечимая болезнь сердца, которую он принес из своего заточения, физическим страданием увеличивала его нравственное расстройство. Весть о смерти Жизели глубоко опечалила его, и он свято чтил память этой невинной жертвы, которую Габриела погубила так же, как и его.
При воспоминании о графине все кипело в нем, зажигая в его сердце дикую жажду мщения. И ему казалось, что, если бы он, в свою очередь, мог погубить эту женщину, упорная, нечистая страсть которой повергла его в бездну, это облегчило бы его сердце.
Побуждаемый этим чувством, он вскоре после своего выздоровления навел справки и узнал, что Танкред был в военной школе, а Габриела вышла вторично замуж за графа де Морейра и уехала с ним в Бразилию. Еще более мрачный и молчаливый, Готфрид вернулся в Монако, избегая людей и общества, ища в чтении и в сухом изучении наук забвения и покоя. При жизни старика Берга, который с помощью своего доверенного продолжал вести дела, Веренфельс мог жить, как ему хотелось; но после смерти своего родственника он должен был взять все в свои руки и, несмотря на свое отвращение к занятиям такого рода, продолжал вести аферы старика Берга, так как хотел быть богатым и обеспечить Лилии, в материальном отношении, по крайней мере, спокойную будущность. И так как посредничество Гаспара избавляло его по большей части от прямых отношений с его клиентами, дело шло, не доставляя ему никаких беспокойств.
В этой печальной и суровой атмосфере Лилия росла одинокой. Она любила и боялась своего отца, который то выказывал ей беспредельную любовь, то сторонился ее, как будто ему было больно видеть свою родную дочь.
Она никогда не посещала никакого пансиона. Ирина, родственница ее крестного отца, заменяла ей мать и была ее наставницей. Прекрасно образованная, она вместе с Готфридом занималась обучением молодой девушки, которая таким образом в шестнадцать лет оказалась серьезнее и более сведущей, чем большая часть ее сверстниц. Быстрый рост и слишком нежное сложение привели ее к болезни, окончившейся благополучно, но о которой свидетельствовали ее бледность и худоба.
В тот самый вечер, когда Веренфельс у себя в кабинете раздумывал о своей дочери, день рождения которой разбередил его старые раны, в залах казино Монте-Карло, залитых светом, богато одетая дама, опираясь на руку молодого человека, медленно проходила сквозь толпу, направляясь в игорный зал.
Это была красивая пара. Их изящный вид и поразительное сходство друг с другом привлекали общее внимание. Даме казалось лет 30–32. Ее прелестное матово-бледное лицо оттенялось черными как смоль волосами, закрученными по-гречески и приколотыми бриллиантовой стрелой; пожирающий огонь, горевший в ее глазах, синих как васильки, и очертания рта выдавали сильные страсти и придавали ее красоте нечто демоническое. Молодому человеку, который вел ее под руку, могло быть не более двадцати трех лет, и он донельзя походил на нее. Его лицо, слишком красивое для мужчины, выражало холодное равнодушие, но в глазах его таилось беспокойство.
– Вы знаете эту интересную даму, господин Фенкелынтейн? – спросил молодой человек своего соседа. – Вот уже несколько дней я ее вижу; она ведет чертовскую игру!
– Да, я имею честь знать графиню де Морейра; с нею ее сын от первого брака, граф Танкред Рекенштейн, – отвечал еврей-финансист, кланяясь своему соседу и поспешно направляясь в игорный зал.
Габриела и ее сын уже вошли в этот вертеп необузданных страстей, который можно справедливо назвать вратами ада; вошли в зал, где груды золота, рассыпанные по зеленому сукну, возбуждают алчность, доходящую до безумия, где лихорадочное, опьяняющее волнение успеха и неуспеха заставляет биться сердце и зажигает в глазах огонь, но где вместе с тем можно видеть все животные чувства на лицах, разгоревшихся от алчности или помертвевших от отчаяния. Многие оставляют этот блестящий зал, разорив себя и своих близких, не видя другого исхода из своего бедственного положения, кроме самоубийства. Если б они хотели понять, эти малодушные, которые ищут смерти, чтобы избавиться от последствий своих безумных увлечений, и думают самоубийством спасти, по крайней мере, свою честь; если бы они хотели понять, повторяю, что пуля не может снять пятна, которое ложится на честь, так как честь есть принадлежность души, а не тела; если б они знали, что за пределами земного существования, куда они думают укрыться от ответственности, их ожидает наказание более беспощадное, чем кара людская, – мучение совести за погубленную жизнь!
Габриела сидела у одного из столов, поглощенная перипетиями игры в «rouge et noire», и лихорадочным взглядом следила за лопаточкой крупье. Танкред стоял позади ее, скрестив руки, и с мрачным выражением лица следил глазами, как убывали банковские билеты, лежавшие около графини.
– Перестань играть, мама, ты опять все проиграла, – прошептал он, наклоняясь к матери.
– Я отыграюсь, счастье вернется, – отвечала Габриела отрывистым голосом, вынимая из портфеля остальные билеты.
– Я пойду в буфет выпить стакан лимонада; кончай к моему возвращению, чтобы мы могли тотчас уехать, – сказал Танкред уходя.
Едва он скрылся в толпе, как банкир-еврей, который стоял в нескольких шагах и не сводил глаз с графини, подошел к ней и сказал:
– Графиня, я к вашим услугам, располагайте какой угодно суммой; счастье перейдет на вашу сторону. Я чувствую, что вы выиграете.
Габриела подняла глаза и, увидев Фенкелынтейна, который не раз помогал ей, давая в долг, наклонила голову в знак благодарности и, не считая даже, придвинула к себе деньги и карточку, на которой банкир записал данную сумму. Два часа спустя, едва держась на ногах и бледная как смерть, графиня оставляла казино, опираясь на руку сына.
– Что ты сделала, мама, ты проиграла наши последние деньги, и я не знаю, право, как мы уедем из города.
Габриела не сомкнула глаз всю ночь. Более, чем упрек сына, ее мучила совесть, и в сильном волнении она ходила по комнате без остановки и отдыха. «Ах, что это? – спрашивала она себя. – Страсть к игре овладела мною, я – бесчестная женщина, которая разоряет и губит всех, кто ее любит. Что это такое, мои ли преступления, или твое проклятие, Готфрид, гоняют меня, как окаянную, с места на место и нигде не дают покоя?»
На следующий день, часов в двенадцать, Сицилия подала своей госпоже карточку банкира Фенкелынтейна, который желал видеть графиню. Габриела побледнела, но должна была его принять. С поклоном банкир вынул из портфеля пачку гербовых бумаг и сказал:
– Графиня, эти векселя вместе с суммой, которую вы получили вчера, представляют собой значительный капитал, и я пришел узнать, когда и как вы желаете рассчитаться со мной.
Габриела взяла бумаги, прочитала их, и смертельная бледность покрыла ее лицо. Она хотела говорить, но ее дрожащие губы отказывались ей служить. Банкир, не спускавший с нее глаз, наклонился к ней:
– Графиня, я друг ваш и готов на все, чтобы угодить вам. Я знаю, что вы несостоятельны, но, если хотите, мы можем сговориться.
– Как? – спросила с усилием Габриела.
Банкир был еще человек молодой, довольно приятной наружности. Не скрывая более страсти, которая горела в его взгляде и звучала в его голосе, он наклонился еще ближе и, схватив руку графини, проговорил:
– Скажите слово, графиня, и эти бумажки будут разорваны. Я миллионер, и все, что богатство может доставить, я положу к вашим ногам. Если бы, к несчастью, я не был женат, то предложил бы вам мою руку, но теперь должен ограничиться тем, чтобы просить вашей любви и умолять вас не отвергнуть моих чувств.
Габриела слушала его молча, широко раскрыв глаза, голова ее кружилась. Ужели она так низко пала, что первый попавшийся думает, что он может купить ее, как любовницу, за несколько тысяч франков?! Ее буйная и гордая натура вдруг пробудилась; она вскочила с глухим восклицанием и ударила банкира по лицу.
– Вот мой ответ! – проговорила она вне себя.
– Как, мама! Он осмелился тебя оскорбить? – воскликнул Танкред, вбежав в комнату, и, бросившись к финансисту, схватил его за горло.
– Оставь его! – сказала графиня, становясь между ними.
– Вы рассчитаетесь со мной за все эти оскорбления, граф Рекенштейн, – прошипел банкир, посинев от злобы. – Если в двадцать четыре часа вы не уплатите мне всего сполна, я осрамлю вас перед судом.
Он схватил бумаги, разбросанные по столу, и стремительно вышел.
Несколько минут длилось молчание; затем граф спросил:
– Сколько ты ему должна?
– Тридцать тысяч талеров. Ах, Танкред, прости меня, – прошептала едва слышно графиня.
– Полно, мама, я не осуждаю тебя. И теперь не до объяснений между нами, а дело в том, чтобы уплатить этому негодяю и самим выпутаться как-нибудь. Какое не счастье, что, в силу духовного завещания, я не могу располагать моим имуществом! Что скажешь, не телеграфировать ли банкиру Арно? Быть может, он выручит нас из беды.
– Ни за что! Запрещаю тебе это! – вскрикнула нервно графиня. – И потом, мы только напрасно потеряли бы время, когда дорога каждая минута. Арно, быть может, уже нет на свете: более двенадцати лет он не подает признака жизни. Я лучше дам тебе мои драгоценные украшения, которые стоят, во всяком случае, не менее этой суммы, – присовокупила она с большим спокойствием.
Габриела пошла в спальню и принесла оттуда несколько футляров; но когда она отдавала сыну парюру из бриллиантов и сапфиров, рука ее дрожала, как в лихорадке: это была та парюра, которую подарил ей Арно.
– Я рано утром послал за Небертом; теперь он, вероятно, уже здесь. Я сейчас покажу ему эти вещи и попрошу устроить дело, – сказал молодой граф, пряча драгоценности в маленький мешок и уходя из комнаты.
Его ожидал человек средних лет, с хитрым энергичным лицом. Это был Неберт, нечто вроде маклера и фактора, который служил Танкреду, как преданный агент для улаживания его мелких финансовых и любовных дел. Неберт много лет был секретарем и управляющим у дона Рамона де Морейра. Скопив себе довольно крупную сумму, он занимался теперь собственными делами и жил часть года в Монако, где его сестра была замужем за содержателем гостиницы, а остальное время в Берлине. Танкред, зная его как честного и преданного человека, имел к нему большое доверие.
Не входя в подробности, граф рассказал своему поверенному о необходимости уплатить долг в двадцать четыре часа и передал ему все драгоценности, прося заложить их и даже продать, если нельзя иначе.