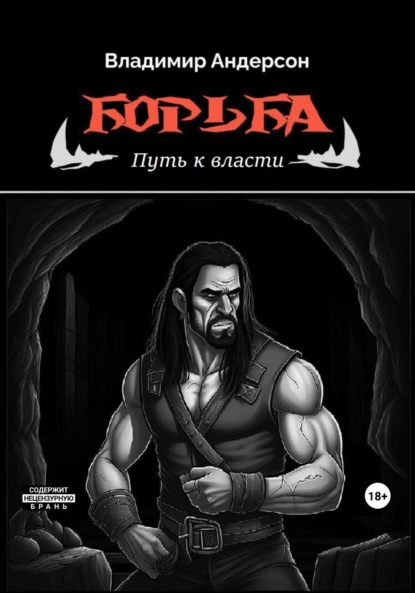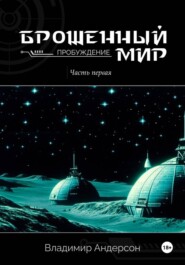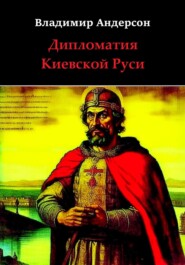По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Борьба: Путь к власти (книга вторая)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
***
Широкий серый камень. Пыль и тусклый свет вокруг. И повороты, которые не кончаются.
Это путь к камерам Инквизиции, где ждут своего времени подозреваемые, осужденные и все, кто хоть как-то оказался связан с нарушением правил «Силан-Жах».
Томные бессмысленные шаги и такое же лицо. Это жрец-митрополит Гузох (120-й градус) из Священного Сейма. В его фазе Инквизиция занималась средним звеном Империи – рабочими в основном. Как ни странно, но еретиков и колдунов среди них в процентном соотношении было меньше всех. Это следствие выходило прежде всего из того, что особенности их труда не позволяли проводить «неделю покаяния».
«Неделя покаяния» – это срок, объявляемый после приезда инквизитора, на добровольное признание в ереси. Во время неё также приходили и доносчики, указывая на конкретного чума. У доносчика имелось два варианта: покаяние и обвинение. Чаще выбирали первый, потому что в случае оправдания чума (а такое могло быть, если у него есть связи, в том числе и с церковью, например, если он сам ранее удачно доносил), расследования подвергался сам доносчик.
Гузох приблизился к камерам и мог теперь услышать стоны, издаваемые оттуда. Большое количество поворотов нужно было именно по этому причине – заглушить звук.
У входа стоял внушительного, даже для чума, вида охранник в чёрной мантии. В его глазах отсутствовало всё, что только можно назвать эмоцией, а уши совсем уже не различали болезненные вопли и звуки шагов – для него всё едино и отличается лишь громкостью. Он поклонился медленно и сухо.
За ним шли два ряда камер, где сидели долго и тяжело перед тем, что им предстояло пройти. А после этого располагалась сама камера пыток.
На вошедшего в то помещение никто не посмотрел – все трое: инквизитор, подозреваемый и нотариус жили в «своих» мирах.
Инквизитор, староватый чум Катанхр, не мог находиться в этом помещении уже давно. Эта едкая вонь вокруг, одни и те же вопросы, на которые не многие отвечали вообще и ещё меньше отвечали положительно. Но, хоть он и мечтал быть инквизитором «недели покаяния», эта работа казалась ему не менее важной.
Подозреваемый Тишинхр, рабочий оружейного завода, понимал, что чтобы он ни делал, жизнь, которая была у него до доноса, уже никогда не будет прежней. Ему было непонятно, почему чумам, таким же как он, позволено говорит, где правда, а где нет, почему они называют себя «святыми» и, почему надо с ними соглашаться. Он верил в «Жах», молился каждый день, прося сил у Чёрного Камня, и считал, что дело веры – это дело самого чума. Тишинхр знал. Что, если сознается, его оставят живым, но он не мог это сделать: его поймают во второй раз и результат будет таким же.
Нотариус Юнинхр, давно окончивший юридическую школу, целиком и полностью видел все расстановки. Если подозреваемый сознается, то самое малое, что ему грозит, это публичный позор с последующим «прощением». Так называемое в среде церковной бюрократии «прощение» заключалось в том, что в указанные дни, а таковых обычно насчитывалось около сотни в год, в течение от трёх до семи лет от чума требовалось посещать церковь и участвовать в особых процессиях, ища примирения с духовной властью.
А если не сознается, то его продолжат пытать и завтра сожгут на костре.
Подозреваемого на метр подняли вверх, затем отпустили и поймали у самой земли. Верёвки, привязанные к его лапам, впились в кожу. Внутри всё перепрыгнуло. Сознание помутнело. И начало немного тошнить.
Гузох посмотрел вокруг: чернота и пустота, едкий запах злобы и страха, два факела, освещающие камеру так, что только несколько бликов отражались в глазах.
«И это мы, Инквизиция, – подумал Гузох. – Нас разве что только дьявол не боится…»
Префект
На шахте многое изменилось, в том числе и способ приёма пищи. За месяц построили столовую на 50 мест. Она действовала ещё только три дня, и не все успели привыкнуть; стол, скамейка, особое помещение – всё это выглядело не столько странно, сколько сомнительно.
Некрасова присела на своё обычное место, посередине зала у стенки, и уткнулась в тарелку, где в желтоватом бульоне плавали макароны и немного курицы.
К ней подсела Лена Багратионова. Она тоже было не в духе, но увидев, такую комбинацию напряжения мышц на лице Насти, подумала, что у него-то дела ещё хуже.
«Насть, что с тобой?» – Лена умела в нужные момента правильно вести себя и подавать совершенно обычные вопросы подходящим тоном. Сейчас ей глупо было быть такой кислой как на самом деле.
«Да нет, ничего» – Настя слегка отвернулась, а заодно с этим растеряла все свои грустные мысли, осталось только настроение.
– Ну я же вижу. На тебе лица нет.
– Знаешь, на тебе тоже…
После этих слов Лена внутренне собралась окончательно и вывела этот результат на лицо – получилось очень даже неплохо.
– Не совсем так.
Настя посмотрела на неё, желая это проверить: живые глаза, добавляемые веснушками, рыжие волосы, завязанные в косичке – и правда, лицо есть.
– Ну хорошо. На тебе есть…
– Ну вот видишь!
– Да что я вижу?
– Что всё не так плохо, как кажется.
– Да. Всё ещё хуже.
– Да перестань ты в самом деле! Как будто от того, что ты будешь себя чем-то казнить, станет кому-то лучше.
Настя отвернулась: «Это я виновата».
– В чём?
– Они подрались из-за меня.
– Я знаю.
– Знаешь?
– Да. А что тут такого? Они подрались из-за тебя, но ты-то что могла сделать?
– Не знаю. Но раз они меня…
– Насть, то что они тебя любят оба, ещё не значит, что они тебя будут слушать…
– А вдруг?
– Ну какие тут могут быть «вдруг»? Разве ты им не говорила что…
– Говорила… Но они мне ведь правда не нравятся… Оба.
– Ну вот. Что ты им ещё сказала?
– Что… что бы они ни делали я не смогу полюбить ни одного из них. Я им это сказала каждому по отдельности.
– Ну так в чём ты себя винишь?
– Я не знаю…
Она и правда не знала, за что здесь можно себя винить. И Лена не знала, но чувствовала, что если бы сама оказалась, на её месте, то винила бы себя также. Это часть жизни. А в жизни далеко не всё поддаётся логике.
В дальнем углу сидел префект со своим заместителем. Оба надеялись на хорошее, но в данный момент могли только ждать, готовясь к плохому.