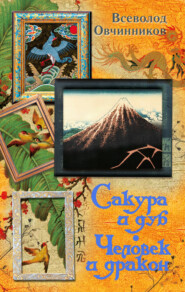По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вознесение в Шамбалу. Своими глазами.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Центр Лхасы опоясывает улица Палкхор. Предание гласит, что внутри этого кольца когда-то было озеро, в котором водились черти. Чтобы нечистая сила не беспокоила горожан, озеро засыпали и построили на нем монастырь Джокан.
На улицу Палкхор выходит здание городской управы с висящими у входа тигровыми хвостами – символом власти и правосудия. Здесь же продают свои товары купцы из дальних краев. В ленивых позах сидят щеголеватые непальцы, потягивая через трубочку очищенный водой табачный дым. Белеют шапочки мусульман, пришедших с караванами из-за снежных перевалов Гималаев. Улица Палкхор – это Лхаса торговцев и богомольцев. Но если свернуть в сторону от торгового кольца, попадаешь в Лхасу ремесленников. Из пятидесяти тысяч постоянных жителей города в 1955 году двадцать тысяч составляли ламы, пятнадцать – торговцы и столько же кустари. Но именно последняя часть составляет ядро городского населения.
В узких, извилистых переулках каждый дом – это и жилище, и мастерская, и лавка. Связь ремесла с торговлей предстает взору в самом непосредственном ее проявлении. За распахнутой дверью видишь кустаря за работой, а перед порогом – то, что он произвел и хочет продать. Все тибетские ремесленники считались слугами далай-ламы. Как и в средневековой Европе, они были объединены в цехи с иерархической структурой и сложным ритуалом посвящения подмастерьев в мастера. Раз в год полагалось делать приношения далай-ламе и получать его благословение. Для этой торжественной церемонии каждое ремесло имело свой наряд и знало свое место. Первыми подносили дары золотых дел мастера и стенописцы, создающие образы богов, последними – кузнецы и скотобои.
На низком чурбаке сидит в своей каморке ювелир. Положив на круглую металлическую колодку серебряную монету, он бьет по ней молотком. Кружок серебра постепенно расплющивается и приобретает форму чаши или лампады. Оглядев изделие придирчивым взглядом, ювелир берет молоточек поменьше и крохотную стамеску. Это единственные помощники верного глаза и умелых рук. Тихонько постукивает молоточек, пальцы едва заметно передвигают острие стамески. А на серебре словно по волшебству ложится чеканный узор – легендарная птица Чон, окруженная лепестками лотоса.
Рядом другой кустарь мастерит похожий на икону серебряный футляр для амулетов. Их носят на груди многие тибетцы. Вместо чеканки он выбивает на поверхности металла круглые гнездышки, чтобы потом вставить в них голубую бирюзу, которая, по преданию, впитывает в себя недуги человека, полупрозрачный сердолик, именуемый в народе «ячьим глазом», или кусок коралла, привезенный из далеких индийских морей (как и бирюзе, ему приписывают целебные свойства)
Возле одного из домов разложены яркие прямоугольные коврики. Пройдя через полутемную лавку во внутренний двор, оказываешься в ковровой мастерской. На кошмах сидят женщины. Звучит незатейливая мелодия песни, движутся в такт ей руки, превращая спутанные кипы шерсти в нежный, как снег, пух. Набрав полный фартук, статная девушка относит его на другой конец двора. Там гудят деревянные прялки, будто чудом перенесшиеся сюда из старинных русских сказок. В темных помещениях нижнего этажа белую нить окунают в каменные корыта. Натуральные красители из трав, кореньев, минералов придают пряже поразительные по разнообразию, яркости и устойчивости оттенки.
Наверху сидят ткачи. Две параллельные жерди, между которыми натянута хлопчатобумажная основа, – вот и весь станок. Углем на основу наносится рисунок, вернее, главные контуры, пропорции. Образец орнамента лежит рядом, и ткач лишь время от времени поглядывает на него. Можно часами любоваться мудрой простотой каждого движения ковровщика. Вот он берет моток шерсти нужного цвета, ловко продевает конец ее за нить основы, выводит его обратно, натягивает, обрезает. Длина торчащих концов – это и есть толщина будущего ковра. Ткач делает стежок за стежком, прижимая их друг к другу тяжелым металлическим гребнем.
Два конца обрезанной нити войдут в рисунок ковра лишь двумя цветными точками. И вот из таких-то точек постепенно рождаются излюбленные темы народного искусства: горы, тигр с гордо повернутой головой – напоминание о тех временах, когда посередине ковра вшивался кусок тигровой шкуры, знак власти восседавшего на нем вождя. Какое же здесь требуется мастерство, какое художественное чутье, наконец, какая бездна времени! Небольшой коврик, приблизительно два метра на полтора, требует больше месяца труда опытного мастера. Зато век тибетского ковра равен, как говорят, веку человека, и краски его не тускнеют даже от яркого высокогорного солнца.
Многообразно искусство лхасских умельцев. Здесь ткут грубое сукно шириной в локоть, в которое одеваются монахи; отливают из меди фигурки Будды; выжигают глиняные кувшины, чеканят серебряные кубки. Во всех буддийских странах Юго-Восточной Азии славятся приготовляемые в Лхасе ритуальные свечи, курящиеся ароматным дымом. Есть, наконец, в Лхасе искусные кузнецы.
Переулок Канбара так же узок и грязен, как другие в ремесленной части Лхасы. Двухэтажные дома отличаются от крестьянских лишь тем, что стоят теснее друг к другу. Я в гостях у кузнеца Церина Пинцо. Его жилище разделено надвое перегородкой. За ней стоит горн, наковальня, насыпана куча древесного угля, в углу составлены металлические прутья. В жилую часть комнаты свет попадает только через широкий дверной проем. На теплую часть года дверь снимается вовсе. Тогда и жилище отделяется от улицы лишь каменным порогом, который преграждает путь дождевой воде. Посередине каморки примитивный очаг, где тлеют лепешки сухого ячьего навоза. Солнечный луч синей полосой пробивает себе дорогу сквозь клубы дыма. Когда глаза постепенно привыкают к полумраку, я вижу и почерневшие от копоти жерди потолка, к которым привязаны кожаные мешочки, пучки каких-то трав. В дальнем углу, где под изображением далай-ламы горит несколько лампад, на ворохе шкур сладко спит, улыбаясь во сне, пятилетняя девочка. Жена хозяина Гасан сидит на пороге и кормит грудью младенца. Время от времени она выходит на улицу, чтобы предложить случайному прохожему разложенные тут же мотыги, серпы, скобы и гвозди. Мне указывают место на сундуке. Сам Церин Пинцо располагается напротив. Он сидит свободно и прямо, обхватив колено пальцами сильных рук. Распахнутый ворот рубахи открывает мускулистую шею. Вокруг головы уложены заплетенные в косу густые, нечесаные волосы. Когда кузнец говорит, добродушно прищуренные глаза его будто ощупывают собеседника, а руки все время в движении: нужное слово подкрепляет нетерпеливый, выразительный жест.
Разговор сам собой заходит о том, что больше всего волнует хозяев: о заказах, о заработках, о дороговизне железа, которое привозят сюда вьюками из-за дальних гор. Гасан часто перебивает мужа, вставляет свои замечания, а скоро к ней присоединяется и третий собеседник. Это сосед Церина, кузнец Чжаси Тэнчжу. Он вошел как-то незаметно и молча уселся на корточки возле огня. Теперь все трое говорят, обращаясь уже не столько ко мне, сколько друг к другу. Самые горячие толки вызывает упоминание об ула – трудовой повинности, которую земледельцы, скотоводы и ремесленники должны отрабатывать своим хозяевам – монастырям и местной знати. Сама по себе ула никому не кажется несправедливой. Сетуют на другое. Кузнецы, как и все мастеровые в Лхасе, объединены в гильдию – ремесленный цех. И повинность распределяет между семьями цеховой мастер. Вот и получается, что, смотря по расположению этого человека, одни трудятся по ула двадцать дней в месяц, а другие чуть ли не вдвое меньше.
– А намного выгоднее брать заказы со стороны? – спрашиваю я.
– Какое сравнение! – отвечает Церин. – Дома бы я раза в три-четыре больше заработал. А там за мешок ячменя таскаюсь целый месяц с одного места на другое.
– Когда это ты заработал на ула мешок зерна? – кричит с улицы Гасан. – Сколько получишь, все и съедаешь. А семья ни с чем остается. Если бы сам работу брал…
– Заказ, заказ! – мрачно говорит Чжаси Тэнчжу, скребя пальцами голову. – Его еще найти надо. Железо дорогое, народ бедный.
– Может быть, в деревне нашлось бы больше работы?
– Но без разрешения мастера из Лхасы уезжать нельзя, – качает головой Церин – Это значит – неси ему каждый раз подарок.
Цех ежегодно собирает с ремесленников деньги на дары далай-ламе. В определенный день кустари отправляются с ними в Норбулинку. При воспоминании об этой церемонии все заметно оживляются. Порывшись в углу, Церин показывает красную шапку с бахромой из лент. Ее полагается надевать во время торжественного шествия к далай-ламе.
– Под благословение подходят чередом, по высоте ремесла, – с торжественностью в голосе рассказывает Чжа-Тэнчжу. – Сначала стенописцы и медники. Потом ювелиры, ковровщики, плотники, каменщики, а уж после всех мы, кузнецы…
Корни такой традиции, по-видимому, религиозные, Буддизм считает большим грехом убийство любого живого существа. Кузнецы же делают орудия убийства, скотобои ими пользуются…
Я спрашиваю, сказывается ли это на заработках.
– Конечно! Ювелир, к примеру, сделает за день две серьги, продаст их. А самому искусному кузнецу, чтобы выручить столько же денег, не меньше недели пришлось бы трудиться!
– С детства мы это узнали, – грустно улыбнувшись, говорит Церин Пинцо. – Работать зовут – ты нужный человек, а кончил дело – тут же тебе в спину кричат «гара!».
– Что же это за слово? Что оно значит?
– Это презрительная кличка кузнецов. Так зовут духа, которого на том свете за какие-то прегрешения превратили в кузнеца. Во дворце Потала есть его изображение. Сидит верхом на баране с молотом в руке, а лицо черное, страшное.
– В праздник приоденешься, выйдешь с ребятишками на улицу, а на тебя со всех сторон пальцами показывают: «гара», – говорит Гасан. – Всего тяжелее думать, что и детям не избежать того же, – продолжает она. – Издавна ведь заведено: женится кузнец на дочери кузнеца, а сына может сделать только кузнецом.
В наступившей тишине слышны звуки уличной жизни. Постукивает молоточек чеканщика, где-то иступленно хохочет юродивый, звенят бубенцы проходящего каравана. Собеседники молчат, думая, наверное, о духе с молотком, черный лик которого, как проклятье, висит над кузнецами из поколения в поколение.
Ярмарка в долине Дам
Высунувшись из машины, я оглядываюсь назад. Еще рано. Лишь горы открыли наступающему дню свои снежные вершины. Полоса солнечного света медленно спускается по склонам. Но, прежде чем она коснется дремлющих в предутренней дымке строений Лхасы, город уже скроется за горизонтом.
Снова окунаюсь я в походную жизнь, от которой еще не успел отвыкнуть за недели пребывания в Лхасе. Снова тряское сиденье «газика», ночевки в спальных мешках, порядком уже надоевшие консервы. Опять лежа в палатке, буду клясть ветер за то, что он задувает свечу и не дает записать в дневник хотя бы несколько строк о впечатлениях дня. Снова перед сном буду заботливо укутывать свитером фотоаппарат, чтобы уберечь его от ночной росы… Путь лежит в скотоводческие районы Северного Тибета.
Первые десятки километров пролегают по густо населенной речной долине. Солнце золотит копны сжатого цинко. На плоских крышах домов молотят хлеб и там же складывают солому, прижимая ее сверху камнями. В такой тихий, прозрачный день только свежевыпавший снег на горах да зеленоватый оттенок бездонного неба говорят о приближении зимы.
Дорога сворачивает в скалистое ущелье. А когда крутые стены его наконец раздвигаются, впереди предстает совершенно другой мир. Заболоченная равнина убегает вдаль меж пологих моренных гряд. Иссохшая рыжая трава с темными пятнами карликового кустарника, словно леопардовая шкура, покрывает их склоны. Среди пучков тибетской осоки, устилающей долину, белеют бесчисленные, омытые дождями валуны.
Унылый пустынный край… Караваны торговцев встречаются все реже. Северный Тибет – район кочевого скотоводства – расположен на высоте от четырех до шести тысяч метров над уровнем моря. Пересекающее его Тибет-Цинхайское шоссе, по которому я еду, проходит почти по безлюдным местам. Поэтому, несмотря на более удобный рельеф трассы, используется она значительно меньше, чем дорога из Сычуани, по которой я добирался до Лхасы. И Тибет-Цинхайское, и Тибет-Сычуаньское шоссе были открыты для движения одновременно – в декабре 1954 года. Но многое еще предстоит доделать. Реки часто приходится переезжать вброд: не всюду выстроены мосты. Клубы пара окутывают наш разогревшийся «газик», когда он отважно устремляется в воду. Нередко пенистая струя врывается внутрь, и мне приходится прятать ноги на сиденье, держа в поднятых руках свою поклажу.
Все дальше на север уходит дорога. Слева показываются снеговые зубцы могучей горной цепи. Ее искрящиеся на солнце безжизненные каменистые склоны суровы и неприветливы. Это – хребет Ньенчен-Тангла, который местные жители считают обиталищем одноименного божества – своего покровителя. Свернув восточнее, параллельно хребту, вскоре подъезжаем к древнему чортену. В такой буддийской ступе, имеющей форму бутылки, тибетцы хранят религиозные реликвии.
– Отсюда начинается долина Дам, – говорят мои спутники.
Впереди, вдоль Ньенчен-Тангла, широкой лентой расстилается равнина, покрытая сочной травой. Повсюду виднеются отары овец, стелются голубые дымки стойбищ. Ветер треплет гирлянды белых молитвенных флажков, натянутых над палатками скотоводов. Возле кочевий чернеют фигуры яков. При звуках автомобильных гудков они бросаются врассыпную, смешно переваливаясь и задирая вверх пышные хвосты. В кажущейся неуклюжести их мохнатых ног есть что-то медвежье. Километрах в тридцати от начала долины взору открывается целый город пестрых шатров и палаток. Они группируются вокруг каменного строения, представляющего собой нечто среднее между буддийским монастырем и феодальной крепостью.
Мой приезд в долину Дам совпал с чиримом – ежегодной ярмаркой. Как и в других районах Китая, такие традиционные центры товарообмена возникли в Тибете на основе различных религиозных или народных празднеств. Уже вечереет, когда мы подъезжаем к чириму. Приодевшиеся по случаю праздника скотоводы шумной толпой бродят по торжищу. Приезжие торговцы скупают кули немытой овечьей шерсти, предлагая взамен кирпичный чай, металлическую утварь, деревянные чашки для цзамбы, оружие и украшения. Местные жители вынесли на продажу коровье масло, зашитое в кожаные мешки, сухой творог, брынзу, обувь из сыромятных козлиных шкур. Мужчины подолгу останавливаются возле ярких ковровых чепраков. Какой всадник не мечтает иметь такой под седлом! Но для большинства они не по карману.
На многих скотоводах вместо обычных шапок надеты связки лисьих шкурок. Понадобилось обладателю такого убора рассчитаться за покупку – шкурку можно снять и предложить в качестве денежной единицы. Еще более экзотичны наряды женщин. Волосы у них разделены на сто восемь мелких косичек. В каждую вплетено по несколько серебряных монет, а у тех, кто победнее, – блестящих раковин. Этот убор, весящий несколько килограммов, закрывает спину женщины, как кольчуга, и звенит при каждом шаге.
В облаке пыли, розовом от лучей заката, движется стадо овец. Я смотрю на всадников, которые гонят его, видимо, издалека. Свободная посадка, кинжалы у пояса, за спиной – кремневые ружья. Вид независимый и гордый. Народ здесь выглядит воинственно, каждый мужчина – стрелок и наездник.
Палатку мы разбили в стороне от чирима, на берегу ручья. Утром увидели красочную процессию. Она двигалась со стороны крепости. Впереди шествовали три цзунбэня – правители уезда Дам – в официальном одеянии тибетских сановников. На них были золотистые парчовые шляпы с коралловыми шариками наверху и длинные халаты из пурпурного атласа. На ногах красовались расшитые пестрым узором мягкие сапоги. Четверо прислужников шли, сгибаясь под тяжестью ободранных ячьих туш, а еще трое тащили круги масла. Все эти дары, сопровождаемые пышными приветствиями, были сложены у моих ног.
Из беседы с цзунбэнями я узнал, что три с лишним столетия назад, когда войска Гошри-хана отдыхали тут после походов, далай-лама пятый предложил одарить землей тех, кто захотел бы навсегда поселиться в этом краю. Долина у подножия Ньенчен-Тангла привлекла воинов своими обширными пастбищами. Поэтому назвали ее «Дам», что значит «Долина Выбора». С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать день заселения этих мест торжественными религиозными церемониями и народными празднествами. При далай-ламе тринадцатом долина Дам была включена в число владений монастыря Сера. Для управления уездом и сбора податей он присылал своих представителей – цзунбэней. Впрочем, вместо слова «подати» цзунбэни упорно говорили мне «приношения».
– Во время чирима сюда съезжается много лам из дальних монастырей, – поясняли они, сопровождая каждое слово поклонами и улыбками. – Их надо поить и кормить. Поэтому каждый скотовод привык в дни праздника делать пожертвования местному храму. Ну а если этих приношений оказывается больше, чем нужно, мы отправляем их в монастырь Сера…
Поговорить на эту тему подробнее нам не удалось. Подъехавший карьером всадник спешился у палатки. Дождавшись, когда один из цзунбэней обратил на него внимание, он с низким поклоном доложил, что к началу праздничных состязаний в скачках и стрельбе все готово. Меня пригласили в шатер, разбитый неподалеку от крепости. У входа в него курились ритуальные свечи. В центре шатра я увидел деревянное блюдо с цзамбой, украшенной фигурками из масла. Рядом стояли два кувшина – один с чаем, другой с ячменным пивом. Это были приношения богам во имя благополучия праздника.
Меня усадили на ковер рядом с цзунбэнями. Здесь, в шатре, легче было разобраться в том, как управляется цзун, – вся иерархия местной власти предстала, как на схеме. В первом ряду на кошмах сидели восемь старейшин родов в халатах из желтого шелка, с павлиньими перьями, горизонтально укрепленными на парчовых шляпах. Стоило цзунбэню обратиться к кому-нибудь из них, как тот вскакивал и, почтительно высунув язык, замирал в низком поклоне. За старейшинами родов сидели цзангю, их помощники, – в коричневых халатах, а еще дальше – чжюбэ, одетые в лиловый шелк. Как мне объяснили, данная система управления сложилась из старинной военной организации. Ранг старейшины соответствовал когда-то командиру сотни воинов – чжюбэ (десятка). Отсюда пошел и порядок наследования: место умершего старейшины рода занимает не его сын, а старший из цзангю, место цзангю – старший из чжюбэ.
Умноженный эхом, издалека докатился звук выстрела. Толпа, покрывшая пестрым ковром склон горы, дрогнула и замерла в ожидании. На противоположном краю ровного поля, расстилавшегося перед шатром, стояли мишени, по которым всадники должны были стрелять на скаку из луков и кремневых ружей. Чуть дальше проходила линия финиша конных состязаний. Первым мимо нас проскакал на белой лошади всадник в белой одежде. По старинному обычаю его появление символизировало собой пожелание удачи всем участникам состязаний. Потом в густом облаке пыли показалась конная лавина. Финишировали участники гонки на дальнюю дистанцию – мальчики десяти-пятнадцати лет, сидевшие на конях без седел.
Особенно большой успех выпал в этот день на долю четырнадцатилетнего Чжэнда. Этот щуплый на вид подросток делал на своем скакуне чудеса. Когда цзунбэнь торжественно надевал на шею Чжэнда почетный белый шарф победителя в вольтижировке, лицо мальчика сияло радостью. Но, сев на коня, он снова выглядел невозмутимым, как подобает мужчине, воину. Больно было смотреть на двоих его сверстников, сидевших в шатре. Дети старейшин родов, они уже с рождения были приписаны к монастырю. Какой завистью горели их глаза!
Началось самое трудное состязание: стрельба из лука с седла. Этот вид скачек обычно проводится в Тибете на больших праздниках. По давней традиции, все сановники должны через определенное число лет принимать в них участие. Осрамиться на подобных состязаниях – значит серьезно подорвать свой авторитет.
Здесь, в долине Дам, каждый род выставил по семь лучших наездников. Группа за группой проносились они мимо. В какие-то доли секунды всадники успевали натянуть луки и, почти не целясь, выстрелить по мишеням. Каждое попадание толпа награждала восторженными криками, каждый промах вызывал улюлюканье. Смеялись и над наездником, который вылетел из седла и был унесен с переломанной ногой.
Храпящие кони, всадники в халатах разноцветного шелка, развевающиеся перья на парчовых шлемах, расшитые узорами колчаны со стрелами, блеск серебряных украшений на сбруе – все, словно кадры исторического фильма, воскрешало XVII век, когда воины Гошри-хана впервые пришли в Долину Выбора. Среди яркого великолепия старинных боевых одежд, гиканья конников и рева возбужденной толпы я чувствовал себя как герой Марка Твена, попавший на рыцарский турнир ко двору короля Артура… Об этом думал я и потом, когда ходил по ярмарке. Среди тесного круга слушателей пели старинную песню два скотовода. Ведь именно так должны были петь их предки: став на одно колено и прижавшись головами друг к другу, чтобы лучше слышать собственный голос в вое степного ветра.
Группа бродячих актеров исполняла танец оленя. Эта пантомима основана на одной из историй о легендарном поэте Миларепа. Три женщины, отбивая такт ударами в плоские барабаны, резкими голосами тянули мелодию, под которую танцевали мужчины в причудливых масках. Здесь и охотник, и олень, и сам Миларепа, принявший образ нищего, чтобы отвлечь охотника и спасти своего лесного друга от гибели.