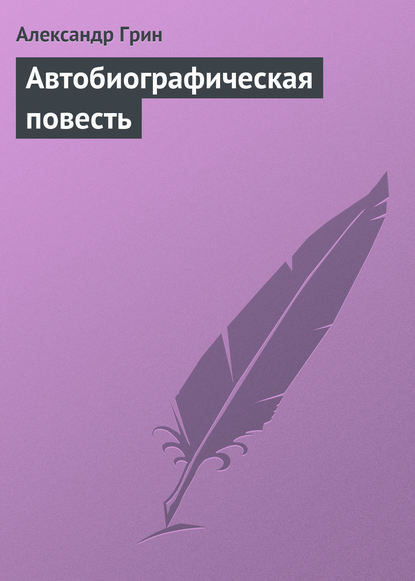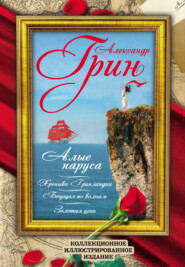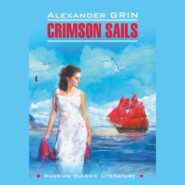По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автобиографическая повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Короче говоря, Хохлов поселил меня в бордингаузе, на полном, кроме одежды, содержании (лишь выдали башмаки), без всяких обязанностей с моей стороны, впредь до получения службы, о чем обещал хлопотать среди знакомых капитанов.
Здание береговой команды помещалось в дальнем от гавани углу огромного двора агентства, ближе к Карантинной площади. Это был одноэтажный дом из четырех больших комнат, где, как в больнице, стояли койки и столы-шканчики. Рядом с домом было здание кухни.
Когда я потом присмотрелся, то увидел, что, кроме старожила Кулиша, жильцы были не вечные: заболевшие, отставшие от рейса, вернувшиеся из побывки дома, в деревне; были и такие, кто долго плавал раньше на пароходах общества, – ждал вакансии. Всего жило здесь человек двадцать, и их места занимали новые.
Ящик, обитый цинком, полный белого хлеба, стоял у стены; каждый брал себе сколько хотел.
Мне выдали общий месячный паек: четверть фунта чаю, пять фунтов сахару и полфунта недорогого табаку.
Моя койка стояла в первой, самой большой комнате. У меня были три простыни, байковое одеяло, подушка; я застлал кровать и устроился.
Всем, кто меня расспрашивал, я рассказывал свою нехитрую повесть, которая, по-видимому, вызывала недоумение и очень мало доброжелательства. Более других я сошелся с задумчивым бородатым кочегаром; он был тих, его опухшее белое лицо заставляло подозревать болезнь. Однако он жил здесь потому, что находился под следствием. Суть его дела я знал, да забыл.
В этом доме я чувствовал себя одиноким, чужим. Кулиш называл меня не иначе, как «паныч». Иногда мне обиняком давали понять, что считают меня поселенным здесь затем, чтобы доносить в агентство о жизни призреваемых. Часто надо мной смеялись и издевались, – верно, я был, должно быть, смешон среди этой прожженной братии. Суть насмешек я вспомнить не могу, но бывал я часто разобижен до слез.
Среди матросов было несколько военных; их желто-черная лента на фуражке не нравилась мне; я признавал только черные ленты с отпечатанным золотом на их конце якорем. Эти матросы ожидали назначения на пароходы Русского общества. Они плавали за жалованье, как и частные люди, а начальство размещало их на частных судах для практики заграничного плавания. Утром мы пили чай с хлебом и куском сала; в двенадцать часов дня приносились жестяные баки с чудным борщом; только на море умеют так варить борщ. Кусок вареного мяса и жаркое – тоже мясо или баранина – заканчивали обед. По воскресеньям давалось что-нибудь третье: сырники с сахаром, компот.
Ужин состоял из остатков борща, макарон или каши.
Встав утром, я после чая отправлялся бродить по гавани, пытаясь добыть место матроса. Куда я ни заходил, везде получал отказ; наведываясь в контору к Хохлову, слышал одно: «Еще ничего нет, потерпи».
Время от времени оба бухгалтера, встречаясь со мной на дворе, вручали мне мелочь – сорок-шестьдесят копеек на табак, но я всего прокурить не мог (я курил тогда еще не затягиваясь дымом как следует), а потому тратил деньги на апельсины, орехи и изюм.
Однажды, проходя по гавани, я встретил около парохода «Мария» (Р. О. П. и Т.), делавшего крымско-кавказские рейсы, Малецкого. Он плавал на «Марии» учеником, на своих «харчах» (как-то так выходило по штату продовольствия) и, заведя меня в свое крохотное помещение – род косой каюты, где трудно было повернуться, угостил копченой воблой. На другой день, когда этот пароход уходил в рейс, я с грустью смотрел, как Малецкий, вея ленточками, суетился у сходни, таща канат. Среди оживленной, хорошо одетой толпы пассажиров он казался мне героем, но воспоминание о вобле что-то мешало мне завидовать Малецкому.
Был случай, когда я «чуть-чуть» не поступил на огромный белый керосиновоз «Блеск», отправлявшийся через Ла-Манш в Петербург. «Блеск» погиб в Ла-Манше – от шторма или пожара, не помню. Я просил, чтобы меня взяли хотя бы угольщиком, и старший механик внял слезным просьбам моим, но у меня не было разрешения от отца плыть за границу. Однако механик обещал дело устроить, и на другой день – к отплытию – я пришел с надеждой, но, увы, опоздал на час: только что взяли угольщика. Таким образом я остался в живых.
Другой случай подобен этому: в Практической гавани долго стояла замечательной красоты яхта «Вега» – большое океанское судно, с отделкой красным и ореховым деревом, с снежно-белыми джутовыми снастями. Там капитан также обещал взять меня матросом – хотя бы сначала без жалованья, но, походив на «Вегу» дня три, я узнал в конце концов, что нанят настоящий матрос. Его видел я: спокойный, скучный, серый; рабочий, но не моряк душой – не путешественник. Этому человеку завидовал я сильно и горько.
День за днем я бродил по гавани и скучал. Жара, угольная пыль, отходы и приходы судов, морская даль – все гнело меня ужасной тоской. Я избегал часто писать отцу, потому что нечего было сообщать; сочинять также не было повода. Отец прислал мне разрешение – нотариальное – на заграничное плавание, и оно без пользы лежало у Хохлова. Раза два Силантьев спросил у меня, не хочу ли я подработать – катать вагонетки с хлопком, за что платили рубль двадцать копеек в день. Но взяться за дело грузчика казалось мне концом всех мечтаний о плавании. Я отказался, говоря, что не хочу отнимать у себя времени для поисков места. Он не настаивал, а я снова начал ходить по Одессе, гавани, уже без особого пыла, как ходит уставший охотник, видя дичь, но растратив заряды.
Самыми любимыми витринами на больших улицах были для меня витрины табачные, витрины художественного магазина, где висели длинные, подвесные, для простенков акварели, изображавшие зеленоватую солнечную рябь моря, с парусами лодок вверху, и витрины китайского фарфора. Еще я охотно разглядывал выставленные в окнах сельскохозяйственного магазина модели сеялок, веялок, плугов и т. п. Но в те времена для меня зрелищем было все.
Особенности приморской жизни мне нравились. Многие из населения носили красные фески, чувяки; карманные платки были большею частью цветные, живую домашнюю птицу таскали связанной за ноги, головой вниз, но это возмущало меня. Из хлеба я отметил большие плетеные «халы», не столь, по-моему, вкусные, как пятачковые пеклеванные хлебцы. Невкусный черный хлеб пекся в длинных формах. На хлебе наклеивались печатные ярлыки с обозначением пекарни. Рыночные торговки продавали вареные кукурузные колосья, мне не любезные. Так называемая французская курительная бумажка имела вокруг обложки резиновый волосок. Бумага была очень тонка, а потому я с трудом научился свертывать папиросы. В большой моде были дешевые лакированные табакерки, черные, из папье-маше, с цветной картинкой на крышке: генерал, красавица или тройка. Празднично одетые матросы, гуляя, выпускали из-под фуражки особо уготованный парикмахером крендель волос, что называлось «Скандебобр, или Переход через Черное море». На площадках большой лестницы из двухсот десяти широких ступеней, ведущей от порта к памятнику Дюка, то есть герцога Ришелье, продавались океанские раковины, трости, резные изделия из мыльного камня, грубые картинки, папиросы и т. п. Я часто ходил на Дерибасовскую в прекрасный городской сад, в парк – за Карантином, бродил и по разным улицам, но в общем город знал плохо.
Городом для меня был порт.
Жизнь мою отравляли все увеличивавшиеся язвы ног. Ноги ныли, чесались, язвы гнили, имели вид кругло выгрызенного мяса. На втором посещении врача больницы я получил вместо йодоформа цинковую мазь, которая не пахла. Для перевязок мне приходилось тайно от сожителей бинтовать ноги в сортире, на дворе или за помостом, куда сгружался из вагонов хлопок, а мазь прятать под матрац.
В конце августа мне наконец повезло. Старший помощник «Платона», парохода Российского общества транспорта, согласился взять меня учеником за плату восемь рублей пятьдесят копеек за продовольствие.
Я распрощался с Хохловым, Силантьевым, своими сожителями, продал пару белья, купил матросскую шапку и новую ленту, гласящую на лбу «Платон», и почувствовал, что я наконец моряк. Пока «Платон» грузился, я выпросил письмом у отца десять рублей, присланных телеграфом, и заплатил восемь с полтиной.
«Платон» стоял и грузился дней восемь.
IV
Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников Херсонских мореходных классов – Врановского и Козицкого. Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые; оба поляки, гонористые и вороватые.
Врановский носил матросскую одежду, а Козицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам: носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку; при выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Безусый, розоволицый, с голубыми навыкате глазами, он принадлежал к несколько «бабьей» породе, мне неприятной. С Врановским я сошелся близко.
Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Риголетто»: «Если красавица в страсти клянется…» Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «Если красавица…». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил: как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне «технические» части судна, объяснял сущность ведения корабля по компасу.
Из остальной команды я помню двух братьев-нижегородцев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, оба валялись больные морской болезнью, но их не рассчитывали.
Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы – в насмешку, надо полагать, – советовали мне есть грязь с якоря – будто бы помогает.
Я не раз упоминал о насмешках, об издевательстве. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, – сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни – той самой, которую теперь испытывал реально. Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен.
Иногда, хлебнув чаю, я плевался: там была кем-то насыпанная соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара.
Если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика – она летела в угол: неправильно класть шапку на стол.
Я относился серьезно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно, грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей.
Подделываясь к команде, Врановский с Козицким всегда принимали сторону шутников.
Когда чистили «медяшку», то есть медные части судна: поручни, решетки люков, дверные ручки, боцман заставлял меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горела. «Костью чисти, Гриневский», – говорил боцман. «Как костью?» – глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло».
При мытье палубы, которую растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным бранчливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой.
Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили: «Гриневский, прикури от лампадки» (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).
Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, – боцман твердил: «Ты сам-то не понимаешь, что ли?»
Не прошло часа после моего появления на «Платоне», как боцман поставил меня на вахту у сходни. Нельзя придумать занятия легче для новичка, но мое самолюбие было задето – я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику.
Тогда меня после обеда посадили на подвесную к борту доску, рядом с Врановским – соскребать железным скребком старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить «медяшку», мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое «перетягиванье»: пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту мола.
По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы (мозоли). Пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был послеобеденный отдых; он продолжался с двенадцати до часу дня; этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать.
Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом – единственно хотел бы я управлять лебедкой.
День проходил знойно, шумно. В восемь часов утра баковый колокол звонил к завтраку (он продолжался полчаса), в двенадцать – к обеду, в один час – на работу. В шесть часов вечера колокол звонил – конец рабочего дня – двумя ударами.
Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить; однако не так хорошо, как другие.
Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я нe был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом. Я думал, что все знания явятся впоследствии, постепенно, сами собой.
Однажды, поздно вечером, четыре матроса отправились в город; среди них Врановский; я с ним отделился от других. Мы пошли по Дерибасовской улице; там в толпе гуляло много матросов, и я был очень доволен, что у меня на спине лежат концы лент, а лоб открыт.
В другой раз я был днем свободен (по праздникам не работали) и зашел в Публичную библиотеку. Смотрю: вошел также Козицкий. Я взял «Неистового Роланда» Ариосто; Козицкий взял что-то ученое. «Что ты читаешь?» – спросил он меня за столом. Я сказал. «Ты все глупости да сказки читаешь, – пренебрежительно заявил он. – Вот что читай, это лучше» – и он показал какое-то сочинение по политической экономии, но, важно поглядывая вокруг, отдал книгу конторщице и ушел; а я стал также зевать над Ариосто и тоже ушел.
Наконец погрузка была кончена, утром пароход заполнился толпой пассажиров, среди которых было много армян, бежавших из Турции после неистового погрома армян в Константинополе (в 1896 г.), когда турки, как говорили, вырезали не менее ста тысяч человек.
До отплытия я красовался у сходни, но никто не обращал на меня внимания.
Гудки проревели, сходни на талях лебедки были спущены, и пароход отвалил.
Здание береговой команды помещалось в дальнем от гавани углу огромного двора агентства, ближе к Карантинной площади. Это был одноэтажный дом из четырех больших комнат, где, как в больнице, стояли койки и столы-шканчики. Рядом с домом было здание кухни.
Когда я потом присмотрелся, то увидел, что, кроме старожила Кулиша, жильцы были не вечные: заболевшие, отставшие от рейса, вернувшиеся из побывки дома, в деревне; были и такие, кто долго плавал раньше на пароходах общества, – ждал вакансии. Всего жило здесь человек двадцать, и их места занимали новые.
Ящик, обитый цинком, полный белого хлеба, стоял у стены; каждый брал себе сколько хотел.
Мне выдали общий месячный паек: четверть фунта чаю, пять фунтов сахару и полфунта недорогого табаку.
Моя койка стояла в первой, самой большой комнате. У меня были три простыни, байковое одеяло, подушка; я застлал кровать и устроился.
Всем, кто меня расспрашивал, я рассказывал свою нехитрую повесть, которая, по-видимому, вызывала недоумение и очень мало доброжелательства. Более других я сошелся с задумчивым бородатым кочегаром; он был тих, его опухшее белое лицо заставляло подозревать болезнь. Однако он жил здесь потому, что находился под следствием. Суть его дела я знал, да забыл.
В этом доме я чувствовал себя одиноким, чужим. Кулиш называл меня не иначе, как «паныч». Иногда мне обиняком давали понять, что считают меня поселенным здесь затем, чтобы доносить в агентство о жизни призреваемых. Часто надо мной смеялись и издевались, – верно, я был, должно быть, смешон среди этой прожженной братии. Суть насмешек я вспомнить не могу, но бывал я часто разобижен до слез.
Среди матросов было несколько военных; их желто-черная лента на фуражке не нравилась мне; я признавал только черные ленты с отпечатанным золотом на их конце якорем. Эти матросы ожидали назначения на пароходы Русского общества. Они плавали за жалованье, как и частные люди, а начальство размещало их на частных судах для практики заграничного плавания. Утром мы пили чай с хлебом и куском сала; в двенадцать часов дня приносились жестяные баки с чудным борщом; только на море умеют так варить борщ. Кусок вареного мяса и жаркое – тоже мясо или баранина – заканчивали обед. По воскресеньям давалось что-нибудь третье: сырники с сахаром, компот.
Ужин состоял из остатков борща, макарон или каши.
Встав утром, я после чая отправлялся бродить по гавани, пытаясь добыть место матроса. Куда я ни заходил, везде получал отказ; наведываясь в контору к Хохлову, слышал одно: «Еще ничего нет, потерпи».
Время от времени оба бухгалтера, встречаясь со мной на дворе, вручали мне мелочь – сорок-шестьдесят копеек на табак, но я всего прокурить не мог (я курил тогда еще не затягиваясь дымом как следует), а потому тратил деньги на апельсины, орехи и изюм.
Однажды, проходя по гавани, я встретил около парохода «Мария» (Р. О. П. и Т.), делавшего крымско-кавказские рейсы, Малецкого. Он плавал на «Марии» учеником, на своих «харчах» (как-то так выходило по штату продовольствия) и, заведя меня в свое крохотное помещение – род косой каюты, где трудно было повернуться, угостил копченой воблой. На другой день, когда этот пароход уходил в рейс, я с грустью смотрел, как Малецкий, вея ленточками, суетился у сходни, таща канат. Среди оживленной, хорошо одетой толпы пассажиров он казался мне героем, но воспоминание о вобле что-то мешало мне завидовать Малецкому.
Был случай, когда я «чуть-чуть» не поступил на огромный белый керосиновоз «Блеск», отправлявшийся через Ла-Манш в Петербург. «Блеск» погиб в Ла-Манше – от шторма или пожара, не помню. Я просил, чтобы меня взяли хотя бы угольщиком, и старший механик внял слезным просьбам моим, но у меня не было разрешения от отца плыть за границу. Однако механик обещал дело устроить, и на другой день – к отплытию – я пришел с надеждой, но, увы, опоздал на час: только что взяли угольщика. Таким образом я остался в живых.
Другой случай подобен этому: в Практической гавани долго стояла замечательной красоты яхта «Вега» – большое океанское судно, с отделкой красным и ореховым деревом, с снежно-белыми джутовыми снастями. Там капитан также обещал взять меня матросом – хотя бы сначала без жалованья, но, походив на «Вегу» дня три, я узнал в конце концов, что нанят настоящий матрос. Его видел я: спокойный, скучный, серый; рабочий, но не моряк душой – не путешественник. Этому человеку завидовал я сильно и горько.
День за днем я бродил по гавани и скучал. Жара, угольная пыль, отходы и приходы судов, морская даль – все гнело меня ужасной тоской. Я избегал часто писать отцу, потому что нечего было сообщать; сочинять также не было повода. Отец прислал мне разрешение – нотариальное – на заграничное плавание, и оно без пользы лежало у Хохлова. Раза два Силантьев спросил у меня, не хочу ли я подработать – катать вагонетки с хлопком, за что платили рубль двадцать копеек в день. Но взяться за дело грузчика казалось мне концом всех мечтаний о плавании. Я отказался, говоря, что не хочу отнимать у себя времени для поисков места. Он не настаивал, а я снова начал ходить по Одессе, гавани, уже без особого пыла, как ходит уставший охотник, видя дичь, но растратив заряды.
Самыми любимыми витринами на больших улицах были для меня витрины табачные, витрины художественного магазина, где висели длинные, подвесные, для простенков акварели, изображавшие зеленоватую солнечную рябь моря, с парусами лодок вверху, и витрины китайского фарфора. Еще я охотно разглядывал выставленные в окнах сельскохозяйственного магазина модели сеялок, веялок, плугов и т. п. Но в те времена для меня зрелищем было все.
Особенности приморской жизни мне нравились. Многие из населения носили красные фески, чувяки; карманные платки были большею частью цветные, живую домашнюю птицу таскали связанной за ноги, головой вниз, но это возмущало меня. Из хлеба я отметил большие плетеные «халы», не столь, по-моему, вкусные, как пятачковые пеклеванные хлебцы. Невкусный черный хлеб пекся в длинных формах. На хлебе наклеивались печатные ярлыки с обозначением пекарни. Рыночные торговки продавали вареные кукурузные колосья, мне не любезные. Так называемая французская курительная бумажка имела вокруг обложки резиновый волосок. Бумага была очень тонка, а потому я с трудом научился свертывать папиросы. В большой моде были дешевые лакированные табакерки, черные, из папье-маше, с цветной картинкой на крышке: генерал, красавица или тройка. Празднично одетые матросы, гуляя, выпускали из-под фуражки особо уготованный парикмахером крендель волос, что называлось «Скандебобр, или Переход через Черное море». На площадках большой лестницы из двухсот десяти широких ступеней, ведущей от порта к памятнику Дюка, то есть герцога Ришелье, продавались океанские раковины, трости, резные изделия из мыльного камня, грубые картинки, папиросы и т. п. Я часто ходил на Дерибасовскую в прекрасный городской сад, в парк – за Карантином, бродил и по разным улицам, но в общем город знал плохо.
Городом для меня был порт.
Жизнь мою отравляли все увеличивавшиеся язвы ног. Ноги ныли, чесались, язвы гнили, имели вид кругло выгрызенного мяса. На втором посещении врача больницы я получил вместо йодоформа цинковую мазь, которая не пахла. Для перевязок мне приходилось тайно от сожителей бинтовать ноги в сортире, на дворе или за помостом, куда сгружался из вагонов хлопок, а мазь прятать под матрац.
В конце августа мне наконец повезло. Старший помощник «Платона», парохода Российского общества транспорта, согласился взять меня учеником за плату восемь рублей пятьдесят копеек за продовольствие.
Я распрощался с Хохловым, Силантьевым, своими сожителями, продал пару белья, купил матросскую шапку и новую ленту, гласящую на лбу «Платон», и почувствовал, что я наконец моряк. Пока «Платон» грузился, я выпросил письмом у отца десять рублей, присланных телеграфом, и заплатил восемь с полтиной.
«Платон» стоял и грузился дней восемь.
IV
Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников Херсонских мореходных классов – Врановского и Козицкого. Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые; оба поляки, гонористые и вороватые.
Врановский носил матросскую одежду, а Козицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам: носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку; при выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Безусый, розоволицый, с голубыми навыкате глазами, он принадлежал к несколько «бабьей» породе, мне неприятной. С Врановским я сошелся близко.
Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Риголетто»: «Если красавица в страсти клянется…» Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «Если красавица…». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил: как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне «технические» части судна, объяснял сущность ведения корабля по компасу.
Из остальной команды я помню двух братьев-нижегородцев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, оба валялись больные морской болезнью, но их не рассчитывали.
Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы – в насмешку, надо полагать, – советовали мне есть грязь с якоря – будто бы помогает.
Я не раз упоминал о насмешках, об издевательстве. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, – сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни – той самой, которую теперь испытывал реально. Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен.
Иногда, хлебнув чаю, я плевался: там была кем-то насыпанная соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара.
Если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика – она летела в угол: неправильно класть шапку на стол.
Я относился серьезно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно, грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей.
Подделываясь к команде, Врановский с Козицким всегда принимали сторону шутников.
Когда чистили «медяшку», то есть медные части судна: поручни, решетки люков, дверные ручки, боцман заставлял меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горела. «Костью чисти, Гриневский», – говорил боцман. «Как костью?» – глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло».
При мытье палубы, которую растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным бранчливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой.
Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили: «Гриневский, прикури от лампадки» (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).
Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, – боцман твердил: «Ты сам-то не понимаешь, что ли?»
Не прошло часа после моего появления на «Платоне», как боцман поставил меня на вахту у сходни. Нельзя придумать занятия легче для новичка, но мое самолюбие было задето – я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику.
Тогда меня после обеда посадили на подвесную к борту доску, рядом с Врановским – соскребать железным скребком старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить «медяшку», мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое «перетягиванье»: пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту мола.
По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы (мозоли). Пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был послеобеденный отдых; он продолжался с двенадцати до часу дня; этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать.
Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом – единственно хотел бы я управлять лебедкой.
День проходил знойно, шумно. В восемь часов утра баковый колокол звонил к завтраку (он продолжался полчаса), в двенадцать – к обеду, в один час – на работу. В шесть часов вечера колокол звонил – конец рабочего дня – двумя ударами.
Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить; однако не так хорошо, как другие.
Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я нe был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом. Я думал, что все знания явятся впоследствии, постепенно, сами собой.
Однажды, поздно вечером, четыре матроса отправились в город; среди них Врановский; я с ним отделился от других. Мы пошли по Дерибасовской улице; там в толпе гуляло много матросов, и я был очень доволен, что у меня на спине лежат концы лент, а лоб открыт.
В другой раз я был днем свободен (по праздникам не работали) и зашел в Публичную библиотеку. Смотрю: вошел также Козицкий. Я взял «Неистового Роланда» Ариосто; Козицкий взял что-то ученое. «Что ты читаешь?» – спросил он меня за столом. Я сказал. «Ты все глупости да сказки читаешь, – пренебрежительно заявил он. – Вот что читай, это лучше» – и он показал какое-то сочинение по политической экономии, но, важно поглядывая вокруг, отдал книгу конторщице и ушел; а я стал также зевать над Ариосто и тоже ушел.
Наконец погрузка была кончена, утром пароход заполнился толпой пассажиров, среди которых было много армян, бежавших из Турции после неистового погрома армян в Константинополе (в 1896 г.), когда турки, как говорили, вырезали не менее ста тысяч человек.
До отплытия я красовался у сходни, но никто не обращал на меня внимания.
Гудки проревели, сходни на талях лебедки были спущены, и пароход отвалил.