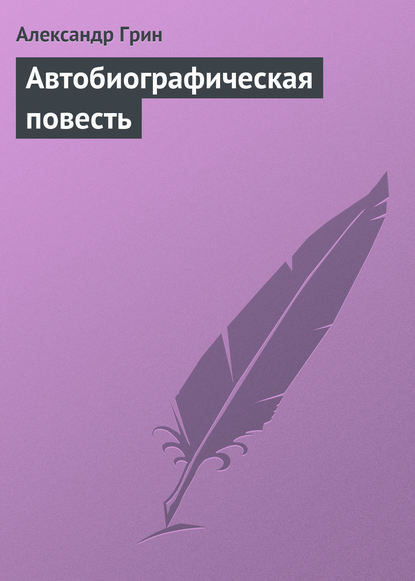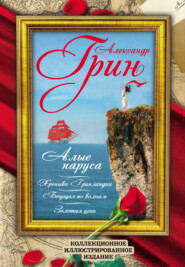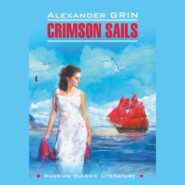По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Автобиографическая повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надо мной смеялись. «Ну, зачем тебе чашка?» – спрашивали Врановский и другие. Но я не мог объяснить им то, что плохо понимал в себе сам: жажду красивых вещей.
Еще очень нравились мне узкие ножи в ножнах, небольшие, с прямой ручкой из отшлифованного пестрого камня, вывозимые из Греции. Такой ножик я купил у Козицкого за полтора рубля, а он платил за него восемьдесят копеек.
Подступил срок отплытия, и старший помощник, накануне отхода, еще раз сказал: «Надо платить вперед или уходить». Я обещал всякую нелепицу, втайне надеясь, что обо мне забудут. Действительно, разговор не поднимался больше об уплате; забыл помощник или решил ждать – я сказать не могу; второй рейс, так или иначе, я совершил.
Рейс оказался трудным. Ранние холода этого года, резкий северный ветер и штормы, при отсутствии теплого платья, так выстудили меня, что, бывало, ночью на вахте я весь трясся, то и дело бегая в кубрик греться, хотя рисковал подвергнуться наказанию. Матросы, зная, что я не уплатил и плыву в некотором роде зайцем, пугали меня: «Гриневского ссадят в Севастополе; помощник сказал…», «Гриневского ссадят в Керчи», «Ссадят в Батуме»; «ссадят… ссадят… ссадят…» – скребло у меня на сердце весь путь до Батума, пока мы не пошли обратно.
Желая смягчить начальство (которое оставалось равнодушным), я бросался везде, где работали, где был нужен и не нужен; ворочал брашпиль, тащил канаты, «койлал» (свертывал) их на юте и баке, замерзал, нес вахты. Кто-то дал рваный овечий полушубок, скорее пиджак из одних сырых кож, скорее напоминающий собрание пластырей, чем одежду, но мне стало легче. Иногда утром (на обратном пути) скользко было ходить по обледеневшей палубе, <<приходилось>> хвататься за промерзшие снасти.
На этом обратном пути я ради какой-то надобности прицепил к шкерту дубовое ведро с медными обручами и пустил в волны; узел развязался, ведро осталось дельфинам. Тогда боцман приказал мне достать ведро, где хочу, – купить или украсть – мое дело, но иначе заберут остаток моих вещей (ведро стоило три рубля). Ведро я достал в Одессе, но об этом потом.
Самой тяжелой историей, разыгравшейся на «Платоне» в тот рейс, была история пьянства и трюмной кражи, произведенной Врановским и Козицким.
Произошло это так.
В Феодосии палуба парохода была нагружена большими бочками вина и стадом овец – штук двести. Чтобы овцы не бегали и не сбивались в кучу, между ними по палубе устроили перегородки из досок; бочки стояли вдоль бортов, а также в проходе между лебедкой кормового трюма и стеной входа в машинное отделение.
Часов около десяти вечера, при сильной качке, я, Врановский, братья-нижегородцы и еще два матроса рассматривали медную трубку, которую показал нам боцман. Известно, что в таких случаях (а что-то было уже решено без меня) люди, особенно бывалые, объясняются наподобие муравьев – более трением незримыми «усиками», чем точно сказанными словами. Особо прямого ничего сказано не было, только боцман предупредил, чтобы сделали дело осторожно; сам он пить не пошел.
Свистал адски холодный ветер, темно было, как в животе черной кошки. Вахтенный помощник ни видеть нас, ни слышать не мог.
Мы пробрались за машинное отделение. Один матрос просверлил буравом бочку, вставил в отверстие медную трубку – и дело пошло. В бочке был крепкий портвейн. Кто прикладывался сосать, тот отходил не скоро. Слезы от крепкого винного духа, тепло и головокружение напали на меня, когда я по очереди раза три приложился к этой материнской груди.
Не столько от количества выпитого вина, сколько от дыхания спиртом из бочки, мы все скоро охмелели до чрезвычайности. Сели, стали закусывать. Начались хохот, шутки и очень громкие уговаривания вести себя тише.
Вахтенным на палубе был я. Мне пришла удачная мысль доить овец – попить парного молока. Все поддержали меня. Начали ловить во тьме лохматых животных и щупать, где у них вымя. Доить решили в фуражку. Перепуганные овцы сломали перегородки и начали скакать, дико блея, по спавшим над трюмами палубным пассажирам.
С мостика раздался свисток. Я стал ввинчивать по трапу наверх и предстал перед старшим помощником, ухмыляясь вполне бессмысленно.
– Что за шум? Что такое?
– Это овцы, – сказал я, – овцы, и больше ничего.
– Гриневский, ты пьян?
– Зачем же пьян? Я не пьян.
– Ну, дохни.
Дохнул.
– Так. Кто там с тобой?
Я сказал.
– Что вы делаете?
– Да ничего. Сидели, курили.
Вахтенный помощник приказал позвать боцмана, старшего матроса и Врановского. Пришлось нам признаться, что перепились из бочки (которой жулик боцман сосредоточенно заколотил свежую рану клепкой), а на другой день в кубрике был произведен обыск – оказалось, что из нескольких ящиков в трюме, которыми ведал Врановский, пропало пять штук сукна.
Незадолго перед этим Врановский дал мне и Козицкому много дешевых конфет и папирос. Они лежали в наших ящиках. Материй не нашли, но нашли эти папиросы и конфеты – их Врановский тоже украл.
Его допросили; он признался и вернул сукно, зашитое им в свой матрац, а также спрятанное частью под кубриком, среди хлама. По отношению к пившим вино командир ограничился строгим выговором, а Врановского и Козицкого (тот тоже участвовал в похищении товара), из сожаления к ним, не предали суду, но уволили по приходе в Одессу.
– Никак не ожидал от Врановского, – слышал я разговор старшего помощника с механиком. – Хороший матрос, держал себя всегда с гонором.
Предложено было уйти и мне как не имеющему чем платить. Но я уже приготовился к этому.
Боцман со старшим матросом требовали восстановить ведро – «иначе изобьем насмерть». Что делать? К «Платону» пристал борт о борт пароход «Петр». И вот, обуреваемый смелостью отчаяния, днем, наученный так поступать тем же боцманом, я – среди толкотни публики и грузчиков – на глазах у всех, взошел на мостик «Петра», вынул из гнезда дубовое ведро с литерой «П» и вручил оное боцману. Ведро, конечно, покрасили и присвоили, но, как улик не было, напрасно матросы «Петра» попрекали нас кражей – боцман меня не выдал.
VI
Мне ничего не оставалось, как идти снова к Хохлову. Так я и сделал, и, сжалясь надо мной, бухгалтеры опять поселили меня в здании береговой команды, хотя, не стесняясь, высказывали удивление – почему мой отец не поддерживает меня, раз я уже начал плавать? Но всегда трудно правильно оценить чужие отношения. Для этого надо было знать моего отца, прошедшего юношей тяжелую школу трехлетней тюрьмы после восстания шестьдесят третьего года, его сибирскую ссылку, его манию самостоятельности сына и его идеалы «труда, пользы обществу, помощи старику отцу». Во многом отец был наивен, как и я; должно быть, он думал, что мне найти работу и работать довольно легко. Главное – малое жалованье (шестьдесят рублей), вечные долги и пятеро детей.
На этот раз я прожил в бордингаузе целый месяц и по очереди ходил сторожить на мол склады, но только ночью.
На молу было светло как днем, часто хотелось спать, однако тому мешали контрольные часы, которые надо было заводить через каждые пять минут. Ноги тяжело мучили меня – раны увеличивались, икры опухли. Не падая духом, я по-прежнему обходил, день за днем, гавань, пытаясь найти место матроса или кочегара.
В бордингаузе жил тогда временно кочегар Иванов. Это был тихий молодой человек с чистым белым лицом и близоруко щурящимися глазами, русый; причесывался он гладко назад, к затылку; одевался в синее, как вообще кочегары: глухой синий пиджак (китель) из синей дабы и такие же брюки.
Ему пришлось быть послушником на старом Афоне; к монастырю его вообще тянуло. Я с ним сошелся; он и Василий Иванович были единственные, кто меня не травил.
К тому времени мои отношения с Кулишом, всегда подзадоривавшим и дразнившим меня, стали враждебными. Без пикировки не обходилось ни одного дня. Он звал меня «паныч» – в насмешку, конечно; твердил при других, что Хохлов – мой «дядька», то есть дядя, создавая тем ложное положение. Он твердил, что отец от меня отказался, что я «малахольный» (то есть «меланхолик» – ненормальный), «псих», что я «лодырь» и т. п. Вспылив, я бранил его самыми непотребными словами.
Этот Кулиш несколько лет назад был до полусмерти избит командой своего парохода за то, что утаил пять тысяч рублей золотом, украденных сообща из почтовой каюты. Грудь его была разбита, ребра сломаны – оттого-то он держался неестественно прямо. Не знаю, чем он обошел следствие по тому делу, но его не трогали, а он даже считался у нас «старшим» и получал пенсию. Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные Кулишом пять тысяч рублей, но мало кто верил такому слуху. Эта темная история была мне неинтересна.
Многого не помню, приведу лишь пример пикировки (скорее перебранки):
– Ты что, скаженный (проклятый), опять мою ложку взял?
– Та они же одинаковы.
– Одинаковы… одинаковы! Мать твоя одинакова.
– Заткни фонтан, огибалка, босяк!
– Ах ты… в гроб печенку… (и так далее, по всем частям организма, включая религиозные и моральные категории). Кнек проклятый («кнек» – чугунный постав, вокруг которого обматывают канат). Кнек! Кранец! Банберка (большой поплавок).
– Матрос с погоревшего корабля!
– Малахольный!
– Тебе гальюны (сортиры) чистить, а не борщ жрать!
– Ты голодный, на тебе кусок, подавись.
– Одинаковы!.. Та у моей ложки конец зарублен, на вот, чи бачишь?