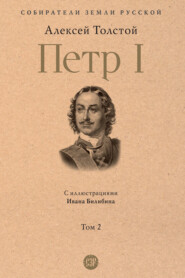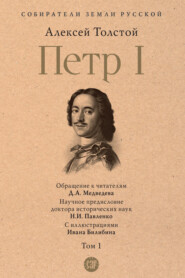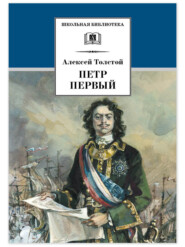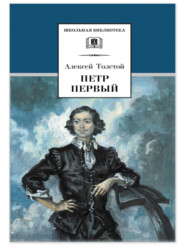По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год
Алексей Николаевич Толстой
Хождение по мукам #2
«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир.
Выдающееся произведение А.Н.Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.
В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого.
1
Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор – обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.
Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы… Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись: там – кусочек сыру, там – засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули – на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.
Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.
Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как хочется – отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, – заламывая пальцы, повторяли:
– Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему… Смерть!..
Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на серый фасад, – стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом – кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь… Это – высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма!
Настает ночь. Черно – ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах – свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пу-у-усту». И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады… В подвалах, в вине из разбитых бочек, захлебнулись люди… Черт с ними, пусть горят заживо!
О, русские люди, русские люди!
Русские люди, эшелон за эшелоном, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса… К земле, к бабам… В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку, – все пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег – этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки.
Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай паровоз!.. Жить тебе надоело, такой-сякой, матерний сын? Отправляй эшелон!..» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!»
Три года тому назад много не спрашивали – с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ понял: время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке – винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды.
За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной пулемет, – лежи в дерьме, во вшах, покуда жив. Потом – содрогнулись, помутилось в головах – революция… Опомнились, – а мы-то что же? Опять нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными… Повоевали, – повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо – штык. Теперь – ни царя, ни бога. Одни мы. Домой, землю делить!
Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, – это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, Октябрьская…
Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, – излучал в это время радиоволнами Царскосельской станции бешеные взрывы идей.
– Товарищи, – застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед, – товарищи дезертиры, вы повернулись спиной к гадам-имперьялистам… Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно, товарищи… Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой имперьялистическую войну!
– Лой… лой… лой… – лениво прокатилось по кучке бородатых солдат.
Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду царя и – под мордой его куцей лошади – оратора в распахнутом пальтишке.
– Товарищи… Но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности… С четырех концов света поднимается на нас враг… В его хищных руках – горы золота и страшное истребительное оружие… Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови… Но мы не дрогнем… Наше оружие – пламенная вера в мировую социальную революцию… Она будет, она близко…
Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды:
– …Да ведь поймите же вы… через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло – деньги… Ни голода, ни нужды, ни унижения… Бери, что тебе нужно, из общественной кладовой… Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники…
Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся – и не мог остановиться: разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, – кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко:
– Рублев, здорово.
Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.
– Ну? Что надо?
– Да рад, что встретил…
– Эти черти, дуболомы, – сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами, бородатые фронтовики, – разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки… Тут нужно – террор…
Застуженная рука его схватила снежный ветер… И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся…
– Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. – Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. – Объясните мне, ради бога… Ведь мы в петлю лезем… Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде… Понимаете, – я никогда не интересовался политикой…
– Это как так, – не интересовался? – Рублев весь взъерошился, угловато повернулся к нему. – А чем же ты интересовался? Теперь – кто не интересуется – знаешь кто? – Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. – Нейтральный… враг народа…
– Вот именно, и хочу с тобой поговорить… А ты говори по-человечески.
Иван Ильич тоже взъерошился от злости, Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри.
– Чудак ты, товарищ Телегин… Ну, некогда же мне с тобой разговаривать, – можешь ты это понять?..
– Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии… Ты слышал: Корнилов Дон поднимает?
– Слыхали.
– Либо я на Дон уйду… Либо с вами…
– Это как же так: либо?
– А вот так – во что поверю… Ты за революцию, я за Россию… А может, и я – за революцию. Я, знаешь, боевой офицер…
Гнев погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная усталость.
– Ладно, – сказал он, – приходи завтра в Смольный, спросишь меня… Россия… – Он покачал головой, усмехаясь. – До того остервенеешь на эту твою Россию… Кровью глаза зальет… А между прочим, за нее помрем все… Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертиров третью неделю валяются по полу… Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть… Скажи: Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны… (Глаза его снова высохли.) Скажи им: а будете на печке пузо чесать – пропадете, как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту… Продолби им башку этим словом!.. И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, – одна только советская власть… Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции…
По обмерзлой лестнице, в темноте, Телегин поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь. Постучал три раза, и еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены:
– Кто?
– Я, я, Даша.
За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: «Ах, боже мой, боже мой». Наконец открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села.
Телегин тщательно запер двери на все крючки и задвижки. Снял калоши. Пощупал, – вот черт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша.
Алексей Николаевич Толстой
Хождение по мукам #2
«Хождение по мукам» – уникальная по яркости и масштабу повествования трилогия, на страницах которой перед читателем предстает картина событий, потрясших весь мир.
Выдающееся произведение А.Н.Толстого показывает Россию в один из самых ярких, сложных и противоречивых периодов ее истории – в тревожное предреволюционное время, в суровые годы революционных потрясений и Гражданской войны.
В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого.
1
Все было кончено. По опустевшим улицам притихшего Петербурга морозный ветер гнал бумажный мусор – обрывки военных приказов, театральных афиш, воззваний к «совести и патриотизму» русского народа. Пестрые лоскуты бумаги, с присохшим на них клейстером, зловеще шурша, ползли вместе со снежными змеями поземки.
Это было все, что осталось от еще недавно шумной и пьяной сутолоки столицы. Ушли праздные толпы с площадей и улиц. Опустел Зимний дворец, пробитый сквозь крышу снарядом с «Авроры». Бежали в неизвестность члены Временного правительства, влиятельные банкиры, знаменитые генералы… Исчезли с ободранных и грязных улиц блестящие экипажи, нарядные женщины, офицеры, чиновники, общественные деятели со взбудораженными мыслями. Все чаще по ночам стучал молоток, заколачивая досками двери магазинов. Кое-где на витринах еще виднелись: там – кусочек сыру, там – засохший пирожок. Но это лишь увеличивало тоску по исчезнувшей жизни. Испуганный прохожий жался к стене, косясь на патрули – на кучи решительных людей, идущих с красной звездой на шапке и с винтовкой, дулом вниз, через плечо.
Северный ветер дышал стужей в темные окна домов, залетал в опустевшие подъезды, выдувая призраки минувшей роскоши. Страшен был Петербург в конце семнадцатого года.
Страшно, непонятно, непостигаемо. Все кончилось. Все было отменено. Улицу, выметенную поземкой, перебегал человек в изодранной шляпе, с ведерком и кистью. Он лепил новые и новые листочки декретов, и они ложились белыми заплатками на вековые цоколи домов. Чины, отличия, пенсии, офицерские погоны, буква ять, бог, собственность и само право жить как хочется – отменялось. Отменено! Из-под шляпы свирепо поглядывал наклейщик афиш туда, где за зеркальными окнами еще бродили по холодным покоям обитатели в валенках, в шубах, – заламывая пальцы, повторяли:
– Что же это? Что будет? Гибель России, конец всему… Смерть!..
Подходя к окнам, видели: наискосок, у особняка, где жило его высокопревосходительство и где, бывало, городовой вытягивался, косясь на серый фасад, – стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом – кумачовый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство, с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют! Куда в такую стужу? А куда хочешь… Это – высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма!
Настает ночь. Черно – ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, Смольный залит светом, и в фабричных районах – свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах: «Быть нам пу-у-усту». И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет, зачем, в кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады… В подвалах, в вине из разбитых бочек, захлебнулись люди… Черт с ними, пусть горят заживо!
О, русские люди, русские люди!
Русские люди, эшелон за эшелоном, валили миллионными толпами с фронта домой, в деревни, в степи, в болота, в леса… К земле, к бабам… В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь, так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах. Замерзали, гибли под колесами, проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку, – все пригодится в хозяйстве: и пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон и кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег – этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки.
Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай паровоз!.. Жить тебе надоело, такой-сякой, матерний сын? Отправляй эшелон!..» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы, руби двери, окна!»
Три года тому назад много не спрашивали – с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась: мобилизация, война! Народ понял: время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье. В руке – винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды.
За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет и за спиной пулемет, – лежи в дерьме, во вшах, покуда жив. Потом – содрогнулись, помутилось в головах – революция… Опомнились, – а мы-то что же? Опять нас обманывают? Послушали агитаторов: значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными… Повоевали, – повертывай домой на расправу. Теперь знаем, в чье пузо – штык. Теперь – ни царя, ни бога. Одни мы. Домой, землю делить!
Как плугом прошлись фронтовые эшелоны по российским равнинам, оставляя позади развороченные вокзалы, разбитые железнодорожные составы, ободранные города. По селам и хуторам заскрипело, залязгало, – это напильничками отпиливали обрезы. Русские люди серьезно садились на землю. А по избам, как в старые-старые времена, светилась лучина, и бабы натягивали основы на прабабкины ткацкие станки. Время, казалось, покатилось назад, в отжитые века. Это было в зиму, когда начиналась вторая революция, Октябрьская…
Голодный, расхищаемый деревнями, насквозь прохваченный полярным ветром Петербург, окруженный неприятельским фронтом, сотрясаемый заговорами, город без угля и хлеба, с погасшими трубами заводов, город, как обнаженный мозг человеческий, – излучал в это время радиоволнами Царскосельской станции бешеные взрывы идей.
– Товарищи, – застужая глотку, кричал с гранитного цоколя худой малый в финской шапочке задом наперед, – товарищи дезертиры, вы повернулись спиной к гадам-имперьялистам… Мы, питерские рабочие, говорим вам: правильно, товарищи… Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии. Долой имперьялистическую войну!
– Лой… лой… лой… – лениво прокатилось по кучке бородатых солдат.
Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру III. Заносило снегом черную громаду царя и – под мордой его куцей лошади – оратора в распахнутом пальтишке.
– Товарищи… Но мы не должны бросать винтовку! Революция в опасности… С четырех концов света поднимается на нас враг… В его хищных руках – горы золота и страшное истребительное оружие… Он уже дрожит от радости, видя нас захлебнувшимися в крови… Но мы не дрогнем… Наше оружие – пламенная вера в мировую социальную революцию… Она будет, она близко…
Конец фразы отнес ветер. Здесь же, у памятника, остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами. Но вдруг какая-то фраза привлекла его внимание, даже не фраза, а исступленная вера, с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды:
– …Да ведь поймите же вы… через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло – деньги… Ни голода, ни нужды, ни унижения… Бери, что тебе нужно, из общественной кладовой… Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники…
Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору. Сгибаясь со злой досадой, он закашлялся – и не мог остановиться: разрывало легкие. Солдаты постояли, качнули высокими шапками и пошли, – кто на вокзалы, кто через город за реку. Оратор полез с цоколя, скользя ногтями по мерзлому граниту. Человек с поднятым воротником окликнул его негромко:
– Рублев, здорово.
Василий Рублев, все еще кашляя, застегивал пальтишко. Не подавая руки, глядел недобро на Ивана Ильича Телегина.
– Ну? Что надо?
– Да рад, что встретил…
– Эти черти, дуболомы, – сказал Рублев, глядя на неясные за снегопадом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же, заеденные вшами, бородатые фронтовики, – разве их прошибешь? Бегут с фронта, как тараканы. Недоумки… Тут нужно – террор…
Застуженная рука его схватила снежный ветер… И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла, Рублев студено передернулся…
– Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. – Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. – Объясните мне, ради бога… Ведь мы в петлю лезем… Немцы, захотят, через неделю будут в Петрограде… Понимаете, – я никогда не интересовался политикой…
– Это как так, – не интересовался? – Рублев весь взъерошился, угловато повернулся к нему. – А чем же ты интересовался? Теперь – кто не интересуется – знаешь кто? – Он бешено взглянул в глаза Ивану Ильичу. – Нейтральный… враг народа…
– Вот именно, и хочу с тобой поговорить… А ты говори по-человечески.
Иван Ильич тоже взъерошился от злости, Рублев глубоко втянул воздух сквозь ноздри.
– Чудак ты, товарищ Телегин… Ну, некогда же мне с тобой разговаривать, – можешь ты это понять?..
– Слушай, Рублев, я сейчас вот в каком состоянии… Ты слышал: Корнилов Дон поднимает?
– Слыхали.
– Либо я на Дон уйду… Либо с вами…
– Это как же так: либо?
– А вот так – во что поверю… Ты за революцию, я за Россию… А может, и я – за революцию. Я, знаешь, боевой офицер…
Гнев погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная усталость.
– Ладно, – сказал он, – приходи завтра в Смольный, спросишь меня… Россия… – Он покачал головой, усмехаясь. – До того остервенеешь на эту твою Россию… Кровью глаза зальет… А между прочим, за нее помрем все… Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертиров третью неделю валяются по полу… Промитингуй с ними, проагитируй за советскую власть… Скажи: Петрограду хлеб нужен, нам бойцы нужны… (Глаза его снова высохли.) Скажи им: а будете на печке пузо чесать – пропадете, как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту… Продолби им башку этим словом!.. И никто сейчас не спасет России, не спасет революции, – одна только советская власть… Понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции…
По обмерзлой лестнице, в темноте, Телегин поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь. Постучал три раза, и еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены:
– Кто?
– Я, я, Даша.
За дверью вздохнули. Загремела цепочка. Долго не поддавался дверной крюк. Слышно было, как Даша прошептала: «Ах, боже мой, боже мой». Наконец открыла и сейчас же в темноте ушла по коридору и где-то села.
Телегин тщательно запер двери на все крючки и задвижки. Снял калоши. Пощупал, – вот черт, спичек нет. Не раздеваясь, в шапке, протянув перед собой руки, пошел туда же, куда ушла Даша.