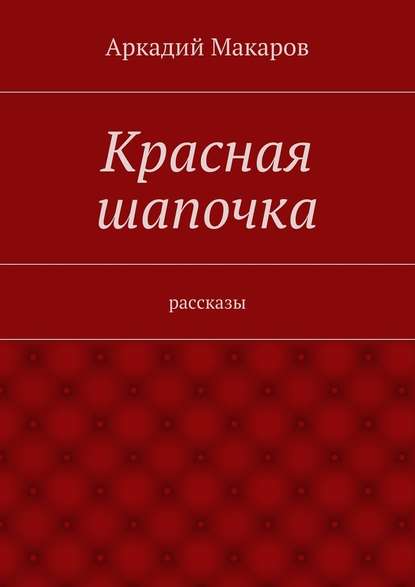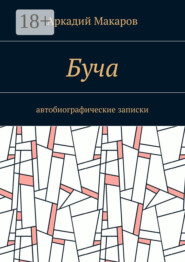По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Красная шапочка. рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Красная шапочка. рассказы
Аркадий Макаров
Книга рассчитана на взрослого читателя. В тексте встречаются озорные сюжеты молодости автора. Эта проза относится к разряду хоть и не «соц», но реализма. Вперёд, читатель!
Красная шапочка
рассказы
Аркадий Макаров
© Аркадий Макаров, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Красный сок смородины
Хорош город Тамбов! Хорош. Лучше не бывает. Дымы фабричные рукавом по небу. Улицы мощеные. Дома со ставнями. Не как у нас в селе, где все нараспашку – гуляй ветер…
Иду я себе, посвистывая, на вокзал к автобусу, чтобы снова вернуться в Бондари – скоро в школу.
Хорош город Тамбов, а Бондари лучше: пыль на дорогах помягче, да и люди все свои – здравствуй, дядя Федя! Здравствуй, дядя Ваня! Здравствуй, тетя Клаша!..
Тапочки, подаренные дядей, я снял и сунул их в сумку с бабушкиными гостинцами. «На тебе на мороженое!» – дядя, похохатывая, но после болезни как-то реже и глуше, положил мне в руку бумажку. Теперь денег на дорогу у меня – ого-го! сколько. Сразу не потратишь.
Взяв с первого же лотка в поджаренном, как хлебная корочка, стаканчике мороженое, я, поглядывая по сторонам, важничал, на ходу слизывал языком сладкую снежную пену, надкусывал краешек хлебного стаканчика и похрустывал, похрустывал, изнемогая от необыкновенного вкуса.
К этому времени я уже достаточно изучил город, где меня часто посылали одного за солью, хлебом или еще за чем. Однажды дядя мне даже доверил принести трехлитровую банку пива, которую я, правда, донести не сумел. При попытке узнать, что это такое – пиво, банка выскользнула у меня из рук и, до крови размозжив большой палец ноги, разбилась вдребезги.
Для доказательства своей невиновности я бережно собрал осколки, все до единого, сложил их в сетку-авоську и, прихрамывая, притащился домой. Дядя оценил обстановку сразу же. Улыбка недоумения быстро сошла с его губ.
Зажав мой воротник в горсти, он поволок меня за сортир. Все, будет бить – подумалось тогда еще мне. Но дядя, повозившись в брюках, вытащил наружу свое внушительного размера мужское приспособление для деланъя детей и стал поливать мою сочащуюся кровью ступню. Ступню страшно щипало, я дергался, но из дядиных рук вырваться было бесполезно.
К моему удивлению, после этой экзекуции цыпки перестали чесаться, а кровь из пальца ноги остановилась. Дядин инструмент снова нырнул в брюки, и он, шлепнув меня легонько по затылку, отправился к бабушке просить денег, хотя бы на кружку пива.
Город я уже знал хорошо и, проглотив мороженое, снова выискивал глазами лоток, где можно без хлопот купить столь удивительное по вкусу лакомство. Но рядом лотка не было, и я завернул к вокзалу. Он располагался тогда на месте нынешней филармонии, вернее, филармония была построена как раз на фундаменте того здания, в котором располагались автовокзал и прилегающие к нему гараж и мастерские.
Хорош город Тамбов! Хорош! Но меня почему-то при виде вокзала сразу потянуло домой, да так, что я, забыв про мороженое, кинулся со всех ног в билетную кассу. У кассы была длинная очередь, а стоять в очереди мне в этот раз почему-то не хотелось. Ведь не хлеб же давали, а маленький кусочек бумаги, а домой очень хотелось.
Медленно, но верно я протискивался бочком-бочком к самой кассе – такому маленькому, полукружьем зарешетчатому окошку. Вот только стоит протянуть руку с моими рублями… Окошечко загораживала широкая спина какого-то дяди. Я – туда, сюда! Нет! Не дотянуться.
– Ах ты паскудник! Щипачонок гребаный! По карманам шнырять! – дядька, обернувшись, выхватил у меня деньги.
– Ай, – коротко всхлипнула какая-то тетя и стала бить себя руками по животу и карманам плюшевого жакета, словно курица-чернушка крыльями. – Вот они, деньги-то! Ишь, гаденыш! Так смотрю-смотрю, он чево-то притирается-притирается. Цыганок приблудный, – тетка быстрым движением руки вырвала у нерасторопного мужика выданные бабушкой мои на дорогу деньги и быстро засунула их за пазуху. – В милицию его, щенка цыганского!
Моя смуглая загорелая внешность с черными, начинающими виться и лохматиться волосами, босые ноги обманывали очередь. Правда, «Цыганок» – это была моя всегдашняя деревенская кличка.
– Вот до чего, твари, обнаглели! Середь бела дня и – по карманам, по карманам.
– Зарежет, сучонок! У нас в деревне был такой случай…
Но говорившего, какой кровавый и жуткий случай был у них в деревне, перебили.
– Вот только что милиционер был. Куда он подевался? Всегда так – чуть что, а милиции нет!
Очередь стала сразу оглядываться и шарить вокруг себя глазами. Действительно, куда милиция подевалась? Я бы ей все объяснил…
– Какая там милиция! Еще в свидетели запишут, – мужик одной рукой схватил меня за шиворот, а другой за пояс штанишек, да так, что жесткий рубец крепчайшей хлопчатой ткани врезался мне в промежность так больно, что ноги сами собой оторвались от пола, и я повис в воздухе. Мужик, немного качнув меня, выкинул в открытую дверь, и я пропахал несколько метров на животе по еще влажному со вчерашнего дня песочку. Рядом возводилась какая-то пристройка, и кругом был рассыпан песок, что немного смягчило удар о землю. И я заплакал. Нет, не от боли в мошонке, которую защемил рубец грубой ткани штанов, не от боли в груди, которой я ударился, – мне стало страшно. Страшно и обидно. Я здесь совсем чужой. Меня приняли за шпану, за карманника, за безродного цыганенка, за попрошайку. А я ведь собирался ехать к себе домой, к родителям, в Бондари… А меня вот так, с налету.
Я поднялся и, не стряхивая налипший песок, спрятался за соседние кусты, выглядывая, пока пройдет вся очередь.
Люди разошлись, помещение кассы опустело и, я, имея еще в запасе не проеденные на мороженое деньги, подался к окошечку и, оглядываясь, как бы кто-нибудь меня снова не принял за вора, тихо попросил билет до Бондарей.
Все-таки успел взять, заветная бумажка оказалась у меня в руках, и я пошел искать свой автобус.
Он уже стоял, недовольно фыркая двигателем, вот-вот готовый сорваться в путь-дорогу. Правда, дверь была еще открыта, и я нырнул в пахучую бензиновую утробу. Резкий запах табака, смешанный с бензиновым ароматом, будил какие-то до сих пор не известные мне чувства, далекие и радостные – дух странствий.
Позже, много позже, вспоминая этот эпизод моей жизни, написались такие строчки: «Вечерами сентябрь соломенный, и закаты плывут вразброс… О, автобусы, межрайонные! Как печален ваш бывший лоск. У дорог, знать, крутые горки, У шоферов крутые плечи… Пахнут шины далеким городом и асфальтом, и близкой встречей». А боль и та недобрая очередь почему-то забылись сразу же, как только я сел на черный дерматин мягкого сидения.
Впервые я оказался в городе с моим родителем, суровым и скорым на руку, как все мужики того времени: у кого руки-ноги нет, у кого темя, как у младенца, не зажитым родничком дышит, у кого – еще что.
У моего отца был выбит левый глаз. Как это произошло, я не знаю. Родитель не очень-то распространялся на этот счет, да и вообще о войне вспоминать не любил, только когда при случае выпьет, обхватит руками голову и тяжелым грудным голосом поет одну и ту же песню, как «В его зачесе гроздь рябины тупая пуля разлила…»
Мать тогда валила его на лавку, накрывала старой ватиной, и долго еще под ватиной слышались горькие слова песни, перемежающиеся матом, таким же горьким и глухим.
Вообще, отец, когда был под хмелъком, то заметно добрел и был по-своему нежен. В трезвом виде его не тронь, а по пьяному делу из него можно было веревки вить, что мы с матерью и делали.
В один из таких моментов, собираясь проведать свою родню, отец решил прихватить и меня – «Чтоб бабку, подлец, не забывал!» – с собой в город.
И вот мы идем с вокзала, который, к моему удивлению и разочарованию, оказался совсем без колес, а просто белый кирпичный сарай, набитый людьми, мешками, баулами и табачным дымом. Отец в буфете немного накинул за воротник, и я бежал теперь за ним, на ходу глотая закуску, которая ему полагалась после водки – сочащийся жиром блинчик, свернутый трубочкой и проложенный промасленной бумагой. Блинчик был таким, что я еще долго потом вспоминал его вкус, мясной и луковый запах, исходящий от него.
Город тогда мне показался настолько огромным и запутанным, что я боялся, как бы отец не заблудился в этих мощеных и немощеных улицах и дорогах, а то где же мы заночуем тогда?
На этот раз я приехал в Тамбов уже лет через шесть-семь с заветным адреском а кармане, уже один, уже большой, уже умеющий читать названия улиц, и заблудиться, ну, никак не должен.
Стояло тяжелое время, и меня надо было в летние каникулы как-нибудь подкормить, поправить после долгой голодной зимы.
Бегство в город было единственным спасением от раскулачивания семьи моего отца, и теперь в Тамбове жила его мать, моя бабушка, с сыном и дочерью, моими дядей и тетей. Дед умер рано, и я его совсем не помнил, говорят, мужик был хозяйственный и умный, который не вынес нищенского существования без привычных ему крестьянских забот. В Тамбове они купили маленький домик на Ленинградской улице, в тупичке зеленом и мирном. Не то, чтобы они бедствовали, но жили тихо и небогато на некоторые сбережения после продажи хозяйства и на дядину зарплату, небольшую, но стабильную. Тетина зарплата в счет не шла, так – на шило, на мыло, на женские безделушки. Да, кажется, тетя в то время уже вышла замуж и жила отдельным хозяйством, но под одной крышей, и бабушке приходилось еще выкраивать и на молодую семью…
Детская память настолько цепкая, что я шел по тому старому маршруту от самого вокзала и сразу же нашел дом моих желанных родственников. Возле дома стояла водопроводная колонка, и я, плеснув несколько раз в лицо водой, вытерся рубахой и тихо постучал в дверь.
– Ах, мой касатик! Ах, моя ласточка! – бабушка Фекла все гладила и гладила меня по голове и все подсовывала булку, густо намазанную вареньем, пока я, захлебываясь, пил сладкий «в накладку» чай.
Дядя сидел в это время напротив меня в своей вечной зеленой гимнастерке, он после войны остался служить в местном гарнизоне на какой-то незначительной должности, и все похохатывал и похохатывал, безобидно подначивая моей деревенской конфузливости и неумению прихлебывать чай из блюдца. А на столе важным генералом, сверкая орденами, пузатился и фыркал ведерный самовар. Очень уж любили мои родственники пить чай непременно из самовара, заваривая крутым кипятком черный прессованный брикет. Чай получался душистым, тёмно-красного цвета и кисловатый на вкус. Такой чай я больше уже никогда не пил. Перестала наша пищевая промышленность делать фруктовый чай, или разучилась.
Дядя, контуженный на войне, но еще крепкий молодой мужик веселого нрава любил со мной по-товарищески поозорничать и подшутить, да и я его не раз разыгрывал, делая всякие, как теперь говорят, приколы. За один такой прикол, хотя дядя за него со мной вполне рассчитался, мне до сих пор смешно и стыдно. Переиграл я все-таки мужика своей ребячьей хитростью.
За утренним чаем я поспорил с ним, что вот этим чапельником с обожженной и засаленной ручкой я его свяжу, да так, что он не сумеет шевельнуть ни рукой, ни ногой. Дядя, похохатывая, принял мое условие, сказав, что если ему не придется освободиться, то он мне с первой же получки купит ботинки, а то нехорошо по городским булыжникам шлепать босыми ногами. Летней обуви у нас в деревне тогда не водилось, и я, конечно, прибыл из Бондарей, обутый в собственную кожу, прочней которой на свете не существует, а то, что она кое-где полопалась и в запущенных цыпках, то это не в счет.
Связать палкой человека – проще простого. Дяде и в голову не пришло, как это можно сделать. А делается это очень даже просто: надо положить человека спиной на пол, просунуть сложенные крест-накрест руки ладонями к груди в расстегнутую на две-три пуговицы рубашку, затем поднять согнутые ноги к локтям и под колени и локти просунуть подходящую палку метр-полтора длиной – и все, никакими усилиями человек сам уже не сможет освободиться, если только не порвет рубаху, что сделать в таком положении почти невозможно. Попробуйте это сделать со своим приятелем, и вы убедитесь в безотказности приема. Мы, мальчишки, не раз проделывали это друг с другом.
Аркадий Макаров
Книга рассчитана на взрослого читателя. В тексте встречаются озорные сюжеты молодости автора. Эта проза относится к разряду хоть и не «соц», но реализма. Вперёд, читатель!
Красная шапочка
рассказы
Аркадий Макаров
© Аркадий Макаров, 2016
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Красный сок смородины
Хорош город Тамбов! Хорош. Лучше не бывает. Дымы фабричные рукавом по небу. Улицы мощеные. Дома со ставнями. Не как у нас в селе, где все нараспашку – гуляй ветер…
Иду я себе, посвистывая, на вокзал к автобусу, чтобы снова вернуться в Бондари – скоро в школу.
Хорош город Тамбов, а Бондари лучше: пыль на дорогах помягче, да и люди все свои – здравствуй, дядя Федя! Здравствуй, дядя Ваня! Здравствуй, тетя Клаша!..
Тапочки, подаренные дядей, я снял и сунул их в сумку с бабушкиными гостинцами. «На тебе на мороженое!» – дядя, похохатывая, но после болезни как-то реже и глуше, положил мне в руку бумажку. Теперь денег на дорогу у меня – ого-го! сколько. Сразу не потратишь.
Взяв с первого же лотка в поджаренном, как хлебная корочка, стаканчике мороженое, я, поглядывая по сторонам, важничал, на ходу слизывал языком сладкую снежную пену, надкусывал краешек хлебного стаканчика и похрустывал, похрустывал, изнемогая от необыкновенного вкуса.
К этому времени я уже достаточно изучил город, где меня часто посылали одного за солью, хлебом или еще за чем. Однажды дядя мне даже доверил принести трехлитровую банку пива, которую я, правда, донести не сумел. При попытке узнать, что это такое – пиво, банка выскользнула у меня из рук и, до крови размозжив большой палец ноги, разбилась вдребезги.
Для доказательства своей невиновности я бережно собрал осколки, все до единого, сложил их в сетку-авоську и, прихрамывая, притащился домой. Дядя оценил обстановку сразу же. Улыбка недоумения быстро сошла с его губ.
Зажав мой воротник в горсти, он поволок меня за сортир. Все, будет бить – подумалось тогда еще мне. Но дядя, повозившись в брюках, вытащил наружу свое внушительного размера мужское приспособление для деланъя детей и стал поливать мою сочащуюся кровью ступню. Ступню страшно щипало, я дергался, но из дядиных рук вырваться было бесполезно.
К моему удивлению, после этой экзекуции цыпки перестали чесаться, а кровь из пальца ноги остановилась. Дядин инструмент снова нырнул в брюки, и он, шлепнув меня легонько по затылку, отправился к бабушке просить денег, хотя бы на кружку пива.
Город я уже знал хорошо и, проглотив мороженое, снова выискивал глазами лоток, где можно без хлопот купить столь удивительное по вкусу лакомство. Но рядом лотка не было, и я завернул к вокзалу. Он располагался тогда на месте нынешней филармонии, вернее, филармония была построена как раз на фундаменте того здания, в котором располагались автовокзал и прилегающие к нему гараж и мастерские.
Хорош город Тамбов! Хорош! Но меня почему-то при виде вокзала сразу потянуло домой, да так, что я, забыв про мороженое, кинулся со всех ног в билетную кассу. У кассы была длинная очередь, а стоять в очереди мне в этот раз почему-то не хотелось. Ведь не хлеб же давали, а маленький кусочек бумаги, а домой очень хотелось.
Медленно, но верно я протискивался бочком-бочком к самой кассе – такому маленькому, полукружьем зарешетчатому окошку. Вот только стоит протянуть руку с моими рублями… Окошечко загораживала широкая спина какого-то дяди. Я – туда, сюда! Нет! Не дотянуться.
– Ах ты паскудник! Щипачонок гребаный! По карманам шнырять! – дядька, обернувшись, выхватил у меня деньги.
– Ай, – коротко всхлипнула какая-то тетя и стала бить себя руками по животу и карманам плюшевого жакета, словно курица-чернушка крыльями. – Вот они, деньги-то! Ишь, гаденыш! Так смотрю-смотрю, он чево-то притирается-притирается. Цыганок приблудный, – тетка быстрым движением руки вырвала у нерасторопного мужика выданные бабушкой мои на дорогу деньги и быстро засунула их за пазуху. – В милицию его, щенка цыганского!
Моя смуглая загорелая внешность с черными, начинающими виться и лохматиться волосами, босые ноги обманывали очередь. Правда, «Цыганок» – это была моя всегдашняя деревенская кличка.
– Вот до чего, твари, обнаглели! Середь бела дня и – по карманам, по карманам.
– Зарежет, сучонок! У нас в деревне был такой случай…
Но говорившего, какой кровавый и жуткий случай был у них в деревне, перебили.
– Вот только что милиционер был. Куда он подевался? Всегда так – чуть что, а милиции нет!
Очередь стала сразу оглядываться и шарить вокруг себя глазами. Действительно, куда милиция подевалась? Я бы ей все объяснил…
– Какая там милиция! Еще в свидетели запишут, – мужик одной рукой схватил меня за шиворот, а другой за пояс штанишек, да так, что жесткий рубец крепчайшей хлопчатой ткани врезался мне в промежность так больно, что ноги сами собой оторвались от пола, и я повис в воздухе. Мужик, немного качнув меня, выкинул в открытую дверь, и я пропахал несколько метров на животе по еще влажному со вчерашнего дня песочку. Рядом возводилась какая-то пристройка, и кругом был рассыпан песок, что немного смягчило удар о землю. И я заплакал. Нет, не от боли в мошонке, которую защемил рубец грубой ткани штанов, не от боли в груди, которой я ударился, – мне стало страшно. Страшно и обидно. Я здесь совсем чужой. Меня приняли за шпану, за карманника, за безродного цыганенка, за попрошайку. А я ведь собирался ехать к себе домой, к родителям, в Бондари… А меня вот так, с налету.
Я поднялся и, не стряхивая налипший песок, спрятался за соседние кусты, выглядывая, пока пройдет вся очередь.
Люди разошлись, помещение кассы опустело и, я, имея еще в запасе не проеденные на мороженое деньги, подался к окошечку и, оглядываясь, как бы кто-нибудь меня снова не принял за вора, тихо попросил билет до Бондарей.
Все-таки успел взять, заветная бумажка оказалась у меня в руках, и я пошел искать свой автобус.
Он уже стоял, недовольно фыркая двигателем, вот-вот готовый сорваться в путь-дорогу. Правда, дверь была еще открыта, и я нырнул в пахучую бензиновую утробу. Резкий запах табака, смешанный с бензиновым ароматом, будил какие-то до сих пор не известные мне чувства, далекие и радостные – дух странствий.
Позже, много позже, вспоминая этот эпизод моей жизни, написались такие строчки: «Вечерами сентябрь соломенный, и закаты плывут вразброс… О, автобусы, межрайонные! Как печален ваш бывший лоск. У дорог, знать, крутые горки, У шоферов крутые плечи… Пахнут шины далеким городом и асфальтом, и близкой встречей». А боль и та недобрая очередь почему-то забылись сразу же, как только я сел на черный дерматин мягкого сидения.
Впервые я оказался в городе с моим родителем, суровым и скорым на руку, как все мужики того времени: у кого руки-ноги нет, у кого темя, как у младенца, не зажитым родничком дышит, у кого – еще что.
У моего отца был выбит левый глаз. Как это произошло, я не знаю. Родитель не очень-то распространялся на этот счет, да и вообще о войне вспоминать не любил, только когда при случае выпьет, обхватит руками голову и тяжелым грудным голосом поет одну и ту же песню, как «В его зачесе гроздь рябины тупая пуля разлила…»
Мать тогда валила его на лавку, накрывала старой ватиной, и долго еще под ватиной слышались горькие слова песни, перемежающиеся матом, таким же горьким и глухим.
Вообще, отец, когда был под хмелъком, то заметно добрел и был по-своему нежен. В трезвом виде его не тронь, а по пьяному делу из него можно было веревки вить, что мы с матерью и делали.
В один из таких моментов, собираясь проведать свою родню, отец решил прихватить и меня – «Чтоб бабку, подлец, не забывал!» – с собой в город.
И вот мы идем с вокзала, который, к моему удивлению и разочарованию, оказался совсем без колес, а просто белый кирпичный сарай, набитый людьми, мешками, баулами и табачным дымом. Отец в буфете немного накинул за воротник, и я бежал теперь за ним, на ходу глотая закуску, которая ему полагалась после водки – сочащийся жиром блинчик, свернутый трубочкой и проложенный промасленной бумагой. Блинчик был таким, что я еще долго потом вспоминал его вкус, мясной и луковый запах, исходящий от него.
Город тогда мне показался настолько огромным и запутанным, что я боялся, как бы отец не заблудился в этих мощеных и немощеных улицах и дорогах, а то где же мы заночуем тогда?
На этот раз я приехал в Тамбов уже лет через шесть-семь с заветным адреском а кармане, уже один, уже большой, уже умеющий читать названия улиц, и заблудиться, ну, никак не должен.
Стояло тяжелое время, и меня надо было в летние каникулы как-нибудь подкормить, поправить после долгой голодной зимы.
Бегство в город было единственным спасением от раскулачивания семьи моего отца, и теперь в Тамбове жила его мать, моя бабушка, с сыном и дочерью, моими дядей и тетей. Дед умер рано, и я его совсем не помнил, говорят, мужик был хозяйственный и умный, который не вынес нищенского существования без привычных ему крестьянских забот. В Тамбове они купили маленький домик на Ленинградской улице, в тупичке зеленом и мирном. Не то, чтобы они бедствовали, но жили тихо и небогато на некоторые сбережения после продажи хозяйства и на дядину зарплату, небольшую, но стабильную. Тетина зарплата в счет не шла, так – на шило, на мыло, на женские безделушки. Да, кажется, тетя в то время уже вышла замуж и жила отдельным хозяйством, но под одной крышей, и бабушке приходилось еще выкраивать и на молодую семью…
Детская память настолько цепкая, что я шел по тому старому маршруту от самого вокзала и сразу же нашел дом моих желанных родственников. Возле дома стояла водопроводная колонка, и я, плеснув несколько раз в лицо водой, вытерся рубахой и тихо постучал в дверь.
– Ах, мой касатик! Ах, моя ласточка! – бабушка Фекла все гладила и гладила меня по голове и все подсовывала булку, густо намазанную вареньем, пока я, захлебываясь, пил сладкий «в накладку» чай.
Дядя сидел в это время напротив меня в своей вечной зеленой гимнастерке, он после войны остался служить в местном гарнизоне на какой-то незначительной должности, и все похохатывал и похохатывал, безобидно подначивая моей деревенской конфузливости и неумению прихлебывать чай из блюдца. А на столе важным генералом, сверкая орденами, пузатился и фыркал ведерный самовар. Очень уж любили мои родственники пить чай непременно из самовара, заваривая крутым кипятком черный прессованный брикет. Чай получался душистым, тёмно-красного цвета и кисловатый на вкус. Такой чай я больше уже никогда не пил. Перестала наша пищевая промышленность делать фруктовый чай, или разучилась.
Дядя, контуженный на войне, но еще крепкий молодой мужик веселого нрава любил со мной по-товарищески поозорничать и подшутить, да и я его не раз разыгрывал, делая всякие, как теперь говорят, приколы. За один такой прикол, хотя дядя за него со мной вполне рассчитался, мне до сих пор смешно и стыдно. Переиграл я все-таки мужика своей ребячьей хитростью.
За утренним чаем я поспорил с ним, что вот этим чапельником с обожженной и засаленной ручкой я его свяжу, да так, что он не сумеет шевельнуть ни рукой, ни ногой. Дядя, похохатывая, принял мое условие, сказав, что если ему не придется освободиться, то он мне с первой же получки купит ботинки, а то нехорошо по городским булыжникам шлепать босыми ногами. Летней обуви у нас в деревне тогда не водилось, и я, конечно, прибыл из Бондарей, обутый в собственную кожу, прочней которой на свете не существует, а то, что она кое-где полопалась и в запущенных цыпках, то это не в счет.
Связать палкой человека – проще простого. Дяде и в голову не пришло, как это можно сделать. А делается это очень даже просто: надо положить человека спиной на пол, просунуть сложенные крест-накрест руки ладонями к груди в расстегнутую на две-три пуговицы рубашку, затем поднять согнутые ноги к локтям и под колени и локти просунуть подходящую палку метр-полтора длиной – и все, никакими усилиями человек сам уже не сможет освободиться, если только не порвет рубаху, что сделать в таком положении почти невозможно. Попробуйте это сделать со своим приятелем, и вы убедитесь в безотказности приема. Мы, мальчишки, не раз проделывали это друг с другом.