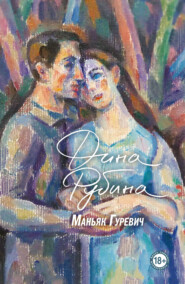По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вавилонский район безразмерного города
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вавилонский район безразмерного города
Дина Ильинична Рубина
В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.
Дина Рубина
Вавилонский район безразмерного города
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Д. Рубина, 2019
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019
Предисловие
Заведенный порядок этого мира
Старики занудны… Кто вообще вслушивается в то, что они говорят, особенно, если это твои старики: бабка, дед, бабкина сестра Бэрта с ее дурацкими «партейными собраниями»… Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны, их жалобы смешны. В конце концов, они помирают – и это правильно. Старики должны помирать, а иначе для чего существует заведенный порядок этого мира?
И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься… ну, не в старуху пока, а как бы это помягче… в женщину в возрасте. Что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе детища, замечательные ребятки, которым до тебя – и это так заметно! – совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокомудрой фразы: «Баба, помолчи, а? Мешаешь…» И мое первое желание возразить семилетней засранке, что меня пока вполне таки слушают полные залы, а читают еще более обширные массы людей, мгновенно разбилось о ее незамутненный взгляд нового человека. Представителя нового поколения. Свеженькую личность, которая лучше знает – что лично ей понадобится в жизни. Которой недосуг выслушивать рассуждения бабки, пусть и любимой…
И я вспомнила свою бабку Рахиль.
Ташкентское землетрясение (раньше я писала «знаменитое ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его, и быстро тускнеет для остальных), – ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось тринадцать лет. Подземные толчки растрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки, слепленный после войны его собственными руками, растрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно: из него вывалилась наружу одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчане, приезжая к бабке на каникулы трамваем.
Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся повсеместно поднятой пылью от развалин. Я проснулась на своем топчане и сижу на нем, как на сцене, свесив босые ноги. Ибо снаружи стоит во дворе моя бабка Рахиль, и, уперев руки в бока, толкует с моими друзьями Мишкой и Семкой.
– Теть Рахиля-а-а… – тянут они. – Отпустите Динку скорпионов в банку ловить…
Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах: Азия… Мы их ловили в банки, заливали разными жидкостями, и этот сок считался противоядием от укусов. Банку можно было недурно продать и обогатиться: мороженого накупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить. Но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников?
– Я вам дам скорпиенов! – вопит моя бабка. – Хляньте на этих паразитов! Такое хоре крухом, люди остались без дому, без постели, а у вас одни удовольствия в холове!
С возрастом начинаешь за возрастом следить: замечаешь некую цикличность жизни, неумолимое обаяние ее бестрепетного хода, ровный бег этих валов, наплыв – откат, весну – осень…
Однажды, прихватив маму и беременную дочь, я вывезла их прогуляться-проветриться. Мы катили по шоссе, за моей спиной моя мама и моя дочь о чем-то оживленно спорили, причем дочь повторяла, что, мол, бабуля, ты просто не в состоянии что-то там понять. Или что-то в этом роде. Я тоже время от времени встревала в их спор со своими репликами. И вдруг с пронзительной ясностью поняла, что сейчас, в этой машине, находятся четыре поколения женщин моей семьи, моего рода, одна из которых еще в утробе сидит, но вполне вероятно, к разговору прислушивается и свое мнение имеет. Я расхохоталась и на вопрос мамы и дочери – о чем это я, отвечать не стала: тогда бы они меня просто не поняли…Просто не поняли, что до меня донесся тихий шелест иных голосов.
Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков, которые почему-то с годами разгораются в тебе все ярче, становятся все дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, вот сейчас бы расспросила обо всем. Откуда взялась и как проросла в наследниках прабабка-цыганка, и что ж это за глупость такая, что, потеряв ценную вещь (кольцо или серьгу, или кошелек, например, вытащили), ты радуешься хорошему знаку: отпустили, выходит, тебя там, наверху, если взяли деньгами…
А потом ты просто осознаешь со слепящей ясностью, что ты и есть – просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до…может быть, другой Евы?
И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки, а пальцами левой – маленькой юркой ручки собственной внучки, и удовлетворенно понимаешь: ты на месте. Ты там, где, даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.
Дина Рубина
Дорога домой
Лет в восемь или девять я сбежала из пионерского лагеря, первого и последнего в моей жизни. Подробностей не помню; кажется, он был обкомовским, этот лагерь, и находился в предгорьях Чимгана, километрах в двадцати от города, где-то в районе Газалкента.
Меня туда пристроила по блату мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат – это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимала, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить: растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки.
И недоумение: что мне этот сервелат? А скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.
В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдывающий мой дикий поступок… Нет. Ничуть не бывало! Человеку, для которого главное несчастье – место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье.
Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась восвояси босиком. Это было не страшно: кожа на ступнях за лето становилась задубело-нечувствительной. Пролезши через дырку в заборе и по остановке автобуса вычислив направление на Ташкент, я побежала по еще теплой от дневного жара асфальтовой дороге, сначала бодро и возбужденно (мне все чудилась погоня, так что, заслышав стрекот далекой машины, я сбегала с дороги и пряталась в кустах, а если их поблизости не было, просто падала лицом и животом в высокую придорожную траву, сильно пахнущую шалфеем и полынью), потом шла все медленней, затем, под утро, уже устало плелась…
Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает в какую даль…
Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалось окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой. Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле – пульсировала в невыразимой, несказанной вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд бездне вверху… Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии: выстраивались фигуры – окружности, углы и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат – окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и, сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные, и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно… Я придумала себе, что там вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события: новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд… Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке: а вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп?
Раза два-три за всю ночь темная дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишлаков, тянуло горчайшим дымом горящего кизяка, и разной высоты голосами перебрехивались псы, отвечая на дрожащий крик осла…
Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня) доехала до дома.
Впоследствии никто из знакомых, и родители тоже, не верили, что я прошла весь этот путь ногами.
– Тебя подвезли? – допрашивали меня. – На машине? На повозке? На велосипеде? Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь одна, да еще ночью…
Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья, под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой…
Эта дорога домой под лохматым от звезд горным небом, запахи чабреца, лаванды и горчащий дым кизяка от кишлаков, дрожащий, страдающий крик осла на рассвете – все это, при желании возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа.
Именно в ту ночь я стала взрослой – так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей.
Что человек одинок.
Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту.
Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры…
Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали…
Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне втайне сочувствовал: он и сам господин не из компанейских. Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате и не в «горном воздухе для здоровья», а просто – это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку… да другой мечтал бы о таком счастье… и вообще, полюбуйтесь на это чудо – разве это нормальная девочка?
Я молча прошла в узкую, как пенал, «детскую», где спали мы с сестрой, и легла на свой диван с одним валиком в головах; другой я давно отбрыкнула удлинившимися за год ногами.
Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон, на пепельном небе замирали и гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью Вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры…
Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидела я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне Вселенной, о чем догадалась навек?
Что человек одинок?
Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?
Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры?
Дина Ильинична Рубина
В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.
Дина Рубина
Вавилонский район безразмерного города
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Д. Рубина, 2019
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019
Предисловие
Заведенный порядок этого мира
Старики занудны… Кто вообще вслушивается в то, что они говорят, особенно, если это твои старики: бабка, дед, бабкина сестра Бэрта с ее дурацкими «партейными собраниями»… Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны, их жалобы смешны. В конце концов, они помирают – и это правильно. Старики должны помирать, а иначе для чего существует заведенный порядок этого мира?
И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься… ну, не в старуху пока, а как бы это помягче… в женщину в возрасте. Что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе детища, замечательные ребятки, которым до тебя – и это так заметно! – совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокомудрой фразы: «Баба, помолчи, а? Мешаешь…» И мое первое желание возразить семилетней засранке, что меня пока вполне таки слушают полные залы, а читают еще более обширные массы людей, мгновенно разбилось о ее незамутненный взгляд нового человека. Представителя нового поколения. Свеженькую личность, которая лучше знает – что лично ей понадобится в жизни. Которой недосуг выслушивать рассуждения бабки, пусть и любимой…
И я вспомнила свою бабку Рахиль.
Ташкентское землетрясение (раньше я писала «знаменитое ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его, и быстро тускнеет для остальных), – ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось тринадцать лет. Подземные толчки растрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки, слепленный после войны его собственными руками, растрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно: из него вывалилась наружу одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчане, приезжая к бабке на каникулы трамваем.
Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся повсеместно поднятой пылью от развалин. Я проснулась на своем топчане и сижу на нем, как на сцене, свесив босые ноги. Ибо снаружи стоит во дворе моя бабка Рахиль, и, уперев руки в бока, толкует с моими друзьями Мишкой и Семкой.
– Теть Рахиля-а-а… – тянут они. – Отпустите Динку скорпионов в банку ловить…
Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах: Азия… Мы их ловили в банки, заливали разными жидкостями, и этот сок считался противоядием от укусов. Банку можно было недурно продать и обогатиться: мороженого накупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить. Но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников?
– Я вам дам скорпиенов! – вопит моя бабка. – Хляньте на этих паразитов! Такое хоре крухом, люди остались без дому, без постели, а у вас одни удовольствия в холове!
С возрастом начинаешь за возрастом следить: замечаешь некую цикличность жизни, неумолимое обаяние ее бестрепетного хода, ровный бег этих валов, наплыв – откат, весну – осень…
Однажды, прихватив маму и беременную дочь, я вывезла их прогуляться-проветриться. Мы катили по шоссе, за моей спиной моя мама и моя дочь о чем-то оживленно спорили, причем дочь повторяла, что, мол, бабуля, ты просто не в состоянии что-то там понять. Или что-то в этом роде. Я тоже время от времени встревала в их спор со своими репликами. И вдруг с пронзительной ясностью поняла, что сейчас, в этой машине, находятся четыре поколения женщин моей семьи, моего рода, одна из которых еще в утробе сидит, но вполне вероятно, к разговору прислушивается и свое мнение имеет. Я расхохоталась и на вопрос мамы и дочери – о чем это я, отвечать не стала: тогда бы они меня просто не поняли…Просто не поняли, что до меня донесся тихий шелест иных голосов.
Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков, которые почему-то с годами разгораются в тебе все ярче, становятся все дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, вот сейчас бы расспросила обо всем. Откуда взялась и как проросла в наследниках прабабка-цыганка, и что ж это за глупость такая, что, потеряв ценную вещь (кольцо или серьгу, или кошелек, например, вытащили), ты радуешься хорошему знаку: отпустили, выходит, тебя там, наверху, если взяли деньгами…
А потом ты просто осознаешь со слепящей ясностью, что ты и есть – просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до…может быть, другой Евы?
И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки, а пальцами левой – маленькой юркой ручки собственной внучки, и удовлетворенно понимаешь: ты на месте. Ты там, где, даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.
Дина Рубина
Дорога домой
Лет в восемь или девять я сбежала из пионерского лагеря, первого и последнего в моей жизни. Подробностей не помню; кажется, он был обкомовским, этот лагерь, и находился в предгорьях Чимгана, километрах в двадцати от города, где-то в районе Газалкента.
Меня туда пристроила по блату мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат – это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимала, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить: растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки.
И недоумение: что мне этот сервелат? А скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.
В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдывающий мой дикий поступок… Нет. Ничуть не бывало! Человеку, для которого главное несчастье – место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье.
Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась восвояси босиком. Это было не страшно: кожа на ступнях за лето становилась задубело-нечувствительной. Пролезши через дырку в заборе и по остановке автобуса вычислив направление на Ташкент, я побежала по еще теплой от дневного жара асфальтовой дороге, сначала бодро и возбужденно (мне все чудилась погоня, так что, заслышав стрекот далекой машины, я сбегала с дороги и пряталась в кустах, а если их поблизости не было, просто падала лицом и животом в высокую придорожную траву, сильно пахнущую шалфеем и полынью), потом шла все медленней, затем, под утро, уже устало плелась…
Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает в какую даль…
Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалось окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой. Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле – пульсировала в невыразимой, несказанной вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд бездне вверху… Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии: выстраивались фигуры – окружности, углы и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат – окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и, сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные, и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно… Я придумала себе, что там вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события: новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд… Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке: а вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп?
Раза два-три за всю ночь темная дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишлаков, тянуло горчайшим дымом горящего кизяка, и разной высоты голосами перебрехивались псы, отвечая на дрожащий крик осла…
Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня) доехала до дома.
Впоследствии никто из знакомых, и родители тоже, не верили, что я прошла весь этот путь ногами.
– Тебя подвезли? – допрашивали меня. – На машине? На повозке? На велосипеде? Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь одна, да еще ночью…
Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья, под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой…
Эта дорога домой под лохматым от звезд горным небом, запахи чабреца, лаванды и горчащий дым кизяка от кишлаков, дрожащий, страдающий крик осла на рассвете – все это, при желании возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа.
Именно в ту ночь я стала взрослой – так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей.
Что человек одинок.
Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту.
Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры…
Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали…
Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне втайне сочувствовал: он и сам господин не из компанейских. Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате и не в «горном воздухе для здоровья», а просто – это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку… да другой мечтал бы о таком счастье… и вообще, полюбуйтесь на это чудо – разве это нормальная девочка?
Я молча прошла в узкую, как пенал, «детскую», где спали мы с сестрой, и легла на свой диван с одним валиком в головах; другой я давно отбрыкнула удлинившимися за год ногами.
Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон, на пепельном небе замирали и гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью Вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры…
Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидела я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне Вселенной, о чем догадалась навек?
Что человек одинок?
Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?
Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры?