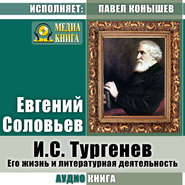По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О Сенковском как профессоре достаточно сказать несколько слов. Он мог читать блестящие лекции – в этом никто не сомневается – и читал их, пока не занялся журналистикой. Потом кафедра наскучила ему, и он целые годы тянул свое профессорское дело лишь ради пенсии. При этих условиях исполнялось оно, конечно, неважно. Покойный Никитенко между прочим зафиксировал в своем дневнике маленькую сценку, в которой рассказывает, как однажды в университетских коридорах он встретил кучку студентов, “возмущенных грубостью Сенковского”. Где и куда делись эти студенты и чем кончилось их “возмущение” – мы не знаем, но эпизод приводим как любопытный. Грубое, презрительное отношение к другим – характерная черта героя нашей биографии. “Маленького роста, джентльменски одетый, в лакированных ботинках, с гордо поднятой головою, с презрительной улыбкой и презрительным взглядом – таков Осип Иванович Сенковский”, – если верить его современнику, видевшему его около этой эпохи.
Но мимо всего этого. Не будем наполнять страницы малоинтересными, ничуть для Сенковского не характерными деталями. Биография такого размера, как наша, по необходимости превращается в характеристику, сам же Сенковский интересен для нас прежде всего как журналист. Заметим только, что в результате упорных ученых занятий появился вполне по-европейски образованный человек, о громадных познаниях которого вот что между прочим говорит Дружинин:
“Во всей современной ему (Сенковскому) русской литературе не находилось человека, который в качествах, необходимых для журналиста, мог бы соперничать с основателем “Библиотеки для чтения”. По высокому, солидному, многостороннему образованию Сенковский мог назваться первым из первых литераторов своего времени. Кроме языков древних и восточных, он знал в совершенстве языки: русский, французский, английский, итальянский и польский; кроме глубоких сведений по отрасли наук, которым преимущественно посвятил он свои занятия в молодости (восточные языки и восточная литература), он имел обширные познания в науках естественных и политических. Читая беспрестанно и владея удивительною памятью, Осип Иванович, когда еще его здоровье допускало “излишество труда”, следил за всеми не только первостепенными, но и второстепенными и третьестепенными явлениями современной науки и словесности. Он мог беседовать с первоклассным медиком и удивлять его своими познаниями в области медицинских наук; первостепенные европейские виртуозы отдавали справедливость его парадоксальным, но глубоким взглядам на сокровенные законы их искусства; экономист, разговаривая с Осипом Ивановичем, видел, что ему знакомы труды всех европейских, особенно английских писателей по части политической экономии. Понятно, что при обладании такими средствами Сенковский мог вести и вел свое периодическое издание несравненно лучше, чем его сверстники вели свои журналы”.
Для характеристики же литературной деятельности Сенковского в это время скажем несколько слов по поводу его “Фантастических путешествий”.
Признаюсь, я лично с величайшим удовольствием перечитал “Фантастические путешествия барона Брамбеуса”. Очевидно, что тема их как нельзя более подошла к таланту автора и он справился с нею легко и свободно. Сенковский в этом своем произведении добился того, о чем мечтает каждый писатель: полной, ничем не стесненной свободы. Он играет своим предметом будто мячиком: то отбросит от себя в сторону, то поймает опять и прижмет к себе крепко-крепко. Иногда на протяжении целых страниц он как будто забывает о теме, рассуждает о том, что пришло в голову, рассуждает бойко, остроумно, потом, точно спохватившись, с улыбкой возвращается к рассказу и продолжает его с прежней легкостью. Мне лично как нельзя более по душе эта независимость ума, эта гибкость игривой фантазии, эта способность быстро переходить от одного настроения к другому. Не буду вызывать великие тени Рабле, Монтеня, Вольтера, чтобы поставить рядом с ними Сенковского и тем польстить ему. Конечно, он много, слишком даже много ниже их, но в нем есть кое-что общее с этими недосягаемыми представителями умственной гибкости, общее по типу, а не по степени. Хотите послушать, как острит барон Брамбеус? Вот, например, его отзыв об иероглифах: “В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток и даже сам открыл половину одной египетской дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, г-н Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону, но это не должно никого приводить в смущение, и спор двух ученых мужей я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, как изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе как по нашей методе; изобретенная же г-ном Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где – и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь дела. Суть же нашей системы сводится к тому, что всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая то или другое понятие, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему”. За это и подобные ему места барона Брамбеуса упрекали в неуважении к науке. Помилуйте, как можно не верить в науку? – восклицала критика. Однако если начать упрекать Сенковского за неверие, то придется делать это в отношении не только науки, а чего-то гораздо большего. Фантастические путешествия насквозь проникнуты скептицизмом. Остановимся на одном из них – ученом.
Сюжет его следующий.
Сам автор, доктор философии Шпурцманн и обер-берг-пробирмейстер 7 класса Иван Антонович Страбинский после долгой поездки по реке Лене прибыли наконец к ее устью. Ехали довольно весело. “Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, доктора Шпурцманна, согнутого дугою, на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты принимали его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались его заставить хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки. Те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием, еще более оказывали ему почтения и настоятельнее просили изгонять из них чертей”. После подобного рода комических эпизодов путешественники прибыли к устью великой сибирской реки и тут, к немалому своему изумлению, наткнулись на высокую скалу, все стены которой были исписаны таинственными знаками. Любопытство овладело ими, бессмертие и слава мерещились им, и они принялись разбирать надписи. К счастью, знаки оказались иероглифами, а читать их, как мы видели, “очень просто”. Каков же был восторг путешественников, когда, прочтя несколько слов, они убедились, что перед ними рассказ человека – очевидца большого потопа. Этот рассказ – целый роман с прихотливыми сплетениями любовной интриги, трагическими описаниями смерти, остроумными монологами ученых педантов…
В той свободе, с которой Сенковский отдавался своему настроению, так легко и смело переходил от одной картины к другой, есть много увлекательного. Он острит, шутит, смеется на каждой странице, не всегда даже знает меру остроумия, но стоит только. заглянуть за прихотливые арабески фантазии, вникнуть в смысл рассказа – и перед нами развертывается настоящая трагическая эпопея.
Веселое общество, не мучимое никакими тревогами и сомнениями, легкомысленное и детски наивное, занятое игрой своих страстей, своего самолюбия и тщеславия, живет, изо дня в день повторяя исстари заведенную песню. Влюбляются, ревнуют, враждуют, сердятся, смеются – и тянется целые годы и века маленькое, пошлое существование. Перед читателем выступают: ученый колпак-астроном Шимшик, для которого в жизни нет более серьезной цели, как доказать, что его противник ошибается; легкомысленная и легкокрылая Саяна, хорошенькая кокетка, вся погруженная в любовные интриги; целая коллекция бездельных[3 - праздных, пустых, ничтожных, не стоящих внимания (Словарь 3. Даля)]юных джентльменов и домовитых стариков. Что за бестолковая, что за бессмысленная жизнь! Один собирает археологические коллекции, другой по уши погрузился в гастрономию, третий – в свои страсти, четвертый – в наряды, балы, развлечения. И ни у кого нет мысли, что так жить нельзя, что есть что-то великое и таинственное в земном бытии человека… И вдруг на это праздное, легкомысленное общество надвигается смерть. Неожиданно явилась она, принесенная кометой, неожиданно взбунтовались воды и суша. Города разрушены, все низменности залиты водой, люди в ужасе спасаются на высоких местах, но вода медленно и неотвратимо подбирается к ним.
Два человека спаслись от потопа на высокой скале. Один – это тот, кто оставил описание потопа, другой – кокетливая, хорошенькая Саяна. Вот маленькая заключительная сценка: “Я пытался, однако же, доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришедши в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиной и так провели двое суток. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя. “Саяна, – воскликнул я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальные думы. – Саяна!.. Посмотри!.. Вода уже потопила вход в пещеру”. Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами. “Видишь ли эту воду, Саяна? То наш гроб”. Она все еще смотрела, страшно, недвижно, молча и как будто ничего не видя. “Ты не отвечаешь, Саяна?!” Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно-сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала на мою руку; я с умилением погружал взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы брызнули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста – и она с жадностью проглотила их, чтобы утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти, в этом положении. Когда я очнулся, она была уже холодна, как мрамор… Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастная Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?… Ты не знала этой нежной, роскошной страсти. Нет, ты ее не знала и родилась женщиною только из тщеславия… Я, однако же, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я целовал тело ее страстными поцелуями. Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое мягкое тело, которое осыпал поцелуями… Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене…”
Читатель, наверное, кое-что и сам слыхал о Сенковском, и большая часть этого “кое-что”, надо думать, не особенно лестная. Но отдадим ему должное: в нем был несомненный поэтический талант, по крайней мере вначале, пока не задушила его постоянная журнальная работа. Ему присущи были и глубокие мысли, и если хотите убедиться в этом, то посмотрите его повесть “Любовь и смерть” или то же самое путешествие на ученый остров, которое нам пришлось передать лишь вкратце. Мысль этого произведения – большая мысль; не она ли представлялась Гоголю, когда он писал в своей памятной книжке: “Город… пустословие… сплетни… праздная жизнь, пустая и ничтожная… И вдруг является смерть – непрошеный гость – откуда-то… Выхватывает жертву… Недоумевают и принимаются за старое…”
Та же мысль воодушевила Сенковского. Не всякое время симпатизирует ей, не во всякую эпоху привлечет она внимание. Но это большая мысль, в которой видна частичка вечной проблемы, заданной человеку: “Зачем он здесь, на земле?” Надо быть поэтом, надо иметь глубину душевную, чтобы проникнуться ею…
ГЛАВА III
В конце 1833 года появилось от имени Смирдина объявление об издании “Библиотеки для чтения”. Редакторами журнала названы были Н.И. Греч и О.И. Сенковский, сотрудниками – почти все литературные известности, числом до шестидесяти. Журнал должен был выходить с января 1834 года книжками около 20 печатных листов. По содержанию он разделялся на семь отделов: русская словесность, словесность иностранная, науки и художества, промышленность и сельское хозяйство, критика, литературная летопись и, наконец, “смесь”. Учредители обещали остаться вне партий, не входить в споры с другими журналами, не отвечать на выходки и критику, не принимать антикритику.
Нельзя не согласиться, что время для издания нового журнала было выбрано как нельзя более удачно: “Московский телеграф” только что замолчал, между тем как шум, произведенный его блестящей карьерой и неожиданной гибелью, еще не улегся; он первый приучил публику к журналу, и после него осталось пустое пространство, заполнить которое и взялась “Библиотека для чтения”. Далее мы увидим, как исполнила она свою задачу, пока же заметим, что между нею и ее предшественником была серьезная разница, что видно, между прочим, и из приведенного выше объявления. “Московский телеграф” был журнал боевой, с неособенно широкими, но вполне определенными целями, его редактор – Н.И. Полевой – сумел соединить свои симпатии и антипатии с общественными движениями; под прикрытием литературной критики и романтического направления “Московский телеграф” зачастую затрагивал очень серьезные общественные вопросы; он, наконец, был органом известного направления. Не то “Библиотека для чтения”. С первого своего появления она выставила энциклопедическую программу, которой и держалась худо или хорошо до конца своих дней. Отметим еще одну характерную сторону объявления: журнал обещал оставаться вне партий и не вступать ни в какую полемику. Не совсем ясно, на какие партии делается намек, ибо в то время никаких партий не было да и быть не могло, так как начальство очень подозрительно к ним относилось и предпочитало единодушие, а в случае надобности даже настаивало на нем; но все же, повторяю, это торжественное обещание – быть вне партий – характерно и наряду с прочим должно было говорить об энциклопедическом характере будущего журнала. Нежелание полемизировать указывало, с одной стороны, на попытку собрать если и не под одним знаменем, то, по крайней мере, в одном месте все литературные силы, а с другой стороны, – успокоить публику, которой все эти литературные дрязги начали уже приедаться. Ведь если припомнить, что критиками и антикритиками наполнялись в то время целые журнальные тома; что “Московскому телеграфу” приходилось даже издавать особенные полемические приложения; что литераторы грызли друг друга совсем не по-человечески; что читателю случалось встречать целые десятки страниц, посвященных “безграмотству” такого-то, на которых доказывалось, что такой-то – оставляя уже в стороне вопрос о его добродетели и нравственных качествах вообще – не умеет писать по-русски, не понимает правил, относящихся к расстановке знаков препинания и пр., и пр.; что подобного рода нападки опровергались, вызывали новые нападки и новые опровержения, – то ясно, что как ни прост был читатель того времени, а все же ему приходилось нелегко.
“Библиотека для чтения”, оставляя в стороне полемику и антикритику, обещала прежде всего быть интересной и разнообразной. Предполагался, по-видимому, ежемесячный альманах, в котором каждый мог бы найти все, что ему по вкусу и по силам разумения. Публика отнеслась к этому с полным сочувствием. Накануне нового года появилась первая книжка “Библиотеки для чтения” и произвела большое впечатление. Начиная с объема и наружности, все превосходило ожидания. Вместо 20 обещанных листов дано было 40, книга была напечатана в лучшей типографии, на хорошей бумаге, не то что серобумажные журналы того времени, к которым как нельзя более применимы слова лермонтовского читателя:
И я скажу – нужна отвага,
Чтобы открыть… хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток…
Читаешь – сотни опечаток…
В книге фигурировали все знаменитости. Мы встречаем имена Пушкина, Жуковского, Козлова, Греча, Булгарина, Полевого, Погодина и других. Сам Сенковский для первого номера дал научную статью о скандинавских сагах, остроумную и оригинальную повесть под названием “Вся женская жизнь в нескольких часах”, где очень талантливо рассказана судьба какой-то бедной институтки, влюбившейся в шалопая, и критическую статью, бойко опровергавшую все правила всех риторик и пиитик.
С этой поры началась поразительная по объему и разнообразию журнальная деятельность Сенковского. “Библиотеку для чтения” он сразу забрал в свои руки и стал единовластно распоряжаться ею. Он не жалел себя, своего здоровья, своих сил, был единственным редактором и единственным сотрудником. Полная тревог и волнений, кропотливой и спешной работы жизнь журналиста увлекала его. Он чувствовал, что это истинное его призвание, и всем жертвовал для него. Потребуются десятки страниц, чтобы перечислить только заголовки его статей; едва-едва умещаются статьи эти в десяти томах. Но это, конечно, только часть работы – и притом меньшая часть. Другая, неизмеримо большая – работа редактора, – теперь едва заметна и так хорошо забыта, что трудно и напомнить о ней.
Кроме Сенковского “Библиотека для чтения” имела еще ответственных перед правительством редакторов, в первый год известного грамматиста Н.И. Греча, во второй – Крылова. Но ни тот, ни другой никакого участия в деле не принимали, и о редакторстве последнего “Библиотека для чтения” извещала читателей (в октябре 1835 года) в следующих выражениях: “За кометой мы совсем забыли одно обстоятельство, о котором давно следовало известить наших читателей: еще с мая месяца “Библиотека для чтения” лишилась лестного руководства, которое принял было на себя знаменитый наш поэт И.А. Крылов. Преклонность лет не дозволила ему продолжать мучительных занятий редактора”. Когда Сенковский получил наконец разрешение объявить себя гласно редактором, он сделал это (в августе 1836 года) в следующих словах: “Для отклонения неуместных догадок и толков считаем нужным сказать откровенно, что с самого начала существования этого журнала, как то почти всем известно, настоящим его редактором был всегда сам директор и общий с издателем владелец его, О.И. Сенковский, и что никто в свете, кроме г-на Сенковского, не имел ни малейшего влияния на состав и содержание “Библиотеки для чтения”. Все ее недостатки, равно как и все достоинства, если какие были, должны быть приписаны ему одному. Те, которые носили звание редакторов “Библиотеки для чтения”, слишком невинны в ее недостатках, чтобы отвечать за них перед публикой, и слишком благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, в которых они не имели никакого участия. Весь круг их редакторского действия ограничивался чтением третьей, последней корректуры уже готовых, оттиснутых листов, набранных в типографии по рукописям, которые никогда не сообщались им предварительно. Те из них, которые притом давали свои статьи, давали их как сотрудники, а не как редакторы, и помещение этих статей зависело вполне от директора журнала. О.И. Сенковский, убедясь двухлетним опытом, что этого рода содействие посторонних редакторов нисколько не облегчало его в мучительных трудах директора, по согласию с издателем решился соединить с званием директора “Библиотеки для чтения” звание ее редактора, которого по-настоящему он нес все главные обязанности. Вот и все!”
Сенковский в этих строках отнюдь не преувеличивал своей роли. “Библиотеку для чтения” он смело мог назвать своим собственным журналом. Как редактор он был положительно неутомим. “У меня, – говорил он впоследствии, – было немало хлопот по журналу; я был и редактором, и сотрудником, и корректором, и подчас переводчиком”. Сенковский работал с юношеским жаром, нисколько не заботясь о своем здоровье и даже о будущем. Он весь отдавался минуте, вечно сидел у себя в кабинете, зарывшись в книги и рукописи, и отдыхал всего-навсего один или два дня в продолжение месяца. Ни одна статья, ни одна самая крошечная заметка не миновала его рук. Он выбирал статьи для переводов, для чего читал до двадцати иностранных журналов и газет; затем просматривал, изменял, дополнял сделанные переводы; вновь пополнял их в корректурах и при всем том находил время писать собственные статьи для всех отделов журнала: за один лишь первый год существования “Библиотеки для чтения” они составили более 60 печатных листов, или около 1000 страниц. Работа увлекала его, тем более что эта работа сопровождалась огромным успехом. И днем, и ночью он не отрывался от письменного стола, пока не доводил до конца заданного себе труда, и ложился лишь после совершенного утомления или даже изнеможения. Накануне выхода книжки проводил он день и ночь часто в типографии, чтобы быть уверенным в непременном появлении ее первого числа, и затем только успокаивался и позволял себе отдохнуть один или два дня. На третий уже начиналась та же мучительная работа для следующей книжки. Не говоря уже о статьях, назначенных к извлечению из иностранных журналов, и все оригинальные статьи, не подписанные известным в литературе именем, проходили через редакцию Сенковского, то есть получали форму и изложение, усвоенные им для своего журнала. Сенковский, вообще говоря, с сотрудниками не церемонился. В своем журнале он был настоящим деспотом, который свое “telle est ma volontе” (такова моя воля) ставил всегда на первый план. Даже повести и рассказы второстепенных писателей подвергались нередко большим изменениям. Не раз случалось, что Сенковский даже не дочитывал рукописей: повесть нравилась ему по сюжету, в голове его рождалась при ее чтении счастливая мысль, – он отдирал конец рукописи и приписывал свой. Авторы, естественно, обижались и имели, надо сознаться, полное на это основание. Об иностранных сочинениях нечего, конечно, и говорить: те всегда представлялись читателю в измененном, исправленном и дополненном виде; выбрав роман или ученое сочинение для перевода на русский язык, Сенковский обыкновенно сокращал его во время самого чтения, вычеркивал растянутые и ненужные места, связывал статью своими приписками и вставками всегда на том же языке, на котором она была написана, и только тогда отдавал ее переводчику. “Любопытно было видеть иные статьи в книжках французских и английских журналов все перечеркнутые, с массою приписок, сделанных четкою рукою Сенковского на полях и сверх того иногда на особых вложенных листочках, так что из иностранной статьи не оставалась нетронутой ни одна строка”. И таких статей было множество в “Библиотеке для чтения”. Все они печатались без подписи и имени, иногда с обозначением двух или трех журналов, из которых были взяты; иногда – если это была повесть или рассказ – с псевдонимом вместо имени. Эти неблагодарные труды редактора были секретом его мастерской, публика о них не знала и не могла их ценить, хотя все видели единство духа, направления, формы и изложения во всех статьях журнала, как будто все они были написаны одной рукой – что и недалеко от истины.
Словом, с точки зрения трудолюбия и редакторской техники Сенковский заслуживает настоящего панегирика. Но нужна ли была такая гигантская работа и не вредила ли она, в сущности, делу? Правда, много можно говорить и еще более можно спорить о пределах редакторской власти; но, как кажется, фанатизм, доведенный в этом случае до крайности, едва ли особенно полезен. Направление – дело редакции, это очевидно; но надевать на сотрудников кандалы, заставлять их маршировать по определенному шаблону, стремиться к полному казарменному однообразию – это значит хватать через край. Никогда никакое самолюбие, тем более самолюбие литературное, не согласится на такую ферулу и опеку. Настоящий писатель дорожит каждой своей буквой и словом, и слишком деспотическому редактору всегда в конце концов придется окружать себя второ– и третьестепенностями или даже остаться в одиночестве, что и случилось с Сенковским. Авторы истерзанных, сокращенных и совсем переделанных статей оскорблялись, нередко протестовали в газетах и только в случае крайней необходимости возвращались в “Библиотеку для чтения”.
Но с деспотизмом великого человека можно еще примириться, лишь бы этот деспотизм происходил от величия, одушевленного верой, пусть даже фанатической, лишь бы в нем не было ничего капризного и произвольного, чем, по нашему мнению, зачастую грешил О.И. Сенковский. Поэтому-то, думается нам, возможно воспевать ему панегирики как редактору за трудолюбие, но, очевидно, слишком мало одного трудолюбия для такого сложного и громадного дела, как издание журнала. Мало даже знания, искусства, умения; нужно нечто большее, и это большее – нравственная сила.
Труд редактора – совсем не механический труд. С громадным запасом сведений, с чутьем к интересному и разнообразному можно издавать хороший альманах, прекрасный энциклопедический словарь, но никак не журнал или газету. В глазах своих сотрудников редактор должен быть настоящим героем, и чем выше проба этого героизма – тем лучше. Никаких сил одного человека, никакого его трудолюбия не хватит для ежемесячного издания. Только окружив себя лучшими литературными силами, только сумев воспитать их и вдохновить в нужном направлении, он может рассчитывать на действительный успех. Что такое один он? Пускай он работает 24 часа в сутки, перечитывает все журналы и газеты, сам переводит, сам корректирует – этого недостаточно; при подобных условиях его дело умрет, как бы успешно ни пошло оно вначале. Редакторский труд гораздо сложнее, он сводится к умению одушевлять и вдохновлять. Быть настоящим, а не мнимым центром литературного кружка, быть лучшим выразителем принятого направления, первым и преданнейшим защитником водруженного знамени, быть объединителем в широком смысле слова – вот что, по-нашему, значит быть редактором.
Этого-то совсем недоставало Сенковскому. Почему? Послушаем Дружинина.
“Трудно, – говорит он, – объяснить с достоверностью причины того литературного одиночества, которого постоянно держался Сенковский и которое по временам вводило его в странные и безвыходные положения; но нам кажется, что в одиночестве этом не было ничего преднамеренного или исходящего из пренебрежения к другим литераторам. Мы знали Осипа Ивановича около десяти лет и во все эти десять лет не подсмотрели в его характере никакой неуживчивой особенности, не подслушали в его разговорах о литературе чего-нибудь очень враждебного новому ее направлению. Некоторые из современных писателей, незнакомые ему лично и даже предубежденные против его литературной деятельности (наприме, И.С. Тургенев), были любимыми авторами покойника, и всякую их хорошую вещь он приветствовал с полным радушием. Когда ему приходилось сходиться с каким-нибудь литератором, составившим себе известность за последние годы, Осип Иванович всегда оказывался и приветливым, и сообщительным. Но в его характере, и это мы знаем наверное, преобладающею особенностью всегда было то, что англичане называют shyness, то есть отчасти врожденная, отчасти развитая обстоятельствами трудность к сближению с другими людьми. Искать в ком-нибудь, подлаживаться к другому человеку он не мог бы ни за что на свете; но если обстоятельства сами сводили его с существом, достойным приязни, он его держался постоянно и в своих сношениях с ним иногда бывал очарователен. Мы помним ночные беседы и немноголюдные собрания, посреди которых покойный Сенковский любил давать волю своему остроумию, а остроумие это в изустным беседах по временам далеко оставляло за собой то замечательное остроумие, каким восхищались ревностные поклонники печатного барона Брамбеуса. Смело можно сказать, что воспоминания о подобных разговорах принадлежат к числу драгоценнейших воспоминаний нашей молодости. И сколько раз приходила нам в то время печальная мысль: и этот высокообразованный человек, с его светлым умом, с его ясным взглядом на вещи, с его терпимостью и пониманием жизни, человек, столько сделавший для русской словесности, гаснет посреди полного одиночества, им же вызванного, им же подготовленного! Память о годах, когда он все делал один и мог сам быть своим первым помощником, вредила Сенковскому очень много. В молодости ему было весело не нуждаться ни в ком, держать себя в стороне от молодого поколения, на сверстников своих глядеть с иронией, отчасти ими заслуженной. Но с годами пришли недуги и усталость, а здание, поддерживаемое столько лет одною, хотя очень сильною рукою, рухнуло с треском, чуть эта рука должна была опуститься”.
Отчасти в этом одиночестве умного человека виноваты и литературные нравы тридцатых годов.
О них можно сказать так: жестокие, сударь, были нравы. “Литература – общественное дело”. “Литература– отражение нашей жизни, ее, так сказать, святая святых”. “Литература – руководительница наших поступков”. Все это знаем мы с вами, читатель; но перенеситесь мысленно на 60 лет назад, забудьте все то, чему вы научились у Белинского и его преемников, и вы увидите, что наши элементарные истины – которым, впрочем, мы и сами не следуем, а только признаем их – были малодоступны даже для людей не без мысли в голове. Что же говорить о массе. Державинская точка зрения, что поэзия не хуже холодного лимонада в летний зной, была распространена и на литературу вообще. Литература должна развлекать. Это признавали и в это верили. Но это бы еще не беда. Хорошее развлечение всегда полезно. Гораздо печальнее, что до понимания литературы как общественного дела и общественной силы возвышались разве один из тысячи читателей и столько писателей, что их можно пересчитать по пальцам. Одни писали потому, что им пишется, другие потому, что как ни скромна литературная карьера, а все же карьера. Чего искать в ней? Успеха, денег, пищи для тщеславия. Восхвалить приятеля и разнести врага, хотя бы врага на зеленом поле, – этого не чуждались представители слова. А публика тем более повсюду и везде искала и видела личность.
В 1833 году, то есть накануне своего вступления на литературное поприще, Сенковский написал прелестный очерк “Личности”. “Однажды в шутку, – читаем мы, – закричал я на улице: “Вор, вор!.. Ловите!..” Десять человек оглянулись. Один из них, входя в питейный дом, проворчал так, что я сам расслышал: “Ну, как у нас позволяют говорить на улице такие личности!..” Мой приятель, барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которую давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом куропатки, – второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух: куропатки?… берет взятки! Шесть человек, порядочно одетых, вдруг окружили его, каждый спрашивает с грозным видом: “Милостивый государь! О ком изволите вы говорить? Это непозволительная личность”. В одной статье сказано было: “Есть люди, которые никогда не платят своих долгов”. Я прочитал эту статью поутру и глубоко вздохнул. Ввечеру прихожу в одно общество: там читают эту же статью, и первое слово, которое слышу в зале: “Боже мой! За чем смотрят у нас цензора?… Как можно пропускать такие личности!” Напиши или скажи какую-нибудь истину – из нее тотчас выведут тебе две сотни личностей. Это обыкновенный порядок вещей на свете, но порядок весьма глупый… Да, это сущая беда! нельзя даже упомянуть ни о какой человеческой слабости, ни о каком злоупотреблении в свете, чтобы кто-нибудь к вам не придрался. Всякая глупость имеет своих ревностных покровителей. Прошу покорнейше не говорить ни слова об этой странности: она состоит под моею защитой. Как вы смеете, сударь, насмехаться над этим пороком?… Я им горжусь: это моя неприкосновенная собственность… Недели две тому назад написал я статью о дураках. Две тысячи пятьсот восемьдесят семь человек подписали на меня формальную жалобу на предлинном листе бумаги, нарочно заказанном ими на петергофской фабрике, и подали ее по команде. Я не видел этого прошения, но говорят, что оно семью саженями, аршином и девятью вершками длиннее того, которое герцог Веллингтон поднес английскому королю от имени всей партии тори против билля о преобразовании парламента. Начальство, рассмотрев мою статью, не нашло в ней ничего предосудительного и отказало им в предмете жалобы. Огорченные неудачей, все они привалили ко мне требовать личного для себя удовлетворения. Улица была наполнена ими с одного конца до другого; на моей лестнице народ толпился точно так же, как на лестнице, ведущей в аукцион конфискованных товаров. Все они в один голос вызывали меня на дуэль…”
Такова была публика. А господа литераторы? Хуже или лучше? Припомним, как травили они “Московский телеграф” Полевого, потом “Отечественные записки”, травили, не давая отдыха и срока, травили упорно, с ненавистью, с ожесточением. Не о полемике уже надо говорить, а просто о ругани, в случае недостаточности которой прибегали к доносам. Какие времена, такие и нравы. Само собою разумеется, что направление тут было ни при чем. Травили не “представителя идеи”, а литературного конкурента, личного недруга. Все равно как ссорились и мирились в жизни, так ссорились и мирились в литературе.
“Личность” – вот что губило ее.
Припомним один характерный эпизод. В 1841 году была дана на сцене великолепная опера Глинки “Руслан и Людмила”. Булгарин и компания сговорились провалить это гениальное произведение во что бы то ни стало. Никому не интересно, какими мотивами они руководствовались, но очевидно, что эти мотивы были очень невысокой пробы. Сговорились и сделали. Со свойственной ему развязностью Булгарин заявил в своей “Северной пчеле”, что новое произведение Глинки ниже всякой критики. Дикий отзыв, но этот отзыв мог иметь последствия, так как Булгарина слушали. Узнав о его выходке, Сенковский решился заступиться за великого человека и его дело, что и исполнил с большим воодушевлением. “Мы имеем в Глинке один из огромнейших талантов, которые только существовали в музыке и владели орудиями звука”,– писал он. “Четвертый акт, – читаем мы дальше, – колоссальное создание, которое навсегда останется в музыке памятником того, что может сделать великий талант со звуками, гаммами и инструментами и как все тут повинуется могучей воле”.
Эпизод любопытный, но по тому времени настолько обыденный, что на него никто даже не обратил внимания. Это было в порядке вещей. И для полноты характеристики этого порядка позволю себе привести следующее письмо Сенковского к Ахматовой:
“Вы, – пишет он, – так милы, что хотите даже ненавидеть Булгарина. Благодарю вас за этот пленительный порыв дружбы вашей, но Булгарин не стоит ни любви, ни ненависти. Это человек без характера, без всякого правила в поведении, несчастная игрушка своих собственных страстей, которые попеременно делают его то ужасным, то смешным, то довольно порядочным. В одно и то же мгновение он в состоянии сделать и величайшую низость, и прекрасный подвиг благородства, сам вовсе не зная этого.
Я давно принял с ним и его братией роль хладнокровного наблюдателя, которого уже не обижают их мерзости, но который всегда готов отдать справедливость их хорошим сторонам. Эта роль бесит их. Они называют меня гордецом, прославили человеком неприступным, надменным, возмутили против меня целую тучу завистливых посредственностей, которая терзала и еще терзает меня своей глупою злобою и всеми гнусностями клеветы. Но моя неколебимость в предначертанной себе роли побеждает все эти мутные волнения мелочных и грязных страстей: когда я захочу, они все-таки сделают по-моему и тотчас смиряются, чтобы помириться со мною. Я обыкновенно довольствуюсь тем, что, удостоверившись во власти своей над ними, снова делаюсь для них неприступным и держу их в отдалении от себя. Тогда они снова начинают бранить меня; а я этого и хочу. Мне это очень нужно. Я не могу смешиваться с ними и не желаю, чтобы смешивали меня с такими людьми в публике. Оттого вы видите, что все наши журналы попеременно то поносят меня, то восхищаются мною. Когда я ласков с которым-нибудь из них, тотчас является в нем великолепная похвала моему уму, моим познаниям и прочая. Но для меня не выгодно, чтобы эти люди долго хвалили меня: порядочная часть публики тотчас подумала бы, что я уже веду с ними дружбу и компанию. Дав им время явиться моими льстецами, я вдруг оборачиваюсь к ним спиною – и они в бешенстве снова начинают терзать меня до новой вежливости с моей стороны. Это – моя забава и моя тактика. Независимость моего положения дает мне все средства играть с ними эту немножко жестокую комедию, но они не стоят ничего лучшего: они вполне заслуживают ее.
Для нее я даже жертвую очень многим, между прочим и моим состоянием. Но иначе нельзя! Они думают, все думают, что я очень богат. Я один знаю, что это неправда: но пусть их думают!.. Это располагает их к готовности продать себя мне при первом изъявлении с моей стороны охоты купить их, и таким образом я всегда в состоянии показать свету всю меру их низости, всю причину их злобы и их раболепства. Когда мне нужно сорвать маску ожесточения с которого-нибудь из этих людей, я умею очень искусно бросить ему поживу, пять, десять тысяч рублей, – и он у ног моих, пока я сам не оттолкну его. О! Они дорого мне стоят! Но надо выдержать свою роль”.
* * *
Пора нам, однако, после всех этих приготовительных разъяснений обратиться к главнейшему и дать характеристику “Библиотеки для чтения”. Перед нами более ста томов журнала, из которых каждый – плоть от плоти и кость от кости самого Сенковского. Признаемся, мы не без уважения просматривали их. Мирно и спокойно стоят они теперь в библиотеке, плотно прижатые друг к другу, все в переплетах, с пожелтевшими, запятнанными страницами. Изредка тревожит их рука специалиста или такого случайного работника, как я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствует в них ни малейшей надобности. Груды книг вырастают возле них, над ними, внизу, и эти небольшие тома с каждым годом все более и более теряются среди новых пришельцев. Их дело сделано, покончены все расчеты, итог подведен, и, молчаливые свидетели прошлого, они не имеют достаточно внутренней силы, чтобы хоть чем-нибудь заявить о себе новым поколениям. А ведь было время, когда выход каждой из этой сотни книжек ожидался с нетерпением, когда торопливые руки нервно разрезали страницы и добродушный читатель с невольной улыбкой, выражавшей предчувствие удовольствия, набрасывался на литературную летопись или критические статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Как замирающее эхо, доносятся до нас восторги читателей барона Брамбеуса, тот говор и шум, который возбуждала “Библиотека”; спокойные и забытые стоят ее тома. Habent sua fata libelli[4 - Книги имеют свою судьбу (лат.).] – родятся и умирают, и одна из сотни тысяч достигает бессмертия…
“Библиотека для чтения” – журнал Сенковского. Это, повторяем, плоть от плоти его; он сам появляется перед нами на каждой странице, и, зная его, мы уже предчувствуем, что должны содержать они. Мы видели, что у Сенковского было достаточно данных, чтобы стать хорошим редактором, таким же вышел и его журнал.
У редактора-энциклопедиста журнал не мог не быть энциклопедическим: наука, иностранная словесность и “смесь” – вот те отделы, в которые Сенковский вложил всю свою душу. Он был несколько англоман, особенно в литературе. Новую французскую школу он недолюбливал и даже энергично преследовал ее, доходя подчас до странного и неприличного, в сущности, вышучивания таких крупных величин, как Жорж Санд. Эту последнюю он именовал не иначе, как г-жа Егор Занд. Ему больше нравилась английская литература с ее спокойным анализом человеческого сердца, и почти все лучшие ее произведения появлялись в “Библиотеке”. Постоянно встречаем мы переводы из Колриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервиль и так далее. Немало и статей посвящено этим талантливым писателям, так что в общем читатели “Библиотеки” могли быть благодарны ее редактору. В “смеси” печатались каждый месяц краткие обозрения новостей английской и французской литератур с библиографическими списками появившихся на рынке книг. В отделе наук, особенно интересном и разнообразном, Сенковский знакомил публику со всеми открытиями и новинками в области положительных знаний. Вот не лишенный интереса список главнейших научных статей в первых 25-ти томах “Библиотеки”:
1. О мире и его создателе (доводы положительных наук в пользу бытия Божия).
2. Земной шар до потопа (по Кювье).
3. Магнетизм земного шара.
4. Теплота земного шара.
5. Двойные звезды.
6. Галлеева комета.
7. Начало рек и ключей.
Но мимо всего этого. Не будем наполнять страницы малоинтересными, ничуть для Сенковского не характерными деталями. Биография такого размера, как наша, по необходимости превращается в характеристику, сам же Сенковский интересен для нас прежде всего как журналист. Заметим только, что в результате упорных ученых занятий появился вполне по-европейски образованный человек, о громадных познаниях которого вот что между прочим говорит Дружинин:
“Во всей современной ему (Сенковскому) русской литературе не находилось человека, который в качествах, необходимых для журналиста, мог бы соперничать с основателем “Библиотеки для чтения”. По высокому, солидному, многостороннему образованию Сенковский мог назваться первым из первых литераторов своего времени. Кроме языков древних и восточных, он знал в совершенстве языки: русский, французский, английский, итальянский и польский; кроме глубоких сведений по отрасли наук, которым преимущественно посвятил он свои занятия в молодости (восточные языки и восточная литература), он имел обширные познания в науках естественных и политических. Читая беспрестанно и владея удивительною памятью, Осип Иванович, когда еще его здоровье допускало “излишество труда”, следил за всеми не только первостепенными, но и второстепенными и третьестепенными явлениями современной науки и словесности. Он мог беседовать с первоклассным медиком и удивлять его своими познаниями в области медицинских наук; первостепенные европейские виртуозы отдавали справедливость его парадоксальным, но глубоким взглядам на сокровенные законы их искусства; экономист, разговаривая с Осипом Ивановичем, видел, что ему знакомы труды всех европейских, особенно английских писателей по части политической экономии. Понятно, что при обладании такими средствами Сенковский мог вести и вел свое периодическое издание несравненно лучше, чем его сверстники вели свои журналы”.
Для характеристики же литературной деятельности Сенковского в это время скажем несколько слов по поводу его “Фантастических путешествий”.
Признаюсь, я лично с величайшим удовольствием перечитал “Фантастические путешествия барона Брамбеуса”. Очевидно, что тема их как нельзя более подошла к таланту автора и он справился с нею легко и свободно. Сенковский в этом своем произведении добился того, о чем мечтает каждый писатель: полной, ничем не стесненной свободы. Он играет своим предметом будто мячиком: то отбросит от себя в сторону, то поймает опять и прижмет к себе крепко-крепко. Иногда на протяжении целых страниц он как будто забывает о теме, рассуждает о том, что пришло в голову, рассуждает бойко, остроумно, потом, точно спохватившись, с улыбкой возвращается к рассказу и продолжает его с прежней легкостью. Мне лично как нельзя более по душе эта независимость ума, эта гибкость игривой фантазии, эта способность быстро переходить от одного настроения к другому. Не буду вызывать великие тени Рабле, Монтеня, Вольтера, чтобы поставить рядом с ними Сенковского и тем польстить ему. Конечно, он много, слишком даже много ниже их, но в нем есть кое-что общее с этими недосягаемыми представителями умственной гибкости, общее по типу, а не по степени. Хотите послушать, как острит барон Брамбеус? Вот, например, его отзыв об иероглифах: “В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток и даже сам открыл половину одной египетской дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, г-н Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону, но это не должно никого приводить в смущение, и спор двух ученых мужей я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, как изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе как по нашей методе; изобретенная же г-ном Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где – и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь дела. Суть же нашей системы сводится к тому, что всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая то или другое понятие, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему”. За это и подобные ему места барона Брамбеуса упрекали в неуважении к науке. Помилуйте, как можно не верить в науку? – восклицала критика. Однако если начать упрекать Сенковского за неверие, то придется делать это в отношении не только науки, а чего-то гораздо большего. Фантастические путешествия насквозь проникнуты скептицизмом. Остановимся на одном из них – ученом.
Сюжет его следующий.
Сам автор, доктор философии Шпурцманн и обер-берг-пробирмейстер 7 класса Иван Антонович Страбинский после долгой поездки по реке Лене прибыли наконец к ее устью. Ехали довольно весело. “Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, доктора Шпурцманна, согнутого дугою, на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты принимали его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались его заставить хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки. Те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием, еще более оказывали ему почтения и настоятельнее просили изгонять из них чертей”. После подобного рода комических эпизодов путешественники прибыли к устью великой сибирской реки и тут, к немалому своему изумлению, наткнулись на высокую скалу, все стены которой были исписаны таинственными знаками. Любопытство овладело ими, бессмертие и слава мерещились им, и они принялись разбирать надписи. К счастью, знаки оказались иероглифами, а читать их, как мы видели, “очень просто”. Каков же был восторг путешественников, когда, прочтя несколько слов, они убедились, что перед ними рассказ человека – очевидца большого потопа. Этот рассказ – целый роман с прихотливыми сплетениями любовной интриги, трагическими описаниями смерти, остроумными монологами ученых педантов…
В той свободе, с которой Сенковский отдавался своему настроению, так легко и смело переходил от одной картины к другой, есть много увлекательного. Он острит, шутит, смеется на каждой странице, не всегда даже знает меру остроумия, но стоит только. заглянуть за прихотливые арабески фантазии, вникнуть в смысл рассказа – и перед нами развертывается настоящая трагическая эпопея.
Веселое общество, не мучимое никакими тревогами и сомнениями, легкомысленное и детски наивное, занятое игрой своих страстей, своего самолюбия и тщеславия, живет, изо дня в день повторяя исстари заведенную песню. Влюбляются, ревнуют, враждуют, сердятся, смеются – и тянется целые годы и века маленькое, пошлое существование. Перед читателем выступают: ученый колпак-астроном Шимшик, для которого в жизни нет более серьезной цели, как доказать, что его противник ошибается; легкомысленная и легкокрылая Саяна, хорошенькая кокетка, вся погруженная в любовные интриги; целая коллекция бездельных[3 - праздных, пустых, ничтожных, не стоящих внимания (Словарь 3. Даля)]юных джентльменов и домовитых стариков. Что за бестолковая, что за бессмысленная жизнь! Один собирает археологические коллекции, другой по уши погрузился в гастрономию, третий – в свои страсти, четвертый – в наряды, балы, развлечения. И ни у кого нет мысли, что так жить нельзя, что есть что-то великое и таинственное в земном бытии человека… И вдруг на это праздное, легкомысленное общество надвигается смерть. Неожиданно явилась она, принесенная кометой, неожиданно взбунтовались воды и суша. Города разрушены, все низменности залиты водой, люди в ужасе спасаются на высоких местах, но вода медленно и неотвратимо подбирается к ним.
Два человека спаслись от потопа на высокой скале. Один – это тот, кто оставил описание потопа, другой – кокетливая, хорошенькая Саяна. Вот маленькая заключительная сценка: “Я пытался, однако же, доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришедши в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиной и так провели двое суток. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя. “Саяна, – воскликнул я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальные думы. – Саяна!.. Посмотри!.. Вода уже потопила вход в пещеру”. Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами. “Видишь ли эту воду, Саяна? То наш гроб”. Она все еще смотрела, страшно, недвижно, молча и как будто ничего не видя. “Ты не отвечаешь, Саяна?!” Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно-сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала на мою руку; я с умилением погружал взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы брызнули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста – и она с жадностью проглотила их, чтобы утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти, в этом положении. Когда я очнулся, она была уже холодна, как мрамор… Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастная Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?… Ты не знала этой нежной, роскошной страсти. Нет, ты ее не знала и родилась женщиною только из тщеславия… Я, однако же, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я целовал тело ее страстными поцелуями. Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое мягкое тело, которое осыпал поцелуями… Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене…”
Читатель, наверное, кое-что и сам слыхал о Сенковском, и большая часть этого “кое-что”, надо думать, не особенно лестная. Но отдадим ему должное: в нем был несомненный поэтический талант, по крайней мере вначале, пока не задушила его постоянная журнальная работа. Ему присущи были и глубокие мысли, и если хотите убедиться в этом, то посмотрите его повесть “Любовь и смерть” или то же самое путешествие на ученый остров, которое нам пришлось передать лишь вкратце. Мысль этого произведения – большая мысль; не она ли представлялась Гоголю, когда он писал в своей памятной книжке: “Город… пустословие… сплетни… праздная жизнь, пустая и ничтожная… И вдруг является смерть – непрошеный гость – откуда-то… Выхватывает жертву… Недоумевают и принимаются за старое…”
Та же мысль воодушевила Сенковского. Не всякое время симпатизирует ей, не во всякую эпоху привлечет она внимание. Но это большая мысль, в которой видна частичка вечной проблемы, заданной человеку: “Зачем он здесь, на земле?” Надо быть поэтом, надо иметь глубину душевную, чтобы проникнуться ею…
ГЛАВА III
В конце 1833 года появилось от имени Смирдина объявление об издании “Библиотеки для чтения”. Редакторами журнала названы были Н.И. Греч и О.И. Сенковский, сотрудниками – почти все литературные известности, числом до шестидесяти. Журнал должен был выходить с января 1834 года книжками около 20 печатных листов. По содержанию он разделялся на семь отделов: русская словесность, словесность иностранная, науки и художества, промышленность и сельское хозяйство, критика, литературная летопись и, наконец, “смесь”. Учредители обещали остаться вне партий, не входить в споры с другими журналами, не отвечать на выходки и критику, не принимать антикритику.
Нельзя не согласиться, что время для издания нового журнала было выбрано как нельзя более удачно: “Московский телеграф” только что замолчал, между тем как шум, произведенный его блестящей карьерой и неожиданной гибелью, еще не улегся; он первый приучил публику к журналу, и после него осталось пустое пространство, заполнить которое и взялась “Библиотека для чтения”. Далее мы увидим, как исполнила она свою задачу, пока же заметим, что между нею и ее предшественником была серьезная разница, что видно, между прочим, и из приведенного выше объявления. “Московский телеграф” был журнал боевой, с неособенно широкими, но вполне определенными целями, его редактор – Н.И. Полевой – сумел соединить свои симпатии и антипатии с общественными движениями; под прикрытием литературной критики и романтического направления “Московский телеграф” зачастую затрагивал очень серьезные общественные вопросы; он, наконец, был органом известного направления. Не то “Библиотека для чтения”. С первого своего появления она выставила энциклопедическую программу, которой и держалась худо или хорошо до конца своих дней. Отметим еще одну характерную сторону объявления: журнал обещал оставаться вне партий и не вступать ни в какую полемику. Не совсем ясно, на какие партии делается намек, ибо в то время никаких партий не было да и быть не могло, так как начальство очень подозрительно к ним относилось и предпочитало единодушие, а в случае надобности даже настаивало на нем; но все же, повторяю, это торжественное обещание – быть вне партий – характерно и наряду с прочим должно было говорить об энциклопедическом характере будущего журнала. Нежелание полемизировать указывало, с одной стороны, на попытку собрать если и не под одним знаменем, то, по крайней мере, в одном месте все литературные силы, а с другой стороны, – успокоить публику, которой все эти литературные дрязги начали уже приедаться. Ведь если припомнить, что критиками и антикритиками наполнялись в то время целые журнальные тома; что “Московскому телеграфу” приходилось даже издавать особенные полемические приложения; что литераторы грызли друг друга совсем не по-человечески; что читателю случалось встречать целые десятки страниц, посвященных “безграмотству” такого-то, на которых доказывалось, что такой-то – оставляя уже в стороне вопрос о его добродетели и нравственных качествах вообще – не умеет писать по-русски, не понимает правил, относящихся к расстановке знаков препинания и пр., и пр.; что подобного рода нападки опровергались, вызывали новые нападки и новые опровержения, – то ясно, что как ни прост был читатель того времени, а все же ему приходилось нелегко.
“Библиотека для чтения”, оставляя в стороне полемику и антикритику, обещала прежде всего быть интересной и разнообразной. Предполагался, по-видимому, ежемесячный альманах, в котором каждый мог бы найти все, что ему по вкусу и по силам разумения. Публика отнеслась к этому с полным сочувствием. Накануне нового года появилась первая книжка “Библиотеки для чтения” и произвела большое впечатление. Начиная с объема и наружности, все превосходило ожидания. Вместо 20 обещанных листов дано было 40, книга была напечатана в лучшей типографии, на хорошей бумаге, не то что серобумажные журналы того времени, к которым как нельзя более применимы слова лермонтовского читателя:
И я скажу – нужна отвага,
Чтобы открыть… хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Она, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток…
Читаешь – сотни опечаток…
В книге фигурировали все знаменитости. Мы встречаем имена Пушкина, Жуковского, Козлова, Греча, Булгарина, Полевого, Погодина и других. Сам Сенковский для первого номера дал научную статью о скандинавских сагах, остроумную и оригинальную повесть под названием “Вся женская жизнь в нескольких часах”, где очень талантливо рассказана судьба какой-то бедной институтки, влюбившейся в шалопая, и критическую статью, бойко опровергавшую все правила всех риторик и пиитик.
С этой поры началась поразительная по объему и разнообразию журнальная деятельность Сенковского. “Библиотеку для чтения” он сразу забрал в свои руки и стал единовластно распоряжаться ею. Он не жалел себя, своего здоровья, своих сил, был единственным редактором и единственным сотрудником. Полная тревог и волнений, кропотливой и спешной работы жизнь журналиста увлекала его. Он чувствовал, что это истинное его призвание, и всем жертвовал для него. Потребуются десятки страниц, чтобы перечислить только заголовки его статей; едва-едва умещаются статьи эти в десяти томах. Но это, конечно, только часть работы – и притом меньшая часть. Другая, неизмеримо большая – работа редактора, – теперь едва заметна и так хорошо забыта, что трудно и напомнить о ней.
Кроме Сенковского “Библиотека для чтения” имела еще ответственных перед правительством редакторов, в первый год известного грамматиста Н.И. Греча, во второй – Крылова. Но ни тот, ни другой никакого участия в деле не принимали, и о редакторстве последнего “Библиотека для чтения” извещала читателей (в октябре 1835 года) в следующих выражениях: “За кометой мы совсем забыли одно обстоятельство, о котором давно следовало известить наших читателей: еще с мая месяца “Библиотека для чтения” лишилась лестного руководства, которое принял было на себя знаменитый наш поэт И.А. Крылов. Преклонность лет не дозволила ему продолжать мучительных занятий редактора”. Когда Сенковский получил наконец разрешение объявить себя гласно редактором, он сделал это (в августе 1836 года) в следующих словах: “Для отклонения неуместных догадок и толков считаем нужным сказать откровенно, что с самого начала существования этого журнала, как то почти всем известно, настоящим его редактором был всегда сам директор и общий с издателем владелец его, О.И. Сенковский, и что никто в свете, кроме г-на Сенковского, не имел ни малейшего влияния на состав и содержание “Библиотеки для чтения”. Все ее недостатки, равно как и все достоинства, если какие были, должны быть приписаны ему одному. Те, которые носили звание редакторов “Библиотеки для чтения”, слишком невинны в ее недостатках, чтобы отвечать за них перед публикой, и слишком благородны, чтобы требовать для себя похвалы за достоинства, в которых они не имели никакого участия. Весь круг их редакторского действия ограничивался чтением третьей, последней корректуры уже готовых, оттиснутых листов, набранных в типографии по рукописям, которые никогда не сообщались им предварительно. Те из них, которые притом давали свои статьи, давали их как сотрудники, а не как редакторы, и помещение этих статей зависело вполне от директора журнала. О.И. Сенковский, убедясь двухлетним опытом, что этого рода содействие посторонних редакторов нисколько не облегчало его в мучительных трудах директора, по согласию с издателем решился соединить с званием директора “Библиотеки для чтения” звание ее редактора, которого по-настоящему он нес все главные обязанности. Вот и все!”
Сенковский в этих строках отнюдь не преувеличивал своей роли. “Библиотеку для чтения” он смело мог назвать своим собственным журналом. Как редактор он был положительно неутомим. “У меня, – говорил он впоследствии, – было немало хлопот по журналу; я был и редактором, и сотрудником, и корректором, и подчас переводчиком”. Сенковский работал с юношеским жаром, нисколько не заботясь о своем здоровье и даже о будущем. Он весь отдавался минуте, вечно сидел у себя в кабинете, зарывшись в книги и рукописи, и отдыхал всего-навсего один или два дня в продолжение месяца. Ни одна статья, ни одна самая крошечная заметка не миновала его рук. Он выбирал статьи для переводов, для чего читал до двадцати иностранных журналов и газет; затем просматривал, изменял, дополнял сделанные переводы; вновь пополнял их в корректурах и при всем том находил время писать собственные статьи для всех отделов журнала: за один лишь первый год существования “Библиотеки для чтения” они составили более 60 печатных листов, или около 1000 страниц. Работа увлекала его, тем более что эта работа сопровождалась огромным успехом. И днем, и ночью он не отрывался от письменного стола, пока не доводил до конца заданного себе труда, и ложился лишь после совершенного утомления или даже изнеможения. Накануне выхода книжки проводил он день и ночь часто в типографии, чтобы быть уверенным в непременном появлении ее первого числа, и затем только успокаивался и позволял себе отдохнуть один или два дня. На третий уже начиналась та же мучительная работа для следующей книжки. Не говоря уже о статьях, назначенных к извлечению из иностранных журналов, и все оригинальные статьи, не подписанные известным в литературе именем, проходили через редакцию Сенковского, то есть получали форму и изложение, усвоенные им для своего журнала. Сенковский, вообще говоря, с сотрудниками не церемонился. В своем журнале он был настоящим деспотом, который свое “telle est ma volontе” (такова моя воля) ставил всегда на первый план. Даже повести и рассказы второстепенных писателей подвергались нередко большим изменениям. Не раз случалось, что Сенковский даже не дочитывал рукописей: повесть нравилась ему по сюжету, в голове его рождалась при ее чтении счастливая мысль, – он отдирал конец рукописи и приписывал свой. Авторы, естественно, обижались и имели, надо сознаться, полное на это основание. Об иностранных сочинениях нечего, конечно, и говорить: те всегда представлялись читателю в измененном, исправленном и дополненном виде; выбрав роман или ученое сочинение для перевода на русский язык, Сенковский обыкновенно сокращал его во время самого чтения, вычеркивал растянутые и ненужные места, связывал статью своими приписками и вставками всегда на том же языке, на котором она была написана, и только тогда отдавал ее переводчику. “Любопытно было видеть иные статьи в книжках французских и английских журналов все перечеркнутые, с массою приписок, сделанных четкою рукою Сенковского на полях и сверх того иногда на особых вложенных листочках, так что из иностранной статьи не оставалась нетронутой ни одна строка”. И таких статей было множество в “Библиотеке для чтения”. Все они печатались без подписи и имени, иногда с обозначением двух или трех журналов, из которых были взяты; иногда – если это была повесть или рассказ – с псевдонимом вместо имени. Эти неблагодарные труды редактора были секретом его мастерской, публика о них не знала и не могла их ценить, хотя все видели единство духа, направления, формы и изложения во всех статьях журнала, как будто все они были написаны одной рукой – что и недалеко от истины.
Словом, с точки зрения трудолюбия и редакторской техники Сенковский заслуживает настоящего панегирика. Но нужна ли была такая гигантская работа и не вредила ли она, в сущности, делу? Правда, много можно говорить и еще более можно спорить о пределах редакторской власти; но, как кажется, фанатизм, доведенный в этом случае до крайности, едва ли особенно полезен. Направление – дело редакции, это очевидно; но надевать на сотрудников кандалы, заставлять их маршировать по определенному шаблону, стремиться к полному казарменному однообразию – это значит хватать через край. Никогда никакое самолюбие, тем более самолюбие литературное, не согласится на такую ферулу и опеку. Настоящий писатель дорожит каждой своей буквой и словом, и слишком деспотическому редактору всегда в конце концов придется окружать себя второ– и третьестепенностями или даже остаться в одиночестве, что и случилось с Сенковским. Авторы истерзанных, сокращенных и совсем переделанных статей оскорблялись, нередко протестовали в газетах и только в случае крайней необходимости возвращались в “Библиотеку для чтения”.
Но с деспотизмом великого человека можно еще примириться, лишь бы этот деспотизм происходил от величия, одушевленного верой, пусть даже фанатической, лишь бы в нем не было ничего капризного и произвольного, чем, по нашему мнению, зачастую грешил О.И. Сенковский. Поэтому-то, думается нам, возможно воспевать ему панегирики как редактору за трудолюбие, но, очевидно, слишком мало одного трудолюбия для такого сложного и громадного дела, как издание журнала. Мало даже знания, искусства, умения; нужно нечто большее, и это большее – нравственная сила.
Труд редактора – совсем не механический труд. С громадным запасом сведений, с чутьем к интересному и разнообразному можно издавать хороший альманах, прекрасный энциклопедический словарь, но никак не журнал или газету. В глазах своих сотрудников редактор должен быть настоящим героем, и чем выше проба этого героизма – тем лучше. Никаких сил одного человека, никакого его трудолюбия не хватит для ежемесячного издания. Только окружив себя лучшими литературными силами, только сумев воспитать их и вдохновить в нужном направлении, он может рассчитывать на действительный успех. Что такое один он? Пускай он работает 24 часа в сутки, перечитывает все журналы и газеты, сам переводит, сам корректирует – этого недостаточно; при подобных условиях его дело умрет, как бы успешно ни пошло оно вначале. Редакторский труд гораздо сложнее, он сводится к умению одушевлять и вдохновлять. Быть настоящим, а не мнимым центром литературного кружка, быть лучшим выразителем принятого направления, первым и преданнейшим защитником водруженного знамени, быть объединителем в широком смысле слова – вот что, по-нашему, значит быть редактором.
Этого-то совсем недоставало Сенковскому. Почему? Послушаем Дружинина.
“Трудно, – говорит он, – объяснить с достоверностью причины того литературного одиночества, которого постоянно держался Сенковский и которое по временам вводило его в странные и безвыходные положения; но нам кажется, что в одиночестве этом не было ничего преднамеренного или исходящего из пренебрежения к другим литераторам. Мы знали Осипа Ивановича около десяти лет и во все эти десять лет не подсмотрели в его характере никакой неуживчивой особенности, не подслушали в его разговорах о литературе чего-нибудь очень враждебного новому ее направлению. Некоторые из современных писателей, незнакомые ему лично и даже предубежденные против его литературной деятельности (наприме, И.С. Тургенев), были любимыми авторами покойника, и всякую их хорошую вещь он приветствовал с полным радушием. Когда ему приходилось сходиться с каким-нибудь литератором, составившим себе известность за последние годы, Осип Иванович всегда оказывался и приветливым, и сообщительным. Но в его характере, и это мы знаем наверное, преобладающею особенностью всегда было то, что англичане называют shyness, то есть отчасти врожденная, отчасти развитая обстоятельствами трудность к сближению с другими людьми. Искать в ком-нибудь, подлаживаться к другому человеку он не мог бы ни за что на свете; но если обстоятельства сами сводили его с существом, достойным приязни, он его держался постоянно и в своих сношениях с ним иногда бывал очарователен. Мы помним ночные беседы и немноголюдные собрания, посреди которых покойный Сенковский любил давать волю своему остроумию, а остроумие это в изустным беседах по временам далеко оставляло за собой то замечательное остроумие, каким восхищались ревностные поклонники печатного барона Брамбеуса. Смело можно сказать, что воспоминания о подобных разговорах принадлежат к числу драгоценнейших воспоминаний нашей молодости. И сколько раз приходила нам в то время печальная мысль: и этот высокообразованный человек, с его светлым умом, с его ясным взглядом на вещи, с его терпимостью и пониманием жизни, человек, столько сделавший для русской словесности, гаснет посреди полного одиночества, им же вызванного, им же подготовленного! Память о годах, когда он все делал один и мог сам быть своим первым помощником, вредила Сенковскому очень много. В молодости ему было весело не нуждаться ни в ком, держать себя в стороне от молодого поколения, на сверстников своих глядеть с иронией, отчасти ими заслуженной. Но с годами пришли недуги и усталость, а здание, поддерживаемое столько лет одною, хотя очень сильною рукою, рухнуло с треском, чуть эта рука должна была опуститься”.
Отчасти в этом одиночестве умного человека виноваты и литературные нравы тридцатых годов.
О них можно сказать так: жестокие, сударь, были нравы. “Литература – общественное дело”. “Литература– отражение нашей жизни, ее, так сказать, святая святых”. “Литература – руководительница наших поступков”. Все это знаем мы с вами, читатель; но перенеситесь мысленно на 60 лет назад, забудьте все то, чему вы научились у Белинского и его преемников, и вы увидите, что наши элементарные истины – которым, впрочем, мы и сами не следуем, а только признаем их – были малодоступны даже для людей не без мысли в голове. Что же говорить о массе. Державинская точка зрения, что поэзия не хуже холодного лимонада в летний зной, была распространена и на литературу вообще. Литература должна развлекать. Это признавали и в это верили. Но это бы еще не беда. Хорошее развлечение всегда полезно. Гораздо печальнее, что до понимания литературы как общественного дела и общественной силы возвышались разве один из тысячи читателей и столько писателей, что их можно пересчитать по пальцам. Одни писали потому, что им пишется, другие потому, что как ни скромна литературная карьера, а все же карьера. Чего искать в ней? Успеха, денег, пищи для тщеславия. Восхвалить приятеля и разнести врага, хотя бы врага на зеленом поле, – этого не чуждались представители слова. А публика тем более повсюду и везде искала и видела личность.
В 1833 году, то есть накануне своего вступления на литературное поприще, Сенковский написал прелестный очерк “Личности”. “Однажды в шутку, – читаем мы, – закричал я на улице: “Вор, вор!.. Ловите!..” Десять человек оглянулись. Один из них, входя в питейный дом, проворчал так, что я сам расслышал: “Ну, как у нас позволяют говорить на улице такие личности!..” Мой приятель, барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которую давно уже искал. Первый стих его оканчивался словом куропатки, – второго никак не мог он состряпать. Вдруг представляется ему рифма, и он, забывшись, произносит ее вслух: куропатки?… берет взятки! Шесть человек, порядочно одетых, вдруг окружили его, каждый спрашивает с грозным видом: “Милостивый государь! О ком изволите вы говорить? Это непозволительная личность”. В одной статье сказано было: “Есть люди, которые никогда не платят своих долгов”. Я прочитал эту статью поутру и глубоко вздохнул. Ввечеру прихожу в одно общество: там читают эту же статью, и первое слово, которое слышу в зале: “Боже мой! За чем смотрят у нас цензора?… Как можно пропускать такие личности!” Напиши или скажи какую-нибудь истину – из нее тотчас выведут тебе две сотни личностей. Это обыкновенный порядок вещей на свете, но порядок весьма глупый… Да, это сущая беда! нельзя даже упомянуть ни о какой человеческой слабости, ни о каком злоупотреблении в свете, чтобы кто-нибудь к вам не придрался. Всякая глупость имеет своих ревностных покровителей. Прошу покорнейше не говорить ни слова об этой странности: она состоит под моею защитой. Как вы смеете, сударь, насмехаться над этим пороком?… Я им горжусь: это моя неприкосновенная собственность… Недели две тому назад написал я статью о дураках. Две тысячи пятьсот восемьдесят семь человек подписали на меня формальную жалобу на предлинном листе бумаги, нарочно заказанном ими на петергофской фабрике, и подали ее по команде. Я не видел этого прошения, но говорят, что оно семью саженями, аршином и девятью вершками длиннее того, которое герцог Веллингтон поднес английскому королю от имени всей партии тори против билля о преобразовании парламента. Начальство, рассмотрев мою статью, не нашло в ней ничего предосудительного и отказало им в предмете жалобы. Огорченные неудачей, все они привалили ко мне требовать личного для себя удовлетворения. Улица была наполнена ими с одного конца до другого; на моей лестнице народ толпился точно так же, как на лестнице, ведущей в аукцион конфискованных товаров. Все они в один голос вызывали меня на дуэль…”
Такова была публика. А господа литераторы? Хуже или лучше? Припомним, как травили они “Московский телеграф” Полевого, потом “Отечественные записки”, травили, не давая отдыха и срока, травили упорно, с ненавистью, с ожесточением. Не о полемике уже надо говорить, а просто о ругани, в случае недостаточности которой прибегали к доносам. Какие времена, такие и нравы. Само собою разумеется, что направление тут было ни при чем. Травили не “представителя идеи”, а литературного конкурента, личного недруга. Все равно как ссорились и мирились в жизни, так ссорились и мирились в литературе.
“Личность” – вот что губило ее.
Припомним один характерный эпизод. В 1841 году была дана на сцене великолепная опера Глинки “Руслан и Людмила”. Булгарин и компания сговорились провалить это гениальное произведение во что бы то ни стало. Никому не интересно, какими мотивами они руководствовались, но очевидно, что эти мотивы были очень невысокой пробы. Сговорились и сделали. Со свойственной ему развязностью Булгарин заявил в своей “Северной пчеле”, что новое произведение Глинки ниже всякой критики. Дикий отзыв, но этот отзыв мог иметь последствия, так как Булгарина слушали. Узнав о его выходке, Сенковский решился заступиться за великого человека и его дело, что и исполнил с большим воодушевлением. “Мы имеем в Глинке один из огромнейших талантов, которые только существовали в музыке и владели орудиями звука”,– писал он. “Четвертый акт, – читаем мы дальше, – колоссальное создание, которое навсегда останется в музыке памятником того, что может сделать великий талант со звуками, гаммами и инструментами и как все тут повинуется могучей воле”.
Эпизод любопытный, но по тому времени настолько обыденный, что на него никто даже не обратил внимания. Это было в порядке вещей. И для полноты характеристики этого порядка позволю себе привести следующее письмо Сенковского к Ахматовой:
“Вы, – пишет он, – так милы, что хотите даже ненавидеть Булгарина. Благодарю вас за этот пленительный порыв дружбы вашей, но Булгарин не стоит ни любви, ни ненависти. Это человек без характера, без всякого правила в поведении, несчастная игрушка своих собственных страстей, которые попеременно делают его то ужасным, то смешным, то довольно порядочным. В одно и то же мгновение он в состоянии сделать и величайшую низость, и прекрасный подвиг благородства, сам вовсе не зная этого.
Я давно принял с ним и его братией роль хладнокровного наблюдателя, которого уже не обижают их мерзости, но который всегда готов отдать справедливость их хорошим сторонам. Эта роль бесит их. Они называют меня гордецом, прославили человеком неприступным, надменным, возмутили против меня целую тучу завистливых посредственностей, которая терзала и еще терзает меня своей глупою злобою и всеми гнусностями клеветы. Но моя неколебимость в предначертанной себе роли побеждает все эти мутные волнения мелочных и грязных страстей: когда я захочу, они все-таки сделают по-моему и тотчас смиряются, чтобы помириться со мною. Я обыкновенно довольствуюсь тем, что, удостоверившись во власти своей над ними, снова делаюсь для них неприступным и держу их в отдалении от себя. Тогда они снова начинают бранить меня; а я этого и хочу. Мне это очень нужно. Я не могу смешиваться с ними и не желаю, чтобы смешивали меня с такими людьми в публике. Оттого вы видите, что все наши журналы попеременно то поносят меня, то восхищаются мною. Когда я ласков с которым-нибудь из них, тотчас является в нем великолепная похвала моему уму, моим познаниям и прочая. Но для меня не выгодно, чтобы эти люди долго хвалили меня: порядочная часть публики тотчас подумала бы, что я уже веду с ними дружбу и компанию. Дав им время явиться моими льстецами, я вдруг оборачиваюсь к ним спиною – и они в бешенстве снова начинают терзать меня до новой вежливости с моей стороны. Это – моя забава и моя тактика. Независимость моего положения дает мне все средства играть с ними эту немножко жестокую комедию, но они не стоят ничего лучшего: они вполне заслуживают ее.
Для нее я даже жертвую очень многим, между прочим и моим состоянием. Но иначе нельзя! Они думают, все думают, что я очень богат. Я один знаю, что это неправда: но пусть их думают!.. Это располагает их к готовности продать себя мне при первом изъявлении с моей стороны охоты купить их, и таким образом я всегда в состоянии показать свету всю меру их низости, всю причину их злобы и их раболепства. Когда мне нужно сорвать маску ожесточения с которого-нибудь из этих людей, я умею очень искусно бросить ему поживу, пять, десять тысяч рублей, – и он у ног моих, пока я сам не оттолкну его. О! Они дорого мне стоят! Но надо выдержать свою роль”.
* * *
Пора нам, однако, после всех этих приготовительных разъяснений обратиться к главнейшему и дать характеристику “Библиотеки для чтения”. Перед нами более ста томов журнала, из которых каждый – плоть от плоти и кость от кости самого Сенковского. Признаемся, мы не без уважения просматривали их. Мирно и спокойно стоят они теперь в библиотеке, плотно прижатые друг к другу, все в переплетах, с пожелтевшими, запятнанными страницами. Изредка тревожит их рука специалиста или такого случайного работника, как я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствует в них ни малейшей надобности. Груды книг вырастают возле них, над ними, внизу, и эти небольшие тома с каждым годом все более и более теряются среди новых пришельцев. Их дело сделано, покончены все расчеты, итог подведен, и, молчаливые свидетели прошлого, они не имеют достаточно внутренней силы, чтобы хоть чем-нибудь заявить о себе новым поколениям. А ведь было время, когда выход каждой из этой сотни книжек ожидался с нетерпением, когда торопливые руки нервно разрезали страницы и добродушный читатель с невольной улыбкой, выражавшей предчувствие удовольствия, набрасывался на литературную летопись или критические статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Как замирающее эхо, доносятся до нас восторги читателей барона Брамбеуса, тот говор и шум, который возбуждала “Библиотека”; спокойные и забытые стоят ее тома. Habent sua fata libelli[4 - Книги имеют свою судьбу (лат.).] – родятся и умирают, и одна из сотни тысяч достигает бессмертия…
“Библиотека для чтения” – журнал Сенковского. Это, повторяем, плоть от плоти его; он сам появляется перед нами на каждой странице, и, зная его, мы уже предчувствуем, что должны содержать они. Мы видели, что у Сенковского было достаточно данных, чтобы стать хорошим редактором, таким же вышел и его журнал.
У редактора-энциклопедиста журнал не мог не быть энциклопедическим: наука, иностранная словесность и “смесь” – вот те отделы, в которые Сенковский вложил всю свою душу. Он был несколько англоман, особенно в литературе. Новую французскую школу он недолюбливал и даже энергично преследовал ее, доходя подчас до странного и неприличного, в сущности, вышучивания таких крупных величин, как Жорж Санд. Эту последнюю он именовал не иначе, как г-жа Егор Занд. Ему больше нравилась английская литература с ее спокойным анализом человеческого сердца, и почти все лучшие ее произведения появлялись в “Библиотеке”. Постоянно встречаем мы переводы из Колриджа, Вордсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервиль и так далее. Немало и статей посвящено этим талантливым писателям, так что в общем читатели “Библиотеки” могли быть благодарны ее редактору. В “смеси” печатались каждый месяц краткие обозрения новостей английской и французской литератур с библиографическими списками появившихся на рынке книг. В отделе наук, особенно интересном и разнообразном, Сенковский знакомил публику со всеми открытиями и новинками в области положительных знаний. Вот не лишенный интереса список главнейших научных статей в первых 25-ти томах “Библиотеки”:
1. О мире и его создателе (доводы положительных наук в пользу бытия Божия).
2. Земной шар до потопа (по Кювье).
3. Магнетизм земного шара.
4. Теплота земного шара.
5. Двойные звезды.
6. Галлеева комета.
7. Начало рек и ключей.