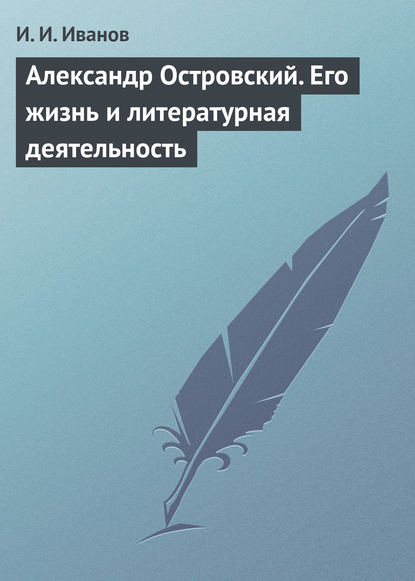По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Александр Островский. Его жизнь и литературная деятельность
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этим и ограничился суд Гоголя, – к автору комедии он не подошел ни разу. Но это не свидетельствовало о безучастности гениального писателя к новому таланту. От Погодина мы знаем, что Островский “подвигнул” Гоголя, то есть произвел на него не менее сильное впечатление, чем на других.
Шевырев и здесь не преминул выразить свой восторг. Он обратился к слушателям с торжественными словами:
– Поздравляю вас, господа, с новым драматическим светилом в русской литературе!..
Более лестной критики не мог услышать начинающий писатель, и Островский после рассказывал: “Я не помню, как я пришел домой; я был в каком-то тумане и, не ложась спать, проходил всю ночь по комнате: такими сказочными словами мне показался отзыв Шевырева”.
В марте 1950 года комедия появилась в “Москвитянине”. С этого времени начинается широкая известность Островского. Она находит сочувствие у людей различных литературных лагерей, придерживающихся разных взглядов на искусство. Представитель старой словесности, профессор Давыдов, почувствовал силу нового живого оригинального таланта и сообщал Погодину: “В Островском признаю помазание”. Ученый словесник, воспитанный на теориях и формулах учебников, не мог, разумеется, окончательно отрешиться от предрассудков и укорял комедию в отсутствии действия, – впрочем, потому что у Островского не было крикливых эффектов и искусственного драматизма. Более чуткая публика восхищалась пьесой без всяких оговорок. Особенного внимания заслуживает отзыв князя В. Ф. Одоевского, даровитого писателя, благороднейшего друга лучших писателей своего времени, в том числе и Пушкина. Одоевский смотрел на литературу как на ответственную общественную службу, для достойного несения которой писатель должен осознавать свой высокий нравственный долг. И вот он-то в письме к своему приятелю горячо приветствовал произведение молодого драматурга. “Читал ли ты комедию или, лучше, трагедию Островского Свои люди – сочтемся! и которой настоящее название Банкрот? Пора было вывести на свежую воду самый развращенный духом класс людей. Если это не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собою из земли, просоченной всякою гнилью, то этот человек есть талант огромный. Я считаю на Руси три трагедии: Недоросль, Горе от ума, Ревизор. На Банкроте я поставил нумер четвертый”.
Восторг князя Одоевского был верной порукой жизненного и значительного смысла комедии, следовательно, в пользу ее заранее были расположены отзывчивые сердца и благородные умы среди современной публики. Университетская молодежь немедленно откликнулась на новый могучий голос, и Островский сразу стал популярнейшим писателем среди студентов. Они уже знали все новости, касавшиеся новой знаменитости, слышали, как Островский читал пьесу у Погодина, дошел до них слух и о том, что Гоголь, не изъявивший желания познакомиться с автором после чтения, только написал карандашом похвальный отзыв на клочке бумаги; клочок передали Островскому, и тот хранил его как драгоценность. Легко представить, какое страстное желание прочитать уже напечатанную комедию овладело молодежью! Но трудно было добиться этого счастья. В трактирах книжка “Москвитянина” была нарасхват, приходилось дожидаться очереди по целым дням, подкупать половых, умолять их потерпеть несколько лишних минут – дать вникнуть в красоты удивительного произведения. Островский и сам не отказался осчастливить личным знакомством своих читателей, – и студенты были поражены и тронуты его простым, товарищеским отношением к ним, его вниманием к их речам и замечаниям. Будто самый обыкновенный смертный попал в студенческую меблированную комнату: ничего величественного и внушительного! Таким останется знаменитый писатель до конца своих дней – доступным, обаятельным, искренне добрым.
Но не одни лавры достались на долю автора Банкрота. Одновременно пришлось испытать немало огорчений – и официального, и литературного происхождения. Именно чрезвычайная слава новой комедии собрала тучи над головой Островского, – и над ним грянул гром. Правда, удар не нанес ни малейшего ущерба ни таланту, ни славе писателя, но сказался многими весьма тяжелыми минутами. Драматург на первых же порах дорого расплачивался за только что приобретенное знаменитое имя: ему пришлось отстаивать и свой талант, и свои авторские права и вести борьбу при крайне тягостных обстоятельствах. Она окончилась в его пользу только благодаря силе все того же таланта, которому никакая власть и никакая клевета не могли преградить путь к развитию и победе над завистью и злобой.
На первое место следует поставить официальную историю: она и по времени предшествует литературной, и по значению в судьбе произведений Островского ей, несомненно, принадлежит первенство.
ГЛАВА VI. ОФИЦИАЛЬНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА ПЕРВОЙ КОМЕДИИ ОСТРОВСКОГО
Комедия усердно читалась по трактирам – не только студентами. В трактире у Чугунного моста, привлекавшего самую разнообразную публику машиной с барабанами, единственной в то время на всю Москву, ежедневно пьеса читалась вслух каким-то добровольцем. Чтение повторялось по нескольку раз в день за приличное угощение. Естественно, молва о комедии проникла гораздо дальше университетских аудиторий и литераторских кружков, – о ней услышали сами ее герои – Большовы, Подхалюзины, Рисположенские. Легко представить, какое впечатление произвело на них столь открытое разоблачение заповеднейших тайн замоскворецкого царства! Обида выходила кровная и тем более нестерпимая, что ее наносил щелкопер, издевался над именитым купечеством “стрекулист”: неизбежно следовало призвать на помощь власть и потребовать от нее кары преступнику.
Московская цензура еще до напечатания пьесы предчувствовала негодование именитого купечества. Попечитель Московского учебного округа и в то же время начальник московской цензуры генерал Назимов не был врагом литературы, готов был скорее найти способы открыть свободный путь новому таланту. Отнесся он к пьесе чрезвычайно осторожно, советовался даже с генерал-губернатором графом Закревским, справлялся у него о сословии, представленном в комедии, и о впечатлении, какое она производила на общество при чтении ее в рукописи. В конце концов Назимов пришел к благоприятному решению: “В комедии хотя и представлены люди порочные, впрочем не все, однако порок не только не торжествует, но наказывается самою жестокою на земле карою”. Ввиду всего этого Назимов не нашел препятствий разрешить пьесу напечатать. Не был, очевидно, против напечатайся и генерал-губернатор.
Результаты оказались плачевные. Над всем цензурным ведомством стоял особый комитет, учрежденный 2 апреля 1848 года. Комитет осуществлял высший надзор за книгопечатанием и выполнял свои обязанности с усердием, стяжавшим ему единственную в своем роде историческую известность. Комитет совершенно иначе взглянул на пьесу, чем Назимов и даже Закревский, менее всего расположенный к либеральным поблажкам. Комитет считал своим долгом не только пресекать и карать литературные преступления, но и вразумлять авторов на будущее время, внушать им – по своему усмотрению – правила писательства и цели литературной деятельности. Комитет сообщил свое мнение о предосудительном содержании комедии министру народного просвещения графу Уварову, ведавшему в то время цензурой. Министр в свою очередь обратился к Назимову с предложением пригласить автора к себе и “вразумить его, что благородная и полезная цель таланта должна состоять не только в таком изображении смешного и дурного, но и в справедливом его порицании, не только в карикатуре, но и в распространении высшего нравственного чувства, следовательно, в противопоставлении порока добродетели и картинам смешного и преступного таких помыслов и деяний, которые возвышают душу; наконец, в утверждении того столь важного для жизни общественной и частной верования, что злодеяние находит достойную кару еще на земле”.
Комитет второго апреля, очевидно, хотел прописной морали в лицах, подходящей для детской нравоучительной словесности. Островский в ответ на вразумления цензурного ведомства написал Назимову письмо – в высшей степени любопытное. Оно дает нам ценные сведения о судьбе комедии в лучшем купеческом кругу и знакомит с представлениями автора о своих писательских обязанностях.
“Труд мой, еще не оконченный, – писал Островский, – возбудил одинаковое сочувствие и производил самые отрадные впечатления во всех слоях московского общества, более же всего между купечеством. Лучшие купеческие фамилии единодушно гласно изъявляли желание видеть мою комедию в печати и на сцене. Я сам несколько раз читал эту комедию перед многочисленным обществом, состоящим исключительно из московских купцов, и благодаря русской правдолюбивой натуре они не только не оскорблялись этим произведением, но в самых обязательных выражениях изъявили мне свою признательность за верное воспроизведение современных недостатков и пороков их сословия и горячо высказывали необходимость дельного и правдивого обличения этих пороков (в особенности превратного воспитания) на пользу своего круга. В глазах этих почтенных людей правда и польза, коей они от нее надеялись, исключала всякую мысль об оскорблении мелочного самолюбия. Все это побудило меня представить мою комедию в цензурный комитет, и это же, осмеливаюсь думать, обратило и ваше внимание на мой труд. Согласно понятиям моим об изящном, считая комедию лучшею формою к достижению нравственных целей и признавая в себе способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме, я должен был написать комедию или ничего не написать. Твердо убежденный, что всякий талант дается Богом для известного служения, что всякий талант налагает обязанности, которые честно и прилежно должен исполнять человек, я не смел оставаться в бездействии. Будет час, когда спросится у каждого: «Где талант твой?»”
Это объяснение, при всей своей искренности и правдивости, не прекратило волнений власти. Пьеса не была разрешена к постановке на сцене – и не разрешалась в течение целых десяти лет. Но история и этим не ограничилась. Сам автор подвергся преследованиям. Несомненно, далеко не все московское купечество обнаружило “русскую правдолюбивую натуру”, нашлись личности обиженные и негодующие, и они воспользовались ситуацией, дабы излить свою обиду – пожаловались на дерзкого литератора генерал-губернатору. Граф Закревский впоследствии числился среди поклонников таланта Островского, по крайней мере он не пропускал случая присутствовать на представлениях его пьес. Но теперь он энергично принялся выполнять долг службы, вероятно, побуждаемый преимущественно Большовыми и Рисположенскими. Относительно автора комедии учинили негласное дознание, председателю коммерческого суда была отправлена секретная бумага. Ею требовались у начальства сведения о чине, должности, звании Островского, а также о его “образе жизни и мыслей”. Председатель отвечал также секретным донесением и на самый щекотливый вопрос генерал-губернатора давал такой отзыв: “Что же касается до образа жизни и мыслей, то Островский, находясь при отце, по службе своей пользовался хорошим мнением начальства, не подавая повода к замечанию о каком-либо неблагонамеренном образе мыслей”.
Этот отзыв не смягчил участи писателя. Островский был отдан под надзор полиции. Впрочем, его особенно не беспокоили, – и странно было бы беспокоить. Поднадзорный Островский не раз читал свои произведения на вечерах у того же графа Закревского. Однажды ему вздумалось пожаловаться графу на недоразумение с властями, внесшими его имя в список “неблагонадежных”. Граф встретил жалобу лукавым комплиментом:
– Это вам делает больше чести…
Но как бы то ни было, надзор был снят только при вступлении на престол императора Александра II, – и квартальный явился поздравить Островского.
– Кажется, мы вас не беспокоили, – заявил он вежливо. – Мы доносили об вас как о благородном человеке. Не скрою, однако, что мне один раз была за вас нахлобучка.
Необходимым следствием полицейского надзора явилась отставка Островского. 10 января 1851 года состоялось его увольнение, в аттестате говорилось, что увольняемый должность свою исправлял усердно при хорошем поведении.
Но официальным гонением не закончились мытарства первой комедии Островского. Лишь только слава о ней стала распространяться за пределы тесного кружка писателей, – немедленно заговорил бывший “сотрудник” Островского. Он предъявил свои права на достоинства пьесы, приписывал себе долю работы не меньшую, чем доля Островского; сплетня быстро распространилась, была подхвачена завистниками и просто любителями всякого рода ссор и дрязг и наконец перешла даже в печать.
В “Ведомостях московской городской полиции” некий Правдов спрашивал, почему вся пьеса Свои люди – сочтемся! подписана только одним именем, между тем как под отрывком из нее в “Московском городском листке” стоят две подписи? Почему Островский умолчал об участии Горева в сочинении пьесы?
На этот запрос Островский отвечал в “Московских ведомостях” статьей “Литературное объяснение”. Статья содержит любопытные сведения о начале писательской деятельности автора и должна остаться ценной страницей в его биографии.
“До осени 1846 года, – сообщал Островский, – мною написано было много сцен из купеческого быта… Комедия (Свои люди – сочтемся!) в общих чертах была уже задумана и некоторые сцены набросаны; многим лицам я рассказывал идею и читал некоторые подробности… Осенью 1846 года пришел ко мне г-н Горев; я прочел ему написанные мною Семейные сцены (позже – Семейная картина) и рассказал сюжет своей пьесы. Он предложил начать обделку сюжета вместе: я согласился – и мы занимались три или четыре вечера (т. е. г-н Горев писал, а я большею частью Диктовал). В последний вечер г-н Горев объявил мне, что он должен ехать из Москвы. Тем и ограничилось его сотрудничество.
До 1847 года я не принимался за комедию; весною же (точнее в самом начале) того года я начал обработку пьесы по измененному мною плану и поспешил напечатать написанное с г-ном Горевым… Нескольких строчек, нескольких фраз г-на Горева я не желал присвоить себе и объявил об его сотрудничестве, подписав в его отсутствие сцены и за себя, и за него”.
Вскоре состоялось известное нам чтение сцен у Шевырева. Островский снова принялся за комедию и, по обыкновению, снова обращался к советам и мнениям других.
“В продолжение 1847, 1848 и половины 1849 года, – рассказывает он, – я писал свою комедию отдельными сценами на глазах своих друзей, постоянно читал им каждую сцену, советовался с ними о каждом выражении, исправлял, переделывал, некоторые сцены оставлял вовсе, другие заменял новыми, во время болезни, не будучи в состоянии писать, диктовал четвертый акт; написанная прежде сцена по новому плану вошла в третье действие”.
Эта полемика происходила уже в 1856 году, когда комедия Свои люди-сочтемся! появилась отдельным изданием. Островский успел написать к этому времени целый ряд других произведений и тем блистательно опроверг устную сплетню, не прибегая ни к каким печатным объяснениям. Но газетная клевета требовала отповеди – и не только по поводу первой комедии. В том же 1856 году в “Современнике” была перепечатана Семейная картина, появившаяся раньше в “Московском городском листке” под заглавием Картина семейного счастья. В “Листке” Картина не имела никакой подписи, в “Современнике” под ней стояло – А. Островский. Фельетонист “С.-Петербургских ведомостей” поспешил выразить изумление: почему “Современник” согласился печатать пьесу с одной подписью, в то время как раньше та же пьеса была напечатана с двумя подписями? Островский отвечал письмом в редакцию “Современника”, восстановляя истину. Но вскоре потребовался и еще ответ. “Ведомости московской городской полиции” недоумевали, почему “Современник” приписал Островскому пьесу, не подписанную раньше ничьим именем? “Не произошла ли, – спрашивала газета, – и здесь какая-либо ошибка?”
Островский на этот раз утратил спокойствие духа и ответил резким объяснением: “На эту статью, – писал он, – обличающую в авторе, скрывшем свое имя, отсутствие всяких приличий, необходимых образованному человеку, я скажу следующее: “Современник” напечатал мое имя под пьесой потому, что я подписал его, потому что нет никакого повода и никто не может сомневаться в принадлежности мне статьи, по крайней мере печатно, если подписана под ней фамилия… Господа фельетонисты (литературные башибузуки, по выражению “Русского вестника”) увлекаются своею необузданностью до того, что забывают не только законы приличия, но и те законы, которые в нашем отечестве ограждают личность и собственность каждого. Не думайте, господа, чтобы литератор, честно служащий литературному делу, позволил вам безнаказанно играть своим именем”.
Этим приключением окончились посягательства недругов и легкомысленных фельетонистов на писательскую честь Островского. Он и впоследствии неоднократно вступал в сотрудничество с другими драматургами, – но уже ни разу больше не высказывалось подозрение в способности прославленного автора присвоить себе чужой труд и талант.
ГЛАВА VII. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСТРОВСКОГО
“Бедная невеста”
Первая комедия, потребовавшая от художника столь продолжительной работы, будто изощрила его дарование и окрылила его. В том же 1850 году в “Москвитянине” появляется Утро молодого человека и автор начинает работать над новой комедией, Бедная невеста. На работу уходит весь 1851 год, но она поглощает не все время Островского. Средства для жизни он вынужден добывать другим трудом, помимо художественного. Погодину нет никакого дела до условий творчества. Вообще крайне скупой в издательских расчетах – он не делает исключения и для своего главного сотрудника. За комедию Свои люди – сочтемся! он заплатил такой гонорар, что Островский впоследствии даже стыдился и говорить о нем. Плата пятнадцать рублей за печатный лист считалась у Погодина пределом всех вожделений его сотрудников, притом еще семейных, холостые же должны были довольствоваться половиной высшего вознаграждения. Но выдача даже и этих скромных сумм производилась туго, сопровождалась редакторскими проповедями насчет расточительности и бережливости. Григорьев, в одну из многочисленных размолвок с прижимистым издателем, обмолвился очень верной характеристикой своего хозяина: “В вашем превосходительстве глубоко укоренена мысль, что человека надобно держать вам в черном теле, чтобы он был полезен”.
И Островский именно и пребывал в этом “теле”. Он читал статьи для журнала, держал корректуру и ради этой работы ежедневно путешествовал на Девичье поле, совершая в один конец не меньше шести верст. Так зарабатывал хлеб насущный писатель, провозглашаемый на страницах того же “Москвитянина” глашатаем нового слова, и общепризнанный автор блестящих комедий! Нужда неотступно преследовала его, нередко доводила до отчаяния, особенно перед наступлением праздников, требовавших лишних расходов. Тогда несчастный знаменитый драматург писал такие письма своим приятелям: “Сами знаете, в каком я положении нахожусь. К такому празднику, когда расходы удесятерятся, быть совершенно без копейки – вещь очень неприятная. Я не знаю, что мне делать. Я просто теряю голову”.
И в разгар такой нужды, можно сказать лишений, в “Москвитянине” печатается Бедная невеста. Григорьев окончательно убеждается, что Островский создал новое слово. Правда, слишком восторженный критик не успевает объяснить вполне точно и общедоступно, в чем заключается это новое слово. В порыве восхищений Григорьев славословил, изрекал прорицательские определения, реял в некоем золотистом и розовом тумане. Самые решительные заявления критика не заходили дальше следующих откровений: “Новое слово Островского есть самое старое слово– народность: новое отношение есть только прямое, чистое, непосредственное отношение к жизни”.
В другой раз это отношение критик называет “идеальным миросозерцанием с особенным оттенком”, а оттенок этот не что иное, как “коренное русское миросозерцание, здравое и спокойное, юмористическое без болезненности, прямое без увлечения в ту или другую крайность, идеальное, наконец, в справедливом смысле идеализма, без фальшивой грандиозности или столько же фальшивой сентиментальности”.
Можно не признавать подобные характеристики непогрешимыми, как это делал, например, Добролюбов. Можно усмотреть некоторый неестественный смысл в юморе без болезненности, в идеализме без аффектации, то есть в добродушии и простоте. Но эти симпатичные черты вовсе не образуют миросозерцания, они скорее свидетельствуют о темпераменте идеалиста, чем о содержании идеализма. Ими может быть одарен писатель, нисколько не похожий на Островского по природе и таланту. Разве юмор Гоголя болезненный и разве этот художник страдает грандиозностью и сентиментальностью? Добродушия у Гоголя как художника во всяком случае не меньше, чем у автора комедий Свои люди – сочтемся! и Бедная невеста.
Григорьеву до конца не удалось выполнить самую существенную задачу, встававшую перед критикой в связи с произведениями Островского, – именно извлечь жизненный смысл из фактов его творчества. Задачу эту пришлось разрешить “западнику” Добролюбову в приснопамятных статьях о Темном царстве.
Бедная невеста любопытна и в другом отношении. Комедия полна автобиографических подробностей. Вполне утвердительно не определено до сих пор, но факт вне сомнения: “бедная невеста” комедии – героиня юношеского увлечения самого автора. Несмотря на тяжелую трудовую жизнь, молодой писатель не унывал. Он усердно посещал знакомых, старался возможно тщательнее одеться и даже погодинский гонорар за Свои люди – сочтемся! истратил на модный костюм. Естественно, сердце его не могло избегнуть многочисленных искушений, сопутствующих столь быстрой и громкой славе. Островский увлекся: предмет увлечения – интеллигентная бедная девушка, внешние условия жизни которой напоминали положение Марии Андреевны в комедии Бедная невеста. Сохранилось стихотворение, посвященное Островским своей героине. В стихотворении описывается бал, иронически изображаются барышни, кавалеры, маменьки, но -
Вот меж всех красавиц бала
Краше всех одна.
Вижу я, что погибало
От нее сердец немало,
Но грустна она.
Для нее толпа пирует
И сияет бал, —
А она негрижирует,
Что ее ангажирует
Чуть не генерал.
Гений дум ее объемлет,
И молчат уста.
И она так сладко дремлет,
И душой послушной внемлет,
Что поет мечта.
Как все пусто! То ли дело,
Как в ночной тиши
Милый друг с улыбкой смелой
Скажет в зале опустелой
Слово от души.
Снятся ей другие речи…
Другие электронные книги автора И. И. Иванов
Писемский




 2.67
2.67