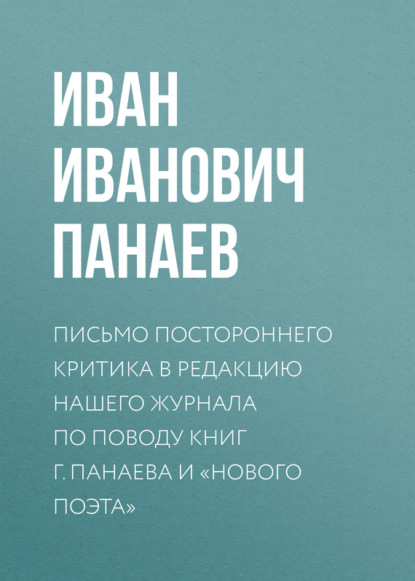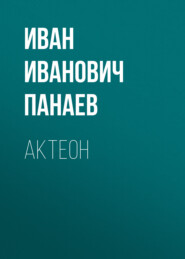По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г. Панаева и «Нового поэта»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г. Панаева и «Нового поэта»
Иван Иванович Панаев
«Милостивый Государь, В литературе я человек совершенно посторонний. Я не знаком ни с одним редактором, ни с одним литератором, ниже публицистом, и хоть мне уже не мало лет, но я даже и в глаза не видывал ни одной из этих особ. Мне дела нет ни до их наружности, ни до их положения в свете: я люблю или не люблю их, хвалю или браню их только на основании их сочинений или их журналов…»
Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г. Панаева и «Нового поэта»
«Оставляя в стороне всякия личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм – где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячия мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и не кстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно также подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья.»
(Из вашего объявления)
Милостивый Государь,
В литературе я человек совершенно посторонний. Я не знаком ни с одним редактором, ни с одним литератором, ниже публицистом, и хоть мне уже не мало лет, но я даже и в глаза не видывал ни одной из этих особ. Мне дела нет ни до их наружности, ни до их положения в свете: я люблю или не люблю их, хвалю или браню их только на основании их сочинений или их журналов. А читаю их я очень прилежно, потому что в моем уединении мне и делать больше нечего. Ни с кем из них я никогда не был в переписке, и если теперь решаюсь изменить, не скажу этому правилу, а просто факту, – то потому что чувствую в этом потребность. К тому же я прочел вашу программу, в которой вы с такой похвальной, а вместе с тем и странной самоуверенностию говорите о вашем беспристрастии. Извините меня, милостивый государь, если в этом я позволю себе усомниться. Я не знаю ваших лет, но знаю мои года и думаю, что как бы ни зарекался человек быть беспристрастным, а все-таки не выдержит. Живой человек.
Я же в деле литературы, повторяю, человек совершенно посторонний. Личности для меня не существуют. Пушкин был для меня всегда только книгой. Андрей Александрович Краевский не более как журналом. Г. Катков (имени и отчества не имею чести знать) тоже. Я пережил двенадцатый год, столь славный в наших летописях, и преживаю теперь превращение г-жи Евгении Тур в еженедельную газету. Я пережил славянофилов и западников, время их процветания и постепенного обессиления, и переживаю теперь основание новых журналов, которые с тем и основываются, чтоб помирить врагов, давно уже переставших ссориться. Я пережил натуральную школу, это законное чадо западников, и переживаю теперь появление полного собрания сочинений г. Ив. Панаева.
Я столько пережил, что уже сам хорошенько не знаю, что и кого я теперь переживаю. «Отечественные Записки» в своей октябрьской книжке уверяют меня, что я переживаю литературу скандалов.
Обвинение во всех скандалах, даже в зарождении, в основании всей литературы скандалов обрушивается теперь на голову одного г. Панаева. Обвинение нешуточное и вовсе не такого рода, чтоб можно было перенести его хладнокровно. А впрочем может быть г. Панаев переносит его очень хладнокровно. И в самом деле, чтож тут очень-то горячиться? Правда, обвинение это взывает к общественному мнению и исходит из двух самых степенных, самых по-видимому осмотрительных органов нашей журналистики. Шуму по поводу скандалов наделано много.
Когда я прочел диатрибу «Отечественных Записок», мне показалось, что вся наша современная литература, начиная с г. Гончарова и кончая Марко Вовчком, есть ничто иное как огромный скандал. У меня есть сосед по имению, человек добрый, но очень-невзлюбивший русской литературы с тех пор, как поднят был один известный вопрос, – так он теперь все носится с «Отечественными Записками» и всем тычет пальцем, смотрите, дескать, полюбуйтесь, вот она литература-то скандалов. Я б ее еще не так отделал!
И если подумаешь, что весь этот шум, все эти обвинения происходят оттого только, что в фельетонных отделах некоторых журналов задеты две-три личности, уже через-чур зарисовавшияся перед общественным мнением, личности, которые уже через-чур затолклись у нас перед глазами, так что зарябило у нас до слез, как иногда рябит, когда долго засмотришься на облако толкуш[1 - Из всех толкуш самая скучная есть без сомнения литературная толкуша. Что бы г. Панаеву в пандан к своей прекрасной повести: «литературная тля» описать литературную толкушу.], снующих перед вами в тихий летний вечер; – так вот, если подумаешь только об этом, то невольно скажешь, что молода еще наша литература, если такие пожилые и почтенные журналы так неловко проговариваются. Впрочем и то сказать, в известные лета начинаешь делать престранные вещи.
Нет ничего нелепее и вместе смешнее этих криков о скандалах, особенно если взять в соображение, что их испускают Отеч. Зап. и Библиотека для Чтения. Я не говорю уже о Петербургских Ведомостях; для нас давно не тайна, что эта газета состоит по особым поручениям и на посылках у Отечественных Записок. Осенние походы её перешли ей по наследству от прежней Северной Пчелы и давно уже перестали удивлять даже нас провинциалов. Впрочем эта газета до того уже упала в общественном мнении, что на нее даже никто не отвечает. Какия нападки она ни делает на Современник или на Русский Вестник, эти журналы даже и не оборачиваются посмотреть, откуда на них сие? Мало видно делать разные улучшения, заводить разных корреспондентов (впрочем надо отдать им справедливость, скучноватых) единственно потому, что другая газета в самом деле улучшается и грозит опасной конкуренцией. Все это внешния улучшения, и газета по-прежнему будет падать, если не начнет издаваться на прямых, безукоризненных основаниях. Но как могли так переполошиться Отечественные Записки, которые постоянно ратовали за гласность и за свободу мнений. Так-то вот и всегда у нас. Иной господин целую жизнь свою кричит о гласности, приобретает себе этим ранг литературного генерала; начинает смотреть такой важной особой; а чуть крошечку кольнут его, начинает кричать караул, скандал на всю русскую литературу. По-моему мнению у нас скандал скорее можно встретить в так-называемой серьезной статье, чем в стишках и фельетонах. И в самом деле весь скандал, о котором раскричались почтенные журналы, сходится на два на три стихотворения, да на два-три фельетона.
Если эти стишки и статейки – скандал, то прямо утверждаю, что есть другие скандалы гораздо более серьезные. Разве не скандал например эта тревожная и, теперь можно сказать утвердительно, нескончаемая переписка г. Каткова с г-жою Евгениею Тур? Можно ли так зарисоваться перед общественным мнением и смотреть на свои домашния дела, на свою домашнюю стирку, как на дело великой важности, как на какое-то чуть не государственное дело, в котором каждый из читателей непременно обязан принять участие? Разве не скандал в своем роде статья г. Дудышкина о Пушкине, статья, которая сама себя испугалась и поспешила умолкнуть? Разве не скандал некоторые статьи г. Бова в «Современнике»? Разве не скандал само объявление об издании «Отеч. Зап.» в будущем году? Утверждать, что после Белинского началась только серьезная критика и оценка наших писателей, между тем как вся-то эта критика вплоть до 54 года занималась весьма важными спорами о том, в каком году родился такой-то писатель и в каком месяце получил он такую-то награду, – утверждать это, по-моему, скандал. Разве не скандал говорить о своей собственной драме, как о счастливом приобретении для журнала? Нам посчастливилось, говорит г. Писемский в своем объявлении, да еще подписывается под ним, – посчастливилось совокупить три лучшия произведения русской литературы за 60-й год, и в том числе называет свою драму. А учоные скандалы «Современника,» а ваша серьезная авторитетность, с которою вы часто говорите о пустяках, а ваша лесть перед литературными авторитетами – разве это не скандал? Ведь бывали примеры, что иные рецензенты забегали к такому-то литературному генералу, за тем, чтоб попросить у него позволения не совсем одобрительно отозваться о таком то месте или о такой сцене его романа или повести. Может быть вы не знаете таких рецензентов? А я даже видел каррикатуру на этот случай. Да чего лучше? В «Отеч. Зап.» я однажды зараз прочел две критики на повесть «Накануне» г. Тургенева. Одну, написанную кажется г. Басистовым, а другую доставленную самим г. Тургеневым, а ему вероятно откуда-нибудь присланную. Первую я уже позабыл: в ней все такие фимиамы были… Вторая написана была с достоинством. В ней прямо говорилось что худо, что хорошо в повести г. Тургенева. Чтож бы вы думали, милостивый государь? везде, где критик порицал автора «Записок Охотника», везде редакция поспешила заявить свое несогласие. Чего бы ужь тут кажется лебезить редакции? Г. Тургенев сам прислал эту критику в редакцию, сам захотел не скрыть от публики не совсем благосклонных отзывов остроумного критика – нет! и тут нужно подкурить. А все надежда получить от знаменитого нувелиста… хоть что-нибудь, лишь бы только одно имя. И в самом деле в объявлении об издании «Отеч. Зап.» в числе разных имен стоит и имя г. Тургенева. Не знаю, много ли пишут там господа А. и Б., но положительно знаю, что в последние года не встречал в них повестей г. Тургенева, а между тем имя его с неутомимым упорством сохраняется в ежегодных объявлениях «Отеч. Зап.» Я ужь думаю, милостивый государь, не участвует ли в них наш романист под каким-нибудь псевдонимом.
Мне приходи теперь на мысль, милостивый государь, что если когда-нибудь появится в печати например переписка покойного Белинского с его московскими друзьями, – чтож? и она будет скандалом в нашей литературе? Вы, может, скажете: пусть художник берет свои типы из действительности, но зачем же публиковать те лица, те факты, которые дали ему первую мысль и побудили его написать свое художественное произведение? Все так, отвечаю я, но почему ж не опубликовать и лица, если они действительно достойны позора или посмеяния? Отчего не указать на них пальцем? Художественное произведение само по себе, а гласность сама по себе; неужели ж вы пойдете против гласности? Ведь кричали-же в первое время появления Гоголя, что его лица недействительны, что таких лиц не бывает в натуре. И сколько кричали-то! А еслиб рядом с художественным произведением была тогда и гласность, публика бы увидала, что прав Гоголь, а виноваты его обвинители. Вот в этом-то смысле я и говорю, что без гласности проиграет и художественное произведение. Неужели ж, повторяю, эта переписка будет тем родом литературы, «в котором играет главную роль лицо, а не идея, факт, а не творческое создание», как начинают Отечественные Записки свое строгое слово? Ну, чтож, что тут лицо, а не идея? что тут факт, а не творческое создание? Никакая литература в мире не может обойдтись без этого рода письменности, а тем более литература развивающаяся, богатеющая, вступающая в права свои. Творческое создание, нет спора, вещь прекрасная, я стою за то. Но если в литературе будет все шито да крыто, если до нас не будут доходить иногда вести о том, как бесчинствует сильный над слабым, к каким плутням прибегает такой-то откупщик и как грабит бедный люд такое-то лицо, поставленное правительством, чтоб оберегать людей, а не грабить; как иногда зарисовывается ослепленный счастием такой-то промышленник; – то от этого, право, потеряет и творческое создание. Ведь из лиц, живых, снующих, богатых, бедных, честных и плутующих создает оно свои типы; ведь из суммы фактов, выживаемых народом, создает оно свои перипетии? Вы называете это литературою скандалов, а я называю это черновою работой, стелажами, известью и глиной для чудных замков творческого создания.
Позвольте мне, милостивый государь, проследить по пунктам всю статью «Отеч. Зап.» Она замечательна во многих отношениях. Сверх того, надобно же наконец показать некоторым журналам, что в наше время трудно уже так морочить читающую публику, как морочили ее в тридцатых и сороковых годах. Она уже не та, она много выросла в последние года, её прибыло. Как ни скрыты ваши потаенные нитки, которыми вы двигаете ваши марьонетки, она видит эти нитки и очень хорошо знает, к чему все это клонится. Она не виновата, что вы остались теже и при тех же понятиях, мнениях и верованиях, что и в сороковых годах. Вольно ж вам было не замечать её чудного роста. Она уже не прежний ребенок: она очень хорошо видит и ваши осенние походы, хоть вы прямо и не говорите, что дескать, любезные читатели, не подписывайтесь на такой-то журнал; из прежней грубой формы вы уже выжили. Ф. В. Булгарин теперь уже невозможен. Видит публика и ваши журнальные вражды, поднимаемые будто бы из-за принципов науки или искусства, а на самом деле из очень личных целей. В протоколе общества пособия нуждающимся литераторам и учоным (4 октября), по поводу разных упреков обществу, было сказано:… «такие упреки, доводимые до общего сведения и остающиеся без ответа, вредят целому обществу в мнении иногородных его членов и той части публики, которая не посвящена в тайны петербургской журналистики и петербургских литературных отношений. Стало быть действительно существуют тайны петербургской журналистики и петербургских литературных отношений. Отзыв общества я считаю в этом смысле почти оффициальным уведомлением.
Обращаюсь к статье «Отеч. Зап.» Эта статья, как вы уже знаете, написана по поводу сочинений г. Панаева. Первая часть её подписана каким-то непризнанным поэтом. Если «Отеч. Зап.» считают скандалом стишки в разных шуточных изданиях и фельетоны Нового Поэта, то эта статейка тоже скандал. Она написана в таком тоне: Ах, Иван Иваныч; как вам не стыдно, Иван Иваныч; я от вас этого никак не ожидал, Иван Иваныч; я вас знал еще маленьким, Иван Иваныч! и т. д. и не смотря на это, я не назову этой пустенькой статейки скандалом. Она – статейка неловкая, неостроумная и даже дурного тона, но не скандал, точно так как не составляют скандала и мелкие стишки и фельетоны Нового Поэта. Конечно, помещенная в серьезном отделе такого серьезного журнала, как «Отеч. Зап.,» журнала, говорящего об всем с нахмуренною бровью, эта статейка как-то невольно режет глаза, но пусть ужь она не будет скандалом. Не всякая дурная шутка составляет литературный скандал. Привилегия или монополия скандалов остается за нашими серьезными журналами. Вот послесловие этой статейки, написанное по всем признакам человеком очень близким к редакции, человеком очевидно очень серьёзным, близко подходит к скандалу.
«Этот-то род литературы, так начинается это послесловие, в котором играет главную роль лицо, а не идея, факт, а не творческое создание, получил у нас широкое применение и образовал целую литературу скандалов. Скандалы появились – мы уже теперь говорим не о г. Панаеве и Новом Поэте – в журналах толстых и тонких, на столбцах газет и еженедельных изданий.»
Вы говорите не о г. Панаеве и не о Новом Поэте? – так о ком же? Ужь не об обличительной ли литературе? В таком случае в критике «Отеч. Зап.,» которая, с тех пор как Белинский покинул этот журнал, сделалась одним из бесцветнейших его отделов, произойдет с будущего года значительная перемена. Она стало-быть примкнет к «Библиотеке для Чтения,» и у нас вместо одного журнала искусства для искусства, явится их два. Все-таки лучше иметь хоть одно не совсем верное направление, чем вовсе не иметь никакого. Но нет; не то кажется хотят сказать «Отеч. Зап.» Продолжаю делать выписки:
«Ему (т. е. этому роду литературы, где лицо и т. д.) преданы душой и телом все бездарности, потомучто он очень легок; на нем основывают свою репутацию вновь-пояаляющиеся журналы и газеты, потомучто скандал заставляет говорить о себе и привлекает подписчиков; к нему прбегают люди, которые и не имели его сначала в виду, но в разгаре полемики не сумели сдержать себя. Городская сплетня, личная клевета заступила место таланта, и мы приутствуем при том безобразии литературных выходок, каторое служит весьма-прискорбным явлением нашего времени.»
Нет, тут очевидно не обличительная литература. Тут опять о стишках, и я, на которого, слава Богу, не пишут еще ни стишков, ни эпиграмм, и у которого потому кровь течет правильно и покойно, я никак не могу понять ни такого ожесточения, ни такого преувеличения. Прочтя вышеприведенные строки, право подумаешь, что у нас не осталось уже ни одного таланта и все они пустились писать смехотворные стишки на почтенного редактора «Отеч. Зап.,» потомучто, заметьте, кто пишет подобные стишки, тот ужь не талант. Подумаешь, что вся наша литература: и мужчины-писатели и дамы-писательницы и дети-писатели и псевдонимы и анонимы, бросили писать романы, комедии и повести и стали выделывать только скандалы. Ну, можно ли так волноваться из-за таких пустяков? Вся-то эта по-вашему литература скандалов сводится на несколько стихотворений, которые все на перечет. Надобно ужь слишком сильно принять к сердцу несколько куплетов, чтоб из-за этого поднять такой гвалт. Мне, человеку постороннему и, главное, хладнокровному, хочется сказать почтенному редактору: милостивый государь, вы любите гласность, по крайней мере, вы с самого основания своего прекрасного журнала взывали к ней, ждали и звали ее. И вот вдруг, с началом нынешнего благословенного царствования, расступились облака, заволакивавшиия наше небо, и сквозь них весело проглянул голубой клочек его. Стало возможным осмеивать некоторые лица или всем надоевшия или злоупотребившия закон и власть им предоставленную или наконец такия, как например господин Козляинов, которые нет-нет да и отдуют немку. Вместе с куплетами на этих господ, вероятно по ошибке написали несколько куплетов и на вас. Ну, чтож что написали – велика важность! Неужели ж из того, что гласность раз ошиблась, – долой ее. Нет, милостивый государь, если вы любите гласность, извиняйте и уклонения её. Вы конечно не оскорбитесь, если я поставлю лорда Пальмерстона на одну доску с вами – он человек почтенный во всех отношениях – что ж? он не обижается, когда его продернут иногда в двадцати или тридцати оппозиционных журналах, да осмеют в десятках шуточных, да обругают на чем свет стоит в сотнях иностранных – французских, немецких, американских. Поверьте, что после всего этого продергивания он кушает с своим обыкновенным аппетитом, и ночью, когда говорит в палате, голос его не дрожит и не взволнован нисколько. И никогда на ум ему не вспадет желать уничтожения гласности. И за кого вы стоите, за кого вы ратуете, милостивый государь? За господ Гусиных, Сорокиных, Козляиновых, Аскоченских, потомучто если не считать вас, милостивый государь, вас, которого задели может быть по недоразумению, ведь куплеты писались только на подобные лица. Стало-быть все, что вы писали о гласности, все ваши воззвания к ней, вся ваша жажда её – все это были слова, слова и слова?.. Стало быть пусть пишут про других, мы будем молчать и посмеемся еще с приятелями над осмеянными лицами, только бы нас-то не трогали. Нет, милостивый государь, ваше поколение (я старик, совсем старик, у меня и ноги ужь не ходят, и потому я не принадлежу к вашему поколению) и без того ужь много играло словами. Может-быть историческая роль его была играть словами, но из этих слов ростет теперь новое поколение, для которого слово и дело, может-быть, будут синонимами и которое понимает гласность несколько шире, чем вы понимаете ее. Я согласен, что вам все это крайне неприятно; я знаю из разных печатных статеек, что вас всюду выбирают на почотные места: вы член комитета литературного фонда, вы даже казначей его, вы главный редактор энциклопедического лексикона, вы, одним словом – лицо, а не то что какая-нибудь персона; понимаю, еще раз понимаю, как вам все это неприятно, но что ж делать? укрепитесь. Нельзя же вдруг вычеркнуть из жизни прежние либеральные годы, прежния верования. Такое ужь видно время, слава Богу, пришло, что и лицом-то нельзя быть без этих верований.
Вы тоже неправы, милостивый государь, и с точки зрения риторики и пиитики. Разверните Кошанского, и вы увидите, что эпиграмма, куплет и даже триолет (этот последний род забыт, к сожалению, с самого Карамзина) имеют в каждой литературе право гражданства. Лучшия эпиграммы писал Пушкин. Право, как пораздумаешь, милостивый государь, так и выйдет, что наше время не выдумало нового пороха. Наши куплетисты и сатирики должны сознаться, что и они повторяют зады, да и вы, милостивый государь, повторяете зады же. Как до них писались Пушкиным и другими нашими стихотворцами куплеты и эпиграммы, так и до вас Фаддей Венедиктович Булгарин тоже вот сильно восставал на этот род литературы, где «главную роль играет лицо, а не идея и т. д.», как вы выразились в своем журнале. Вы тоже неправы и там, где говорите, что этому роду «преданы душой и телом все бездарности, потомучто он очень легок.» Во первых он вовсе не легок: надо иметь особый талант, чтоб смешить, особый склад ума, чтоб написать нечто остроумное и грациозное в этом роде, а во вторых должно сознаться, что большая часть стишков, написанных в честь разных лиц, были и грациозны и остроумны. Вы конечно по щекотливому положению своему не можете быть судьею в этом деле, а то непременно согласились бы со мною. Разумеется из вежливости и приличия, говоря с вами, я не стану делать выписок, но вспомните для примера ваше будто бы свидание с господином Перейрой в «Искр», который, сказать кстати, так грубо и неприлично обошолся с Редакциею Санкт-Петербургских Ведомостей, написав ей такое длинное, но тем не менее не совсем вежливое послание. Как угодно, а статейка Искры в высшей степени зла и остроумна, а в этом ведь и заключается все качество эпиграммы. Позвольте мне припомнить одно стихотворение, очевидно написанное не на вас, хоть там и есть слово «редактор», – но мало ли редакторов в Петербурге и Москве. Ктому же для очистки совести я нарочно посмотрел на ваш портрет в издании Мюнстера и увидал, что волосы ваши прямые и гладкие, а тут воспевается какой-то кудрявый редактор. Мне потому хочется привести здесь эти стишки, что они очень милы и грациозны, а главное не обидны и не злы. Я говорю здесь о стихотворении:
Блуждает старец среброкудрый
Между тиролек и цыган;
Что ищет он, редактор мудрый,
Что потерял в кафе-шантан.
Поет и пляшет труппа Лендта,
Фохт чудным светом залил сад,
И точно радужная лента,
Камелий пышных вьется ряд.
Следующего куплета не помню, а справиться негде; но вот последний:
Пред ним волнуется и свищет
Неугомонная толпа,
А он, мятежный, Ицку ищет,
Чтоб говорить про откупа.
Как угодно, милостивый государь, а это премиленькая вещица в своем роде. Жаль, что я позабыл пропущенный куплет: в нем был пресмешной перевод французского слова caf?-chantant.
Вы сознаётесь также, милостивый государь, что все подобные вещи заставляют говорить о себе и привлекают подписчиков. Если вы говорите это, то вам можно поверить н?-слово, потомучто из всех редакторов, вы конечно наиопытнейший. Но ведь вот что выходит из этого: если они привлекают подписчиков, стало-быть публика их любит? Да, это факт, но отнюдь не грустный, и публику нельзя винить за это, как вы это делаете далее в статье своей. Буду продолжать выписки:
«Городская сплетня, личная клевета заступила место таланта, и мы присутствуем при том безобразии литературных выходок, которое служит весьма прискорбным явлением настоящего времени. Забыто честное труженичество, нет и помину об идее и искусстве – и паясничество назвало себя сатирой.»
Это бесспорно очень красноречиво, но где же тут правда? Какая была у нас литература, такая и осталась. В последние годы, слава Богу, никто из наших талантов не умер. Все они на-лицо. Как писали прежде, так и теперь пишут. Новых талантов прибавилось немного, стало-быть и в этом отношении все у нас по старому. Кто же из них забыл честное труженичество, кто же из них забыл об идее и об искусстве? – Вот вопросы, на которые трудно будет кому-нибудь ответить. Обвинять всю литературу в скандалах и паясничестве, это, как хотите, немного странно.
«Нет надобности указывать на мелочи дрязгов, которые кишат. Не с этой целью мы и характеризуем их. Явление более прискорбно, нежели кажется с первого взгляда, и мы полагаем, что пораздумать о нем пора каждому, сколько нибудь уважающему себя литератору.»
Пораздумать, почему не пораздумать. Но вот в чем дело: литератор пожалуй и пораздумает, да и примет на свой счет все, что вы тут наговорили. Ведь вы так все обобщили, что мне кажется, и я виноват в скандалах, что и я только и занят, что «дрязгами, которые кишат». Так зачем же кишат эти дрязги? Зачем подавать повод к этим дрязгам? Ведь вот тот редактор, о котором сложено вышеприведенное мною стихотворение, может тоже, как и вы, сказать, что это дрязги, и обвинить в этих дрязгах всю литературу. Прекрасно, но зачем же он подает повод к этим дрязгам. Зачем ему искать какого-то Ицку? Чтоб говорить про откупа? а зачем ему говорить про откупа? Если он редактор издания, претендущего на современность, так он должен бы говорить против откупов и чуждаться всяких Ицек. За Ицек-то над ним и смеются. А то он будет писать одно, а делать другое: тогда-то вот и выйдет настоящий скандал.
Но продолжаю:
«В чем искать его(этого явления) причину? Главная причина состоит в разложении тех элементов нашей литературы, которыми она жила до сих пор. Была она однообразна, сдержана и твердо верила нескольким, весьма-немногим и самым несложным принципам. Лишь только началось разложение, лишь только начали стареть те начала, которыми жила литература – начались и насмешки над тем, что устарело.»
И слава Богу! О чем же тут жалеть? И прекрасно, что начались насмешки над тем, что устарело и что мешает. И прекрасно, что те элементы нашей литературы, которыми она жила до сих пор, разложились, хотя это простое понятие могло бы быть попроще выражено. Но так-как мы все уже привыкли к учоному слогу «Отеч. Зап.,» то понимаем его отлично. Не понимаю я только, о чем же тут жалеют «Отеч. Зап.» или в чем обвиняют они нашу литературу? Смеяться над тем, что устарело, отжило, но упрямо не сходит со сцены, упрямо копошится и хлопочет у всех перед глазами, – право не предосудительно. Гораздо хуже было бы молчание или равнодушие. Когда смеются, значит принимают участие, значит, что мысль о незаконности или несвоевременности того или другого явления уже осмыслена общественным сознанием, значит, что общество уже оторвало от себя это устарелое явление, как вредный нарост, и смотрит на него, как на предмет посторонний. Если это явление насильно хочет навязывать себя обществу, надо бороться с ним, ну хоть насмешкой, если ей одной можно бороться. «Отеч. Зап.» должны бы знать, что орудия для борьбы нельзя выбирать по произволу. Употребляются те, какия употребить можно.
«Но эти насмешки (продолжают «Отеч. Зап.») все-таки ограничились бы насмешками над учениями, идеями, а не лицами, еслиб литературное общество жило у нас давно и выработало себе известные законы, без которых не может жить никакое общество. Этого-то и не было.»
Действительно так; законов литературных литературное общество не выработало. Но вот что: английское и французское общество выработали себе на этот счет всевозможные законы, – и такие, перед которыми преступившие их отвечают в суде, и такие, перед которыми оправдываются в общественном мнении, оправдываются перед установленными приличиями и наконец перед своей собствзнной совестию. А все-таки и там борьба шла не с одними учениями, но и с лицами. Вспомните например все царствование Луи Филиппа и все последующее время до восстановления Империи. Вспомните, как в каждом нумере какого нибудь Фигаро, Шаривари или «Journal pour rиre» фигурировали в каррикатурах портреты людей с европейскою известностию. Вспомните насмешки над Тьером, Гизо, главами социалистов, над Прудоном, Кабе, Пьером-Леру. Это в шуточных журналах; в серьезных было тоже: доказательство найдете во множестве литературных процессов того времени. В английской литературе чуть ли еще не сильнее все это было, да и теперь есть. Да и вы сами, который так мудро проповедуете теперь умеренность, (за настоящую умеренность, позвольте уверить вас, и я стою), вспомните ваши прежния распри с устарелыми учениями, вспомните ваши ответы Булгарину или Полевому… ну, хоть по поводу значения Гоголя. Борясь с учениями, вы не щадили и лиц, и это уже не в шуточном отделе, которого у вас никогда и не было (похвально или не похвально это, не знаю), а в серьезном, в критике. Перелистывая старые беседы ваши с вашими прежними недругами, удивляешься возможности некоторых выражений в печати и невольно чувствуешь, что наше время сделало большой шаг вперед! Посмотрите, как все прилично и чинно в наших современных критиках. Прежней брани и следов нет. Позволяются только намеки и то тонкие и, главное, почти всегда справедливые. Недавно г. Чернышевский не употребил таких тонких намеков относительно г. Погодина, и посмотрели бы вы, как даже у нас в захолустье тыкали на это пальцами. Воображаю, что было у вас в Петербурге и в какое негодование должны были придти вы, милостивый государь. Воображаю потому, что сам был сильно взволнован. Нет, что ни говорите, а у нас есть общественное мнение и так ругаться, как ругались печатно в тридцатых и сороковых годах, теперь уже невозможно. Произошло сильное смягчение в литературных нравах.
«Прошедшее представляло нам немного удачных приемов борьбы старого с новым: настоящее, захваченное врасплох серьезностию задачи, выказало скоро скромный запас своих сведений. Люди опытные и знающие старались удержаться в границах; люди, более отважные нежели знающие, более молодые нежели талантливые, схватились за насмешку над наукою и литературою, которые как бы ни были ограничены своим объемом у нас, все-таки стоят недосягаемо выше тех насмешек, которыми их подчуют. Началось насмешками над историей, над литературой, над политическою экономией и публицистами запада в то время, когда мы, по нашим познаниям, были пигмеи перед этими авторитетами, и кончилось свистом, без всяких рассуждений, над лицами, трудившимися над историей, литературой и политическими науками.»
И здесь я вижу, милостивый государь, большия натяжки. Никто у нас, положительно никто не смеялся ни над литературой, ни над историей или вообще над наукой. Если и были насмешки, то не над наукой, а над каким-нибудь видом, над какой-нибудь формой науки. Не соглашаться с чем-нибудь, иметь свое мнение, даже будь оно и неосновательное, не грех; смеяться над каким-нибудь научным мнением еще не значит смеяться над самой наукой. Очень позволительно например посмеяться над тем, что Варяги были Литвины, а не Норманы, или на оборот, смотря потому, кто какого мнения придерживается; но это еще не значит, чтоб смеющиеся издевались над историей. Точно тоже можно сказать и относительно лиц, проповедывающих различные теории в науке. Г.де-Молинари, г. Костомаров, г. Погодин, г. Бабст, вы сами, милостивый государь, – люди общественные. В первый раз поставив имя свое под печатной статьею, они уже перестали быть людьми частными. Они выступили на всеобщий суд и осуждение. Оставьте же полную свободу суду и этому осуждению. Вы журналист – так вступайтесь за них, боритесь за них, если разделяете их возрение, но не говорите, что противники ваши, смеясь над ними, порицая их, этим самым попирают науку. Наука стоит слишком высоко, чтоб можно было безнаказанно попирать ее. Попираются разные учения науки, а не самая наука. Тоже самое можно применить и к литературе. Неужели смеяться над стихами г. Случевского (у которого впрочем, может быть, и есть дарование, но еще не установившееся) значит смеяться над литературой.
Когда вы заговорили о свисте, я вспомнил одно стихотворение в «Современнике» или в его свистке. В памяти моей осталось только три или четыре стиха, и то без всякой связи с предыдущими:
….Ученый Бабст стихами росенгейма
Там подкрепляет мнения свои….
далее не помню; или вот эти: там, в Москве, где
Как водопад бушует Русский Вестник,
Где Атеней, как ручеек журчал….
Бог знает почему иногда удержится в памяти один какой нибудь стих, да и то не всегда лучший, между тем как другие все улетучиваются. Это «почему» тоже, милостивый государь, вопрос, о котором Гейне, например, написал бы чудных две-три страницы. Что касается до меня, то я знаю только, что он их уже не напишет, и потому опять говорю, что ваш намек о свисте напомнил мне свисток, а потом и это стихотворение. Ужь не на него ли вы так ополчились? Ну что ж, что г. Бабст подкрепляет свои мнения стихами г. росенгейма. В этом ничего нет предосудительного. Пусть подкрепляет, хотя мне лично, милостивый государь, нравится более г. Лилиеншвагер. У всякого свой вкус, и я уверен, что г. Бабст, как человек очень умный, судя по его сочинениям, а главное, как человек весьма талантливый, только улыбнулся, прочитав о себе это двустишие. «Русский же Вестник» должен был остаться очень доволен тем, что его сравнили с водопадом.
Но я чувствую, что говорю о пустяках. В этом виновата ваша же серьёзная статья… по поводу разных пустяков, потомучто в свисте, о котором вы так торжественно говорите и который вы очевидно приберегли к концу, как иной поэт приберегает к концу свой наилучший стих, чтоб поразить, ошеломить, убедить слушателя или читателя – ровно ничего не было серьезного.
Иван Иванович Панаев
«Милостивый Государь, В литературе я человек совершенно посторонний. Я не знаком ни с одним редактором, ни с одним литератором, ниже публицистом, и хоть мне уже не мало лет, но я даже и в глаза не видывал ни одной из этих особ. Мне дела нет ни до их наружности, ни до их положения в свете: я люблю или не люблю их, хвалю или браню их только на основании их сочинений или их журналов…»
Письмо постороннего критика в редакцию нашего журнала по поводу книг г. Панаева и «Нового поэта»
«Оставляя в стороне всякия личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм – где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячия мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и не кстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно также подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья.»
(Из вашего объявления)
Милостивый Государь,
В литературе я человек совершенно посторонний. Я не знаком ни с одним редактором, ни с одним литератором, ниже публицистом, и хоть мне уже не мало лет, но я даже и в глаза не видывал ни одной из этих особ. Мне дела нет ни до их наружности, ни до их положения в свете: я люблю или не люблю их, хвалю или браню их только на основании их сочинений или их журналов. А читаю их я очень прилежно, потому что в моем уединении мне и делать больше нечего. Ни с кем из них я никогда не был в переписке, и если теперь решаюсь изменить, не скажу этому правилу, а просто факту, – то потому что чувствую в этом потребность. К тому же я прочел вашу программу, в которой вы с такой похвальной, а вместе с тем и странной самоуверенностию говорите о вашем беспристрастии. Извините меня, милостивый государь, если в этом я позволю себе усомниться. Я не знаю ваших лет, но знаю мои года и думаю, что как бы ни зарекался человек быть беспристрастным, а все-таки не выдержит. Живой человек.
Я же в деле литературы, повторяю, человек совершенно посторонний. Личности для меня не существуют. Пушкин был для меня всегда только книгой. Андрей Александрович Краевский не более как журналом. Г. Катков (имени и отчества не имею чести знать) тоже. Я пережил двенадцатый год, столь славный в наших летописях, и преживаю теперь превращение г-жи Евгении Тур в еженедельную газету. Я пережил славянофилов и западников, время их процветания и постепенного обессиления, и переживаю теперь основание новых журналов, которые с тем и основываются, чтоб помирить врагов, давно уже переставших ссориться. Я пережил натуральную школу, это законное чадо западников, и переживаю теперь появление полного собрания сочинений г. Ив. Панаева.
Я столько пережил, что уже сам хорошенько не знаю, что и кого я теперь переживаю. «Отечественные Записки» в своей октябрьской книжке уверяют меня, что я переживаю литературу скандалов.
Обвинение во всех скандалах, даже в зарождении, в основании всей литературы скандалов обрушивается теперь на голову одного г. Панаева. Обвинение нешуточное и вовсе не такого рода, чтоб можно было перенести его хладнокровно. А впрочем может быть г. Панаев переносит его очень хладнокровно. И в самом деле, чтож тут очень-то горячиться? Правда, обвинение это взывает к общественному мнению и исходит из двух самых степенных, самых по-видимому осмотрительных органов нашей журналистики. Шуму по поводу скандалов наделано много.
Когда я прочел диатрибу «Отечественных Записок», мне показалось, что вся наша современная литература, начиная с г. Гончарова и кончая Марко Вовчком, есть ничто иное как огромный скандал. У меня есть сосед по имению, человек добрый, но очень-невзлюбивший русской литературы с тех пор, как поднят был один известный вопрос, – так он теперь все носится с «Отечественными Записками» и всем тычет пальцем, смотрите, дескать, полюбуйтесь, вот она литература-то скандалов. Я б ее еще не так отделал!
И если подумаешь, что весь этот шум, все эти обвинения происходят оттого только, что в фельетонных отделах некоторых журналов задеты две-три личности, уже через-чур зарисовавшияся перед общественным мнением, личности, которые уже через-чур затолклись у нас перед глазами, так что зарябило у нас до слез, как иногда рябит, когда долго засмотришься на облако толкуш[1 - Из всех толкуш самая скучная есть без сомнения литературная толкуша. Что бы г. Панаеву в пандан к своей прекрасной повести: «литературная тля» описать литературную толкушу.], снующих перед вами в тихий летний вечер; – так вот, если подумаешь только об этом, то невольно скажешь, что молода еще наша литература, если такие пожилые и почтенные журналы так неловко проговариваются. Впрочем и то сказать, в известные лета начинаешь делать престранные вещи.
Нет ничего нелепее и вместе смешнее этих криков о скандалах, особенно если взять в соображение, что их испускают Отеч. Зап. и Библиотека для Чтения. Я не говорю уже о Петербургских Ведомостях; для нас давно не тайна, что эта газета состоит по особым поручениям и на посылках у Отечественных Записок. Осенние походы её перешли ей по наследству от прежней Северной Пчелы и давно уже перестали удивлять даже нас провинциалов. Впрочем эта газета до того уже упала в общественном мнении, что на нее даже никто не отвечает. Какия нападки она ни делает на Современник или на Русский Вестник, эти журналы даже и не оборачиваются посмотреть, откуда на них сие? Мало видно делать разные улучшения, заводить разных корреспондентов (впрочем надо отдать им справедливость, скучноватых) единственно потому, что другая газета в самом деле улучшается и грозит опасной конкуренцией. Все это внешния улучшения, и газета по-прежнему будет падать, если не начнет издаваться на прямых, безукоризненных основаниях. Но как могли так переполошиться Отечественные Записки, которые постоянно ратовали за гласность и за свободу мнений. Так-то вот и всегда у нас. Иной господин целую жизнь свою кричит о гласности, приобретает себе этим ранг литературного генерала; начинает смотреть такой важной особой; а чуть крошечку кольнут его, начинает кричать караул, скандал на всю русскую литературу. По-моему мнению у нас скандал скорее можно встретить в так-называемой серьезной статье, чем в стишках и фельетонах. И в самом деле весь скандал, о котором раскричались почтенные журналы, сходится на два на три стихотворения, да на два-три фельетона.
Если эти стишки и статейки – скандал, то прямо утверждаю, что есть другие скандалы гораздо более серьезные. Разве не скандал например эта тревожная и, теперь можно сказать утвердительно, нескончаемая переписка г. Каткова с г-жою Евгениею Тур? Можно ли так зарисоваться перед общественным мнением и смотреть на свои домашния дела, на свою домашнюю стирку, как на дело великой важности, как на какое-то чуть не государственное дело, в котором каждый из читателей непременно обязан принять участие? Разве не скандал в своем роде статья г. Дудышкина о Пушкине, статья, которая сама себя испугалась и поспешила умолкнуть? Разве не скандал некоторые статьи г. Бова в «Современнике»? Разве не скандал само объявление об издании «Отеч. Зап.» в будущем году? Утверждать, что после Белинского началась только серьезная критика и оценка наших писателей, между тем как вся-то эта критика вплоть до 54 года занималась весьма важными спорами о том, в каком году родился такой-то писатель и в каком месяце получил он такую-то награду, – утверждать это, по-моему, скандал. Разве не скандал говорить о своей собственной драме, как о счастливом приобретении для журнала? Нам посчастливилось, говорит г. Писемский в своем объявлении, да еще подписывается под ним, – посчастливилось совокупить три лучшия произведения русской литературы за 60-й год, и в том числе называет свою драму. А учоные скандалы «Современника,» а ваша серьезная авторитетность, с которою вы часто говорите о пустяках, а ваша лесть перед литературными авторитетами – разве это не скандал? Ведь бывали примеры, что иные рецензенты забегали к такому-то литературному генералу, за тем, чтоб попросить у него позволения не совсем одобрительно отозваться о таком то месте или о такой сцене его романа или повести. Может быть вы не знаете таких рецензентов? А я даже видел каррикатуру на этот случай. Да чего лучше? В «Отеч. Зап.» я однажды зараз прочел две критики на повесть «Накануне» г. Тургенева. Одну, написанную кажется г. Басистовым, а другую доставленную самим г. Тургеневым, а ему вероятно откуда-нибудь присланную. Первую я уже позабыл: в ней все такие фимиамы были… Вторая написана была с достоинством. В ней прямо говорилось что худо, что хорошо в повести г. Тургенева. Чтож бы вы думали, милостивый государь? везде, где критик порицал автора «Записок Охотника», везде редакция поспешила заявить свое несогласие. Чего бы ужь тут кажется лебезить редакции? Г. Тургенев сам прислал эту критику в редакцию, сам захотел не скрыть от публики не совсем благосклонных отзывов остроумного критика – нет! и тут нужно подкурить. А все надежда получить от знаменитого нувелиста… хоть что-нибудь, лишь бы только одно имя. И в самом деле в объявлении об издании «Отеч. Зап.» в числе разных имен стоит и имя г. Тургенева. Не знаю, много ли пишут там господа А. и Б., но положительно знаю, что в последние года не встречал в них повестей г. Тургенева, а между тем имя его с неутомимым упорством сохраняется в ежегодных объявлениях «Отеч. Зап.» Я ужь думаю, милостивый государь, не участвует ли в них наш романист под каким-нибудь псевдонимом.
Мне приходи теперь на мысль, милостивый государь, что если когда-нибудь появится в печати например переписка покойного Белинского с его московскими друзьями, – чтож? и она будет скандалом в нашей литературе? Вы, может, скажете: пусть художник берет свои типы из действительности, но зачем же публиковать те лица, те факты, которые дали ему первую мысль и побудили его написать свое художественное произведение? Все так, отвечаю я, но почему ж не опубликовать и лица, если они действительно достойны позора или посмеяния? Отчего не указать на них пальцем? Художественное произведение само по себе, а гласность сама по себе; неужели ж вы пойдете против гласности? Ведь кричали-же в первое время появления Гоголя, что его лица недействительны, что таких лиц не бывает в натуре. И сколько кричали-то! А еслиб рядом с художественным произведением была тогда и гласность, публика бы увидала, что прав Гоголь, а виноваты его обвинители. Вот в этом-то смысле я и говорю, что без гласности проиграет и художественное произведение. Неужели ж, повторяю, эта переписка будет тем родом литературы, «в котором играет главную роль лицо, а не идея, факт, а не творческое создание», как начинают Отечественные Записки свое строгое слово? Ну, чтож, что тут лицо, а не идея? что тут факт, а не творческое создание? Никакая литература в мире не может обойдтись без этого рода письменности, а тем более литература развивающаяся, богатеющая, вступающая в права свои. Творческое создание, нет спора, вещь прекрасная, я стою за то. Но если в литературе будет все шито да крыто, если до нас не будут доходить иногда вести о том, как бесчинствует сильный над слабым, к каким плутням прибегает такой-то откупщик и как грабит бедный люд такое-то лицо, поставленное правительством, чтоб оберегать людей, а не грабить; как иногда зарисовывается ослепленный счастием такой-то промышленник; – то от этого, право, потеряет и творческое создание. Ведь из лиц, живых, снующих, богатых, бедных, честных и плутующих создает оно свои типы; ведь из суммы фактов, выживаемых народом, создает оно свои перипетии? Вы называете это литературою скандалов, а я называю это черновою работой, стелажами, известью и глиной для чудных замков творческого создания.
Позвольте мне, милостивый государь, проследить по пунктам всю статью «Отеч. Зап.» Она замечательна во многих отношениях. Сверх того, надобно же наконец показать некоторым журналам, что в наше время трудно уже так морочить читающую публику, как морочили ее в тридцатых и сороковых годах. Она уже не та, она много выросла в последние года, её прибыло. Как ни скрыты ваши потаенные нитки, которыми вы двигаете ваши марьонетки, она видит эти нитки и очень хорошо знает, к чему все это клонится. Она не виновата, что вы остались теже и при тех же понятиях, мнениях и верованиях, что и в сороковых годах. Вольно ж вам было не замечать её чудного роста. Она уже не прежний ребенок: она очень хорошо видит и ваши осенние походы, хоть вы прямо и не говорите, что дескать, любезные читатели, не подписывайтесь на такой-то журнал; из прежней грубой формы вы уже выжили. Ф. В. Булгарин теперь уже невозможен. Видит публика и ваши журнальные вражды, поднимаемые будто бы из-за принципов науки или искусства, а на самом деле из очень личных целей. В протоколе общества пособия нуждающимся литераторам и учоным (4 октября), по поводу разных упреков обществу, было сказано:… «такие упреки, доводимые до общего сведения и остающиеся без ответа, вредят целому обществу в мнении иногородных его членов и той части публики, которая не посвящена в тайны петербургской журналистики и петербургских литературных отношений. Стало быть действительно существуют тайны петербургской журналистики и петербургских литературных отношений. Отзыв общества я считаю в этом смысле почти оффициальным уведомлением.
Обращаюсь к статье «Отеч. Зап.» Эта статья, как вы уже знаете, написана по поводу сочинений г. Панаева. Первая часть её подписана каким-то непризнанным поэтом. Если «Отеч. Зап.» считают скандалом стишки в разных шуточных изданиях и фельетоны Нового Поэта, то эта статейка тоже скандал. Она написана в таком тоне: Ах, Иван Иваныч; как вам не стыдно, Иван Иваныч; я от вас этого никак не ожидал, Иван Иваныч; я вас знал еще маленьким, Иван Иваныч! и т. д. и не смотря на это, я не назову этой пустенькой статейки скандалом. Она – статейка неловкая, неостроумная и даже дурного тона, но не скандал, точно так как не составляют скандала и мелкие стишки и фельетоны Нового Поэта. Конечно, помещенная в серьезном отделе такого серьезного журнала, как «Отеч. Зап.,» журнала, говорящего об всем с нахмуренною бровью, эта статейка как-то невольно режет глаза, но пусть ужь она не будет скандалом. Не всякая дурная шутка составляет литературный скандал. Привилегия или монополия скандалов остается за нашими серьезными журналами. Вот послесловие этой статейки, написанное по всем признакам человеком очень близким к редакции, человеком очевидно очень серьёзным, близко подходит к скандалу.
«Этот-то род литературы, так начинается это послесловие, в котором играет главную роль лицо, а не идея, факт, а не творческое создание, получил у нас широкое применение и образовал целую литературу скандалов. Скандалы появились – мы уже теперь говорим не о г. Панаеве и Новом Поэте – в журналах толстых и тонких, на столбцах газет и еженедельных изданий.»
Вы говорите не о г. Панаеве и не о Новом Поэте? – так о ком же? Ужь не об обличительной ли литературе? В таком случае в критике «Отеч. Зап.,» которая, с тех пор как Белинский покинул этот журнал, сделалась одним из бесцветнейших его отделов, произойдет с будущего года значительная перемена. Она стало-быть примкнет к «Библиотеке для Чтения,» и у нас вместо одного журнала искусства для искусства, явится их два. Все-таки лучше иметь хоть одно не совсем верное направление, чем вовсе не иметь никакого. Но нет; не то кажется хотят сказать «Отеч. Зап.» Продолжаю делать выписки:
«Ему (т. е. этому роду литературы, где лицо и т. д.) преданы душой и телом все бездарности, потомучто он очень легок; на нем основывают свою репутацию вновь-пояаляющиеся журналы и газеты, потомучто скандал заставляет говорить о себе и привлекает подписчиков; к нему прбегают люди, которые и не имели его сначала в виду, но в разгаре полемики не сумели сдержать себя. Городская сплетня, личная клевета заступила место таланта, и мы приутствуем при том безобразии литературных выходок, каторое служит весьма-прискорбным явлением нашего времени.»
Нет, тут очевидно не обличительная литература. Тут опять о стишках, и я, на которого, слава Богу, не пишут еще ни стишков, ни эпиграмм, и у которого потому кровь течет правильно и покойно, я никак не могу понять ни такого ожесточения, ни такого преувеличения. Прочтя вышеприведенные строки, право подумаешь, что у нас не осталось уже ни одного таланта и все они пустились писать смехотворные стишки на почтенного редактора «Отеч. Зап.,» потомучто, заметьте, кто пишет подобные стишки, тот ужь не талант. Подумаешь, что вся наша литература: и мужчины-писатели и дамы-писательницы и дети-писатели и псевдонимы и анонимы, бросили писать романы, комедии и повести и стали выделывать только скандалы. Ну, можно ли так волноваться из-за таких пустяков? Вся-то эта по-вашему литература скандалов сводится на несколько стихотворений, которые все на перечет. Надобно ужь слишком сильно принять к сердцу несколько куплетов, чтоб из-за этого поднять такой гвалт. Мне, человеку постороннему и, главное, хладнокровному, хочется сказать почтенному редактору: милостивый государь, вы любите гласность, по крайней мере, вы с самого основания своего прекрасного журнала взывали к ней, ждали и звали ее. И вот вдруг, с началом нынешнего благословенного царствования, расступились облака, заволакивавшиия наше небо, и сквозь них весело проглянул голубой клочек его. Стало возможным осмеивать некоторые лица или всем надоевшия или злоупотребившия закон и власть им предоставленную или наконец такия, как например господин Козляинов, которые нет-нет да и отдуют немку. Вместе с куплетами на этих господ, вероятно по ошибке написали несколько куплетов и на вас. Ну, чтож что написали – велика важность! Неужели ж из того, что гласность раз ошиблась, – долой ее. Нет, милостивый государь, если вы любите гласность, извиняйте и уклонения её. Вы конечно не оскорбитесь, если я поставлю лорда Пальмерстона на одну доску с вами – он человек почтенный во всех отношениях – что ж? он не обижается, когда его продернут иногда в двадцати или тридцати оппозиционных журналах, да осмеют в десятках шуточных, да обругают на чем свет стоит в сотнях иностранных – французских, немецких, американских. Поверьте, что после всего этого продергивания он кушает с своим обыкновенным аппетитом, и ночью, когда говорит в палате, голос его не дрожит и не взволнован нисколько. И никогда на ум ему не вспадет желать уничтожения гласности. И за кого вы стоите, за кого вы ратуете, милостивый государь? За господ Гусиных, Сорокиных, Козляиновых, Аскоченских, потомучто если не считать вас, милостивый государь, вас, которого задели может быть по недоразумению, ведь куплеты писались только на подобные лица. Стало-быть все, что вы писали о гласности, все ваши воззвания к ней, вся ваша жажда её – все это были слова, слова и слова?.. Стало быть пусть пишут про других, мы будем молчать и посмеемся еще с приятелями над осмеянными лицами, только бы нас-то не трогали. Нет, милостивый государь, ваше поколение (я старик, совсем старик, у меня и ноги ужь не ходят, и потому я не принадлежу к вашему поколению) и без того ужь много играло словами. Может-быть историческая роль его была играть словами, но из этих слов ростет теперь новое поколение, для которого слово и дело, может-быть, будут синонимами и которое понимает гласность несколько шире, чем вы понимаете ее. Я согласен, что вам все это крайне неприятно; я знаю из разных печатных статеек, что вас всюду выбирают на почотные места: вы член комитета литературного фонда, вы даже казначей его, вы главный редактор энциклопедического лексикона, вы, одним словом – лицо, а не то что какая-нибудь персона; понимаю, еще раз понимаю, как вам все это неприятно, но что ж делать? укрепитесь. Нельзя же вдруг вычеркнуть из жизни прежние либеральные годы, прежния верования. Такое ужь видно время, слава Богу, пришло, что и лицом-то нельзя быть без этих верований.
Вы тоже неправы, милостивый государь, и с точки зрения риторики и пиитики. Разверните Кошанского, и вы увидите, что эпиграмма, куплет и даже триолет (этот последний род забыт, к сожалению, с самого Карамзина) имеют в каждой литературе право гражданства. Лучшия эпиграммы писал Пушкин. Право, как пораздумаешь, милостивый государь, так и выйдет, что наше время не выдумало нового пороха. Наши куплетисты и сатирики должны сознаться, что и они повторяют зады, да и вы, милостивый государь, повторяете зады же. Как до них писались Пушкиным и другими нашими стихотворцами куплеты и эпиграммы, так и до вас Фаддей Венедиктович Булгарин тоже вот сильно восставал на этот род литературы, где «главную роль играет лицо, а не идея и т. д.», как вы выразились в своем журнале. Вы тоже неправы и там, где говорите, что этому роду «преданы душой и телом все бездарности, потомучто он очень легок.» Во первых он вовсе не легок: надо иметь особый талант, чтоб смешить, особый склад ума, чтоб написать нечто остроумное и грациозное в этом роде, а во вторых должно сознаться, что большая часть стишков, написанных в честь разных лиц, были и грациозны и остроумны. Вы конечно по щекотливому положению своему не можете быть судьею в этом деле, а то непременно согласились бы со мною. Разумеется из вежливости и приличия, говоря с вами, я не стану делать выписок, но вспомните для примера ваше будто бы свидание с господином Перейрой в «Искр», который, сказать кстати, так грубо и неприлично обошолся с Редакциею Санкт-Петербургских Ведомостей, написав ей такое длинное, но тем не менее не совсем вежливое послание. Как угодно, а статейка Искры в высшей степени зла и остроумна, а в этом ведь и заключается все качество эпиграммы. Позвольте мне припомнить одно стихотворение, очевидно написанное не на вас, хоть там и есть слово «редактор», – но мало ли редакторов в Петербурге и Москве. Ктому же для очистки совести я нарочно посмотрел на ваш портрет в издании Мюнстера и увидал, что волосы ваши прямые и гладкие, а тут воспевается какой-то кудрявый редактор. Мне потому хочется привести здесь эти стишки, что они очень милы и грациозны, а главное не обидны и не злы. Я говорю здесь о стихотворении:
Блуждает старец среброкудрый
Между тиролек и цыган;
Что ищет он, редактор мудрый,
Что потерял в кафе-шантан.
Поет и пляшет труппа Лендта,
Фохт чудным светом залил сад,
И точно радужная лента,
Камелий пышных вьется ряд.
Следующего куплета не помню, а справиться негде; но вот последний:
Пред ним волнуется и свищет
Неугомонная толпа,
А он, мятежный, Ицку ищет,
Чтоб говорить про откупа.
Как угодно, милостивый государь, а это премиленькая вещица в своем роде. Жаль, что я позабыл пропущенный куплет: в нем был пресмешной перевод французского слова caf?-chantant.
Вы сознаётесь также, милостивый государь, что все подобные вещи заставляют говорить о себе и привлекают подписчиков. Если вы говорите это, то вам можно поверить н?-слово, потомучто из всех редакторов, вы конечно наиопытнейший. Но ведь вот что выходит из этого: если они привлекают подписчиков, стало-быть публика их любит? Да, это факт, но отнюдь не грустный, и публику нельзя винить за это, как вы это делаете далее в статье своей. Буду продолжать выписки:
«Городская сплетня, личная клевета заступила место таланта, и мы присутствуем при том безобразии литературных выходок, которое служит весьма прискорбным явлением настоящего времени. Забыто честное труженичество, нет и помину об идее и искусстве – и паясничество назвало себя сатирой.»
Это бесспорно очень красноречиво, но где же тут правда? Какая была у нас литература, такая и осталась. В последние годы, слава Богу, никто из наших талантов не умер. Все они на-лицо. Как писали прежде, так и теперь пишут. Новых талантов прибавилось немного, стало-быть и в этом отношении все у нас по старому. Кто же из них забыл честное труженичество, кто же из них забыл об идее и об искусстве? – Вот вопросы, на которые трудно будет кому-нибудь ответить. Обвинять всю литературу в скандалах и паясничестве, это, как хотите, немного странно.
«Нет надобности указывать на мелочи дрязгов, которые кишат. Не с этой целью мы и характеризуем их. Явление более прискорбно, нежели кажется с первого взгляда, и мы полагаем, что пораздумать о нем пора каждому, сколько нибудь уважающему себя литератору.»
Пораздумать, почему не пораздумать. Но вот в чем дело: литератор пожалуй и пораздумает, да и примет на свой счет все, что вы тут наговорили. Ведь вы так все обобщили, что мне кажется, и я виноват в скандалах, что и я только и занят, что «дрязгами, которые кишат». Так зачем же кишат эти дрязги? Зачем подавать повод к этим дрязгам? Ведь вот тот редактор, о котором сложено вышеприведенное мною стихотворение, может тоже, как и вы, сказать, что это дрязги, и обвинить в этих дрязгах всю литературу. Прекрасно, но зачем же он подает повод к этим дрязгам. Зачем ему искать какого-то Ицку? Чтоб говорить про откупа? а зачем ему говорить про откупа? Если он редактор издания, претендущего на современность, так он должен бы говорить против откупов и чуждаться всяких Ицек. За Ицек-то над ним и смеются. А то он будет писать одно, а делать другое: тогда-то вот и выйдет настоящий скандал.
Но продолжаю:
«В чем искать его(этого явления) причину? Главная причина состоит в разложении тех элементов нашей литературы, которыми она жила до сих пор. Была она однообразна, сдержана и твердо верила нескольким, весьма-немногим и самым несложным принципам. Лишь только началось разложение, лишь только начали стареть те начала, которыми жила литература – начались и насмешки над тем, что устарело.»
И слава Богу! О чем же тут жалеть? И прекрасно, что начались насмешки над тем, что устарело и что мешает. И прекрасно, что те элементы нашей литературы, которыми она жила до сих пор, разложились, хотя это простое понятие могло бы быть попроще выражено. Но так-как мы все уже привыкли к учоному слогу «Отеч. Зап.,» то понимаем его отлично. Не понимаю я только, о чем же тут жалеют «Отеч. Зап.» или в чем обвиняют они нашу литературу? Смеяться над тем, что устарело, отжило, но упрямо не сходит со сцены, упрямо копошится и хлопочет у всех перед глазами, – право не предосудительно. Гораздо хуже было бы молчание или равнодушие. Когда смеются, значит принимают участие, значит, что мысль о незаконности или несвоевременности того или другого явления уже осмыслена общественным сознанием, значит, что общество уже оторвало от себя это устарелое явление, как вредный нарост, и смотрит на него, как на предмет посторонний. Если это явление насильно хочет навязывать себя обществу, надо бороться с ним, ну хоть насмешкой, если ей одной можно бороться. «Отеч. Зап.» должны бы знать, что орудия для борьбы нельзя выбирать по произволу. Употребляются те, какия употребить можно.
«Но эти насмешки (продолжают «Отеч. Зап.») все-таки ограничились бы насмешками над учениями, идеями, а не лицами, еслиб литературное общество жило у нас давно и выработало себе известные законы, без которых не может жить никакое общество. Этого-то и не было.»
Действительно так; законов литературных литературное общество не выработало. Но вот что: английское и французское общество выработали себе на этот счет всевозможные законы, – и такие, перед которыми преступившие их отвечают в суде, и такие, перед которыми оправдываются в общественном мнении, оправдываются перед установленными приличиями и наконец перед своей собствзнной совестию. А все-таки и там борьба шла не с одними учениями, но и с лицами. Вспомните например все царствование Луи Филиппа и все последующее время до восстановления Империи. Вспомните, как в каждом нумере какого нибудь Фигаро, Шаривари или «Journal pour rиre» фигурировали в каррикатурах портреты людей с европейскою известностию. Вспомните насмешки над Тьером, Гизо, главами социалистов, над Прудоном, Кабе, Пьером-Леру. Это в шуточных журналах; в серьезных было тоже: доказательство найдете во множестве литературных процессов того времени. В английской литературе чуть ли еще не сильнее все это было, да и теперь есть. Да и вы сами, который так мудро проповедуете теперь умеренность, (за настоящую умеренность, позвольте уверить вас, и я стою), вспомните ваши прежния распри с устарелыми учениями, вспомните ваши ответы Булгарину или Полевому… ну, хоть по поводу значения Гоголя. Борясь с учениями, вы не щадили и лиц, и это уже не в шуточном отделе, которого у вас никогда и не было (похвально или не похвально это, не знаю), а в серьезном, в критике. Перелистывая старые беседы ваши с вашими прежними недругами, удивляешься возможности некоторых выражений в печати и невольно чувствуешь, что наше время сделало большой шаг вперед! Посмотрите, как все прилично и чинно в наших современных критиках. Прежней брани и следов нет. Позволяются только намеки и то тонкие и, главное, почти всегда справедливые. Недавно г. Чернышевский не употребил таких тонких намеков относительно г. Погодина, и посмотрели бы вы, как даже у нас в захолустье тыкали на это пальцами. Воображаю, что было у вас в Петербурге и в какое негодование должны были придти вы, милостивый государь. Воображаю потому, что сам был сильно взволнован. Нет, что ни говорите, а у нас есть общественное мнение и так ругаться, как ругались печатно в тридцатых и сороковых годах, теперь уже невозможно. Произошло сильное смягчение в литературных нравах.
«Прошедшее представляло нам немного удачных приемов борьбы старого с новым: настоящее, захваченное врасплох серьезностию задачи, выказало скоро скромный запас своих сведений. Люди опытные и знающие старались удержаться в границах; люди, более отважные нежели знающие, более молодые нежели талантливые, схватились за насмешку над наукою и литературою, которые как бы ни были ограничены своим объемом у нас, все-таки стоят недосягаемо выше тех насмешек, которыми их подчуют. Началось насмешками над историей, над литературой, над политическою экономией и публицистами запада в то время, когда мы, по нашим познаниям, были пигмеи перед этими авторитетами, и кончилось свистом, без всяких рассуждений, над лицами, трудившимися над историей, литературой и политическими науками.»
И здесь я вижу, милостивый государь, большия натяжки. Никто у нас, положительно никто не смеялся ни над литературой, ни над историей или вообще над наукой. Если и были насмешки, то не над наукой, а над каким-нибудь видом, над какой-нибудь формой науки. Не соглашаться с чем-нибудь, иметь свое мнение, даже будь оно и неосновательное, не грех; смеяться над каким-нибудь научным мнением еще не значит смеяться над самой наукой. Очень позволительно например посмеяться над тем, что Варяги были Литвины, а не Норманы, или на оборот, смотря потому, кто какого мнения придерживается; но это еще не значит, чтоб смеющиеся издевались над историей. Точно тоже можно сказать и относительно лиц, проповедывающих различные теории в науке. Г.де-Молинари, г. Костомаров, г. Погодин, г. Бабст, вы сами, милостивый государь, – люди общественные. В первый раз поставив имя свое под печатной статьею, они уже перестали быть людьми частными. Они выступили на всеобщий суд и осуждение. Оставьте же полную свободу суду и этому осуждению. Вы журналист – так вступайтесь за них, боритесь за них, если разделяете их возрение, но не говорите, что противники ваши, смеясь над ними, порицая их, этим самым попирают науку. Наука стоит слишком высоко, чтоб можно было безнаказанно попирать ее. Попираются разные учения науки, а не самая наука. Тоже самое можно применить и к литературе. Неужели смеяться над стихами г. Случевского (у которого впрочем, может быть, и есть дарование, но еще не установившееся) значит смеяться над литературой.
Когда вы заговорили о свисте, я вспомнил одно стихотворение в «Современнике» или в его свистке. В памяти моей осталось только три или четыре стиха, и то без всякой связи с предыдущими:
….Ученый Бабст стихами росенгейма
Там подкрепляет мнения свои….
далее не помню; или вот эти: там, в Москве, где
Как водопад бушует Русский Вестник,
Где Атеней, как ручеек журчал….
Бог знает почему иногда удержится в памяти один какой нибудь стих, да и то не всегда лучший, между тем как другие все улетучиваются. Это «почему» тоже, милостивый государь, вопрос, о котором Гейне, например, написал бы чудных две-три страницы. Что касается до меня, то я знаю только, что он их уже не напишет, и потому опять говорю, что ваш намек о свисте напомнил мне свисток, а потом и это стихотворение. Ужь не на него ли вы так ополчились? Ну что ж, что г. Бабст подкрепляет свои мнения стихами г. росенгейма. В этом ничего нет предосудительного. Пусть подкрепляет, хотя мне лично, милостивый государь, нравится более г. Лилиеншвагер. У всякого свой вкус, и я уверен, что г. Бабст, как человек очень умный, судя по его сочинениям, а главное, как человек весьма талантливый, только улыбнулся, прочитав о себе это двустишие. «Русский же Вестник» должен был остаться очень доволен тем, что его сравнили с водопадом.
Но я чувствую, что говорю о пустяках. В этом виновата ваша же серьёзная статья… по поводу разных пустяков, потомучто в свисте, о котором вы так торжественно говорите и который вы очевидно приберегли к концу, как иной поэт приберегает к концу свой наилучший стих, чтоб поразить, ошеломить, убедить слушателя или читателя – ровно ничего не было серьезного.