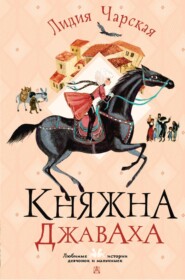По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вторая Нина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гори просыпался…
И я проснулась вместе с Гори и солнцем, разбуженная криком какой-то пичужки, приютившейся на соседнем с моим окном кусте азалии…
Все, произошедшее со мной вчера, казалось мне теперь странной, фантастической сказкой. Гроза… Гибель Смелого… Уплисцихе и ara-Керим… Моя жадная до впечатлений пылкая душа татарки (да, татарки – по происхождению и крови) ликовала, мое сердце трепетало, как пойманная птица. Боль в руке утихла, пропала бесследно… Только душевная боль при воспоминании о потере Смелого еще жила во мне. Полное таинственной прелести вчерашнее приключение увлекало меня. Безумная радость от сознания, что мы кунаки с самим ага-Керимом, не давала мне покоя. Кунаки, конечно кунаки! Мы обменялись подарками. Я отдала ему седло покойного Смелого, а он подарил мне свой дагестанский кинжал! Милый кинжал! Я успела его скрыть от глаз наших и теперь, быстро вытащив его из кармана бешмета[20 - Бешме?т – род кафтана, обшитого галуном.], поднесла к губам…
В дверь постучали. Едва я успела быстрым движением сунуть кинжал под подушку, как в комнату вошла Люда.
Люда всегда поднимается с зарей, быстро совершает свой туалет и приходит будить меня каждое утро. Я не люблю этих посещений, хотя и люблю Люду всей душой. Она всегда такая тихая и кроткая, как овечка, с ее длинными, глянцевитыми черными косами, красиво и гладко уложенными на затылке, с ее удивительно моложавым лицом. Ей около тридцати четырех лет – Люде, моей воспитательнице, заменившей мне мою покойную мать, а между тем по виду она кажется немногим старше меня, пятнадцатилетней девочки… Все в доме называют ее ангелом за ее доброту. Но ее доброта порой раздражает меня… Мне кажется, что нельзя быть такой доброй и кроткой и что Люда такая только ради того, чтобы ее любили… Да простит мне Господь подобные мысли!
– Ты не спишь, Нина? – спрашивает она.
– Как видишь! – отвечаю я с затаенным раздражением на мою названую сестру и воспитательницу.
Мне досадно, что она вошла ко мне в то время, когда я хотела полюбоваться подарком Керима.
– Слушай, Нина, – произносит Люда и, не замечая, как мне показалось, моего нелюбезного настроения, присаживается на край моей постели, – я пришла к тебе серьезно поговорить.
– Серьезно? – делаю я большие глаза, и насмешливая улыбка кривит мои губы. – Но ведь ты всегда говоришь со мной не иначе как серьезно, Люда!
– Перестань насмехаться, Нина, – говорит она, силясь придать строгое выражение своему нежному лицу. – Я хотела поговорить с тобой об отце. Ты не любишь его, Нина!
– О!..
В этом «О!..» выражается все: и гнев, и негодование, и обида. Но этим исчерпывается и все дальнейшее объяснение в моих устах. Я слишком горда, чтобы оправдываться и спорить. Я не умею выражать свою любовь, признательность, благодарность… И ласкаться тоже не умею. В этом я не виновата, Бог свидетель. Кровь моего племени – племени моих родителей и предков – создала меня такой.
– Ты не любишь твоего отца, нашего нареченного отца, – поправилась Люда. – Если б ты знала, как его тревожит вчерашнее происшествие, твоя вывихнутая рука, исчезновение Смелого, – словом, та тайна, которой ты окружила себя… Но отец так деликатен, заметь, Нина, что никогда не спросит тебя об этом…
– Но зато меня спрашиваешь об этом ты! – не могу не улыбнуться я, глядя в самые зрачки моей воспитательницы. – Милая Люда! Я вполне понимаю тебя, – продолжаю я уже серьезным и даже торжественным голосом, – я понимаю твои страхи и заботы. Еще бы, разве это не странно? Приемная дочь, узаконенная княжеская воспитанница и племянница, аристократка, носится по горам, как юноша-джигит, в рваном бешмете, совершая далекие поездки в окрестности Гори, попадает в грозу и ливень и возвращается пешком, с вывихнутой рукой… Вы правы, тысячу раз правы, Люда! Я мальчишка, татарчонок, необузданная дикарка, – словом, все то, чем вы справедливо считаете меня, ты и отец. Я упала со скалы в ущелье, вывихнув себе руку… И насмерть загнала Смелого…
– Ах!
Люда всплеснула руками. В ее чудных, черных, как две спелые черешни, глазах выразился неподдельный ужас…
– Смелый умер! – вскричала она. – И тебе не жаль его, Нина?..
Мои глаза на миг наполняются слезами. Но только на миг, не больше. Я не умею плакать и считаю слезы позором.
– Сердце мое Люда! Звездочка моя восточная! – говорю я, насколько умею ласково и сердечно. – Передай папе все это и не заставляй меня исповедоваться перед ним!
«Сердце Люда» укоризненно качает головой… Потом целует меня и уходит, спеша успокоить дядю Георгия. Милая Люда! Она добра как ангел. Но что значит доброта Люды в сравнении с храбростью Керима?..
Я быстро вскакиваю с постели, обливаюсь холодной водой, принесенной мне Маро. Пока я моюсь, Маро стоит передо мной со своим неподвижным, сонным лицом, какое бывает только у замужних грузинок, и своими пустыми черными бархатными глазами с укором смотрит на меня.
– Нехорошо, княжна… – вяло произносят ее пурпурные губки. – Коня загнала… Ручку испортила… Пешей вернулась… Батоно-князь[21 - Бато?но – по-грузински «уважаемый, господин» – почтительное обращение.] тревожился, очень тревожился батоно… Ручка болит, на балу плясать не будешь… Бал на неделе, а ручка испорчена… Нехорошо, джаным[22 - Джаны?м, джан – по-татарски «душа, душенька»; самая употребительная ласка на Востоке.], нехорошо, голубка!..
– Нет, я буду плясать на балу, Маро. Рука пройдет, заживет до свадьбы, – смеюсь я. – И ты будешь плясать, Маро, лезгинку на нашем балу плясать будешь!
– Что ты, что ты, княжна! – с неподдельным ужасом лепечет молодая грузинка. – Маро плясать нельзя. Маро замужняя… Муж узнает – бить будет, до смерти забьет Маро…
– Не забьет, увидишь! Ты хорошенькая, Маро, прелесть какая хорошенькая! Очи как у газели, уста – розовые кусты! А ты видела Керима, Маро? Керима, вождя душманов? – неожиданно, помимо собственной воли, выпаливаю я.
Она вздрагивает как под ударом хлыста. Лицо ее разом дурнеет от исказившего ее черты выражения ужаса.
– Керим! Керим! – лепечет она в страхе, роняя из рук глиняный кувшин, из которого поливала водой мои намыленные руки. – Святая Нина, просветительница Грузии, святая, мудрая царица Тамара! Зачем произносишь ты это имя, княжна-джан? На нем кровь и смерть. Избави Господь каждого христианина от встречи с Керимом-душманом!
Испуганное лицо Маро рассмешило меня.
«А знаешь ли ты, Маро, что я встретила его? Он теперь даже мой кунак!» – готово было с гордостью вырваться из моей груди.
Но я вовремя удержалась и, плеснув в хорошенькое лицо Маро студеной водой, крикнула ей со смехом:
– Ну и трусиха же ты! – и со всех ног кинулась из комнаты пожелать доброго утра отцу.
Все дрожит в моей душе, все трепещет.
Непривычная к шуткам и смеху, я сегодня шутила и смеялась с Маро. Это так необычно, так ново, что я сама не узнаю себя.
Это не веселый смех… Он не может быть веселым, когда на душе моей камнем лежит вина в гибели лошади…
Но что делать, если слёз не дано моей душе?
Что делать, если мое сердце черство и сурово, как горная каменная глыба?
Мой нареченный отец сидит в столовой. Перед ним в прозрачной фарфоровой чашечке дымится вкусный, крепкий турецкий мокко. На тарелках перед ним разложены настоящий грузинский соленый квели[23 - Кве?ли – сорт сыра.], который мастерски готовит у нас Маро и который испокон века не переводится в нашем доме, пресные лаваши и лобио. Тут же лежит кусок персикового пирога, остаток вчерашнего ужина.
При виде любимого кушанья я разом почувствовала волчий аппетит и, поцеловав отца, с жадностью набросилась на еду. Отец с нескрываемым удовольствием любовался мной. Когда я закончила мой завтрак, он нежно притянул меня к себе.
– Люда мне сказала, – начал он своим ласковым голосом, – про твое несчастье, Нина! Бедный Смелый погиб в горах, но ты не горюй, моя девочка. Лишь только залечим твою руку, ты сможешь взять любую лошадь из конюшни взамен твоего погибшего друга!
Едва он докончил свою фразу, как я испустила дикий крик радости и повисла у него на шее. Я, непривычная к нежностям, ласкала моего отца, как никого не ласкала в мире, я буквально душила его поцелуями и, обвивая своими тонкими руками его седую голову, лепетала сквозь взрывы счастливого смеха:
– Алмаза… Папа, милый… Алмаза подари мне, папа… Алмаза!
– Нина! Радость! Джаночка моя, опомнись! – с волнением произнес отец. – Как можно дать тебе Алмаза, который так и норовит любого сбросить с седла! Ты не проскачешь на нем и одной мили, радость.
– Проскачу, папа! Солнышко мое, счастье мое, проскачу! Клянусь тебе высокими горами Кавказа и долинами Грузии, я усмирю его, папа! Усмирю! – хохочу я, как безумная, в то время как в голосе моем дрожат рыдания.
Мои глаза сверкали. Лицо пылало ярким румянцем. Губы и ноздри трепетали, как у дикого горного оленя.
Наверное, слова ласки были так непривычны и странны в моих устах, что отец невольно поддался их влиянию… Перед его мысленным взором, должно быть, воскресла другая девочка, нежная, как ласточка, кроткая и любящая, как голубка… Он вспомнил свою покойную дочь, и глаза его затуманились слезами. Потом он затих и с минуту оставался неподвижным, с низко опущенной головой. Наконец лицо его, исполненное ласки и невыразимой грусти, повернулось ко мне.
– Нина-джан! – произнес он неизъяснимо нежным голосом. – Я дарю тебе Алмаза – он твой! Только прикажу казакам выездить его хорошенько.
Я вздрогнула, радостно вскрикнула и метнулась из комнаты, забыв поблагодарить отца, не слушая слов Люды, кричавшей мне что-то… Мои мысли и душа были уже в конюшне, где стояли четыре казацкие лошади отца и в том числе он, мой Алмаз, свет очей моих, моя радость! Мне казалось, что я сплю или грежу наяву – до того неожиданным и прекрасным было мое счастье!
Вместо упреков в гибели Смелого я получила поцелуи и ласки! Вместо погибшего четвероногого товарища – нового друга, о котором со сладким замиранием мечтала моя душа. Это был лучший конь отцовской конюшни, самая быстрая лошадь из всех, каких мне когда-либо приходилось встречать, гнедой красавец кабардинской породы.
Немудрено было обезуметь от восторга!