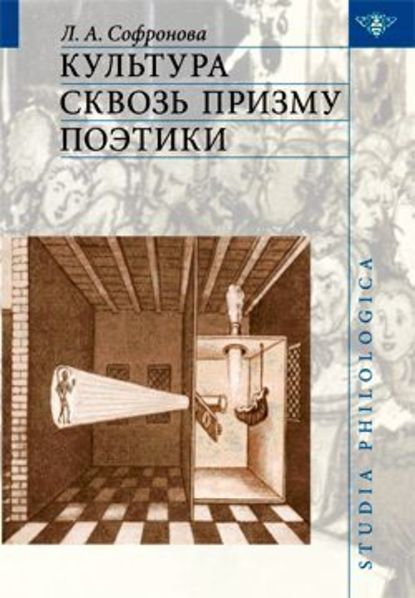По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Культура сквозь призму поэтики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Античные мотивы, проникнув в мистерии, прижились и в моралите, где, кажется, не было нужды перелицовывать грешника в античного персонажа, но это происходило, притом не раз, так как в любом случае автор предпочитал произвести подстановку, понять которую зритель был должен, приложив интеллектуальные усилия. Потому Актеон символизировал грешника, а его блуждания по лесу – заблуждения человеческой души.
Соседствовали античные персонажи с агиографическими, как Венера, Плутон и Геракл – со св. Алексием. Пьеса о нем начиналась упоминанием Диогена, который «среди дня зъ свичою / человека некгдыс (шукал)» [Драма украiнська, 1928, 125]. В дальнейшем на сцену выходили Юнона со Счастьем, завлекавшие будущего святого на широкий путь греха. Затем около него появлялась Виртус. Подобные столкновения встречаются и в поэзии, например, в опоре на классического автора. В своей «Поэтике» Феофан Прокопович «в качестве примера „пародии“ приводит написанную им на латыни „элегию блаженного Алексия, в которой он описывает свое свободное и добровольное изгнание в такой же манере, как Овидий описал „свое““ [Николаев, 2001, 313]. Античные боги поклонялись Младенцу Иисусу, как в произведении К. Мясковского „Rotuly“. На сцене даже аллегорическая фигура Церкви, чей монолог открывает „Трагедокомедию“ Сильвестра Ляскоронского, упоминает Антиоха. За ветхозаветными примерами, которыми являются Иов, Еремия, Авель, Ной, следуют Нерон и Диоклитиан.
Происходило сближение античных и христианских символов на основе синонимии. Мотив золотого руна сочетался с образом агнца в украинских «Виршах на Воскресение Христово». Спасителя можно было объявить Аполлоном, крест – Парнасом, а Геликоном – Хедрон, что сделал Ст. Г. Любомирский в «Поэзии святого поста», поставив на место муз трех Марий. Богородицу могла замещать Ариадна. Артемиду предлагалось воспринимать как божественную любовь, а Фурий и Эвменид – как адские муки грешников. Купидон совершенно необязательно сохранял за собой статус покровителя и помощника влюбленных. Он мог стать параболой Святого Духа, Немезида – божественной справедливостью, а Парки – Провидением. Мачта, к которой привязал себя Одиссей, чтобы не поддаться соблазну сирен, символизировала мученический крест.
Очевидно, что такое окружение загоняло внутрь мифологические значения, которые приносили с собой античные персонажи. Нептун, Палляс и Марс ведут ту же тему, что Истина и Предуведение, только вторя их словам. В «Декламации ко дню рождения Елизаветы Петровны» встречаются Марс, который в одной польской пьесе подбадривает короля, Паллада и Фама. Марс и Вулкан, кующий оружие, означали войну, как и фигуры «Циклиопов, ударяющих в млаты». Они появлялись в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского. Бахус непременно нес значения, связанные с пиром и пьянством, как в польской рыбалтовской комедии «Масленица» или в русской «охотницкой» пьесе «Акт о Калеандре». Аллегории сакрального характера не были слишком отдалены от античных персонажей и даже вспоминали о них, как Любовь о Плютоне, который был ей резко противопоставлен.
Плютон не только приобретал значения, противопоставленные тем, которыми наделялись аллегории, несущие сакральные значения. Он и его соратники знаменовали на сцене адские силы. Вулкан, например, представал в пекле, где ковал вериги для Натуры Людской. Довольно часто античные персонажи образовывали круг, соотносимый с нижним миром. Вот что говорит, например, Злост: «Тис радост Презерпене, ра-дост и Плютона, / И тобою ся тепiит в пекле Тизифона, / Торжествует Алекто, рада и Мегера, Танцует невоздержно Иксиона сфера; / Випудилас Орфея всяк плач из геени <…>. Плавлет во радости сердце Танталово <…>. Зизиф каменодвижей не працуе нине» [Драма украiнська, 1925, 132]. В пьесе «Свобода от веков вожделенная» Натура обращается к Фуриям, взывая к помощи ада. Богов языческих вместе с миром и грехами обещает погубить Гнев Божий.
Рассматривая эти сходные по типу операции, сводящиеся к отыскиванию семантических параллелей на основе сходства действия, а также переименования, можно предположить, что сами эти операции также являют собой параллель. Ее можно усмотреть в давно сложившейся традиции преобразования евангельской истории ветхозаветными событиями. Ветхозаветные персонажи знаменовали Иисуса Христа, предсказывали его появление в мире, толковали его деяния. В какой-то мере их позиции относительно евангельских соответствуют тем, которые в школьном театре занимают античные персонажи, выступающие в функции аллегорий.
Конечно, подобное сопоставление можно сделать, только учитывая глубинные различия между светским и сакральным, но механизм перенесения и в том, и в другом случае действует одинаково. Обратим внимание на то, что античные мифологические персонажи могли сближаться с ветхозаветными: жертва Исаака – с принесением в жертву Ифигении, искушение Иосифа – с искушением Ипполита. Примечательно, что М. К. Сарбевский проводил своего рода типологические сопоставления эпизодов Ветхого Завета и античной мифологии. Он усматривал сходство троянского коня с Ноевым ковчегом, Марса с Моисеем. Афина стала для него выражением Премудрости Божией, а Меркурий обнаружил сходство с херувимами. Юпитер собрал в себе весь комплекс сакральных значений. Он означал всемогущество, вечность («Dii gentibus…»).
Таким образом, в школьном театре очевидна тенденция не столько противопоставить, сколько слить античность с христианством, одно передать через другое, что так свойственно эпохе барокко. Приведем один знаменательный пример: «Ныне лилея – Дева Марiа / Бога родила – миру явила… Уже прекрасны Фебусъ чело златовидно / Из облака легкаго явилъ световидно» [Драма украiнська, 1929, 132]. В стяжении античных образов и христианских идей, в толковании этих образов в христианском духе просматривается доминантная идея эпохи.
Эта идея смогла реализоваться потому, что античность на самом деле выступала некоей оболочкой для священных смыслов. Напомним, что и Сковорода называл ее собранием образов, как полотном, прикрывающим истину. Он объяснял античность как внешнее, скрывающее внутреннее, и потому описывал ее через код одежды. Называл античное «богословие» матерью богословия еврейского. Обряд обрезания для философа символизировал переход к христианским значениям от античных. Он утверждал, что языческую деву Минерву достаточно подвергнуть обрезанию, дабы посвятить ее Господу, для которого важно только сердце, обладающее духом веры. Переходя к образам еды, философ уверял, что языческое богословие годится на библейский стол, что все можно брать из языческих закромов. Эта пища не будет смердеть, если ее освятит Христос. Сковорода ставил знак равенства между античностью и язычеством и не раз называл его языческим, или «обветшалым», богословием. Однажды он определил античность как языческий яд. Философ применил к ней даже такую дефиницию, как навоз, но такой, из которого можно собрать золото.
Для барокко оппозиция язычество / христианство была чрезвычайно значимой, и язычество в ней замещалось античностью, в результате чего античность превращалась в самостоятельный язык, на котором описывалось язычество. Античные персонажи означали языческое начало, противопоставленное христианскому. Тогда античность воспринималась и «как религия, а не как культурная условность, имеющая лишь аллегорическое значение» [Живов, Успенский, 1984, 211].
Например, в украинской пьесе о святой Екатерине («Declamatio de S. Catharinae Genio») действуют Любовь Земная и Любовь Небесная. Любовь Небесная обещает святой Жениха Небесного и награждает в знак будущей верной службы перстнем. Земная же Любовь прочит ей другого жениха, объявляя декрет Юпитера. В анонимной «Рождественской драме» «семь мудрцевъ исходятъ и поютъ» [Драма украiнська, 1927, 189], призывая к себе Аполлина «припевать» их «клиру». В этой же пьесе Жрец, обращаясь к Аполлину, говорит о Парнасе, Диане, Юпитере. Так явно передается его принадлежность к миру язычества. Аполлин отвечает Жрецу, призывая муз. В украинской пьесе «Свобода от веков вожделенная» античные боги прямо именуются языческими: «Веема Натура Человеческая оставивши Бога молит себе во помощ богов язических» [Драма украiнська, 1925, 154]. Натуре отвечает Юпитер с «подружними» богами. Античные персонажи могли обобщаться в фигуре Многобожия. В «Действии на Рождество Христово» все античные мотивы символизируют язычество и многобожие.
Через античные мотивы передавались светские события, ибо при жизни боги могли быть людьми. Такая мотивация определяет очевидный механизм перенесения, столь типичный для барокко. Авторов привлекали культурные герои античности, потому что они оказывались способными замещать героев современности. Поэтому, например, во второй части пьесы «Образ страстей мира сего» выступает Россия, которую окружают Палляс, Аристотель, Туллий (Цицерон) и Аполлин, произносящий хвалу мудрости. Великие ученые древности и бог, покровитель искусств, оказываются здесь однородными фигурами.
Иногда античный сюжет переводился в разряд исторических, и тогда не только исторические персонажи, но и события, и даже территории, ставшие местом действия, переименовывались на античный манер. По сути дела, происходила подстановка античных параллелей на место событий современных или произошедших в недавнем прошлом. В польской пьесе, поставленной по случаю победы под Каменец-Подольским, Геркулес замещал короля Августа II, Прометей означал подольские земли, а орел, терзающий печень героя, – турецкий плен. Эта развернутая, но натянутая параллель свидетельствует о том, что драматурги обращались с античностью довольно свободно.
Многие операции с античной мифологией совершались на основе символов, входивших в гербы. Например, в гербе рода Опалиньских есть ладья. Ей и посвящен один школьный диалог, в котором Марс просит Дедала построить эту символическую ладью. Сатир рубит подходящее дерево топором Вулкана. Дедал эту ладью сооружает, и Язон, подгоняемый Эолом, счастливо ею правит. Не раз античные персонажи выступают знаками материи – как Протей, памяти – как Юнона, которая означала также и зависть; поэзии и науки – как Аполлон. Юпитер значил огонь, мудрого правителя, жадность.
Античность могла отдаляться от дел священных и государственных и приспосабливаться для интерпретации различных частных событий. В школьном театре развивались отдельные сюжетные ситуации, затем становившиеся параллелями современным событиям из жизни школы. В одной пиарской пьесе изображается решение основать орден пиаров. Соотносится оно с судом Париса. Только здесь Парис отдает яблоко Палладе. Язон, добывающий золотое руно, выступает значимой параллелью гетману Браницкому, вступающему в брак. Кстати, о путешествии Язона в «Образе Торжества Российского» рассуждают Рыцарь, олицетворяющий Елизавету, и аллегорическая фигура Любви. Она рассказывает о том, как Язон из Колхиды привез золотое руно. Рыцарь сетует на трудности пути. В честь возвращения королевича Владислава после битвы под Хотином в одной польской пьесе разыгрывался сюжет о возвращении Сципиона.
Античная мифология не только вписывалась в исторические сюжеты. Она была одним из способов воспроизведения реальной действительности, а также знаком историчности. Обращение к ней происходило в поисках корней, должных возвеличивать современное историческое событие, героев битв, благородные роды. Не раз фамилии знатных польских магнатов возводились к именам античным героев. Этимология самоназвания поляков сарматы от имени бога Марса не казалась тогда вовсе невероятной. Подобные трансформации всех устраивали и не выглядели немыслимыми.
Античные персонажи необязательно входили непосредственно в действие, что на первый взгляд говорит о том, что в драматических сюжетах они играли вспомогательную роль. Не раз они оказывались в малых частях драмы, антипрологах, прологах, эпилогах. Это никак не уменьшало их значимости. Напротив, они приобретали особое положение в пьесе.
Антипрологи, прологи, эпилоги образуют рамочную конструкцию школьной драмы и связаны с ней неразрывно. Они вторят ее смыслам и даже их расширяют, одновременно перекликаясь между собой, что можно наблюдать, например, в «Трагедокомедии» Сильвестра Ляскоронского. Обрамляя драматическое произведение, рама придает ему целостность и никогда не остается в стороне от его смыслов. Напротив, она содержит в себе их квинтэссенцию, подытоживая их или, напротив, только задавая. Потому размещение античных персонажей в рамочной конструкции указывает на их особый ранг.
Без рамы не обходились не только пьесы того времени. Рама была значимой частью решительно всех произведений – светских и сакральных. Она была необходимым элементом светской картины. Обрамляя иконы, рама даже превышала по значению их средник, как в иконе Донской Богоматери [Чубинская, 1997, 114]. Рамы были риторической конструкцией, в чем видится влияние барокко [Tarasov, 2002, 305]. Литературное произведение в ту эпоху также приобрело рамочную конструкцию, ибо оно всегда начиналось предисловием и заканчивалось послесловием. «Конструкция для эпохи барокко – это рамка и устроение смысловыявляющих процедур» [Михайлов, 1994, 342]. Значимость рамы проявлялась и в том, что она стала поэтическим символом, способным кумулировать как светские, так и сакральные смыслы, чему примером может служить стихотворение Иоанна Величковского: «И образом человек Христос обретеся, / Зачым слушне Я РАМІ два наречеся, / зане якоже РАМІ образ окружают, / Сице ложесна ея Христа обыймают» (цит. по: [Украiнська поезiя, 1992, 272]).
Антипролог польского «Диалога о Маврикии» было поручено вести Палладе. Она всего лишь хочет знать, о чем будет пьеса. Вряд ли ее любознательность можно возвести к главному значению этой фигуры – мудрости. В польском же диалоге «О подлинной христианской философии» пролог вел Орфей, а эпилог – Тезей, познавший мир и прошедший через лабиринт. Античные персонажи проникали и на русскую «охотницкую» сцену XVIII в., имевшую явные связи с театром школьным. Напомним, что «Купидон, непристойной Венеры бесстыдный сын» появлялся в ранних стихах Симеона Полоцкого со «злыми стрелами любви» [Сазонова, 1992, 28]. Кстати, он выступал в польской «Трагедии о Богаче и Лазаре», где летал с удочкой или сидел на облаке над морем. Он умолял Нептуна, Юпитера, Эола и Фортуну помочь ему поймать души грешников. Как видим, этот античный персонаж окончательно лишился своей основной функции и, попав в моралите, выступал лишь заместителем ловца душ человеческих. В польском диалоге «Смерть Цезаря» Орфей, оплакивающий Евридику, оказывается даже в интермедии, как Парис, Сизиф, Данаиды.
Античные персонажи не только располагались в раме. Они входили в собственно пьесы, где не утрачивали присущие им функции. Напротив, оставаясь «воплощенным» значением, которое легко прочитывалось из их внешнего облика и имени, они сразу присоединялись к разряду аллегорий, которые есть «вечная и постоянная метафора. Не во едином слове, но о повести» (цит. по: [Бабкин, 1951, 334]).
Можно сказать, что на самом деле в театре происходило переодевание аллегорических фигур в античные тоги и туники. Боги и герои трансформировались в эти условные фигуры, стягивающие условность и наглядность воедино. Потому Бахус мог управлять Пшемыславом («Вассhi Hilaria») точно так же, как другими героями Зависть или Злоба. Циклопы ковали оружия для болгарских королей («Ultrix pro religione Nemesis»). Геркулес выходил как аллегория Августа II в польских пьесах. Появлялся он и на русской сцене в «Образе Торжества Российского». То, что Геркулеса Всероссийского окружали Сенаторы, не казалось странным. Подобные анахронизмы никого не смущали. Драматурги выводили на сцену античных персонажей иной раз целыми группами. Они беседовали, развивая общую и значимую тему. В польском «Диалоге на Чистый Четверг» Диоген, Демокрит и Гераклит, Алкивиад и Сократ встречаются, чтобы порассуждать о суетности мира. В другой пьесе вместе выступают Сократ, Диоген, Эпикур.
Когда античный персонаж становился аллегорической фигурой, он не то чтобы сразу утрачивал свои исконные значения. Они еще могли проступать, но все же он приобретал новые, практически выступая заместителем уже устоявшейся в своих значениях аллегорической фигуры. В идеале античный персонаж, замещающий аллегорию, и сама аллегория имели однородные значения, как, например, Мужество и Марс. Но могло быть иначе, что свидетельствует о том, что связь между знаком и значением, которая для мифологического персонажа всегда неизменна, ослабевала. Античные боги и герои будто пугали драматургов своей конкретностью, и они стремились перевести их на следующий уровень абстракции, какой являют собой аллегории. Тогда античные персонажи становились знаками знака, ибо аллегории не столько выступали на сцене на правах театрального персонажа, сколько означали отдельные нравственные категории. Таким образом, пласт мифологических значений практически не присутствовал в школьных аллегориях. Он только угадывался. Античные персонажи, попав на сцену, заранее подвергались заданным поэтикой барокко искажениям.
Аллегории с одним и тем же постоянным значением переходили из пьесы в пьесу и всегда были узнаваемы. Милосердие всегда оставалось Милосердием, а Ненависть Ненавистью. Они не могли вырваться за предписанный им круг значений и функций. Точно так же не менялись своими функциями античные божества и герои, что не означало того, что они могли расширять или сужать присущий им круг значений. Их исконное значение то ослабевало, то вообще исчезало. Кроме того, они также могли принимать значения, противоположные первичным.
Античным персонажам в функции аллегорий поручалось произнесение монологов, прежде всего обобщавших смысл того, что представлялось на сцене. Они не вступали непосредственно в действие, а, в основном, комментировали его и вообще существовали на ином уровне, чем персонажи «реальные». Правда, они находились в отношениях между собой.
Значения античной мифологии уже выветривались и начинали относиться к разряду decorum. Потому не раз античные имена выстраивались в длинные ряды перечислений. Эти старательные перечисления говорят о том, что существовал четко очерченный круг античных персонажей, имена которых попадали в школьные пьесы. Особенно часто они встречаются в монологах панегирического характера. Никаких попыток раскрыть характеристики этих аллегорий античного характера при этом не предпринималось. В «Царстве Натуры Людской» в монологе Злости одновременно упоминаются Борей, Зефир, Прозерпина, Плютон, Мегера, Иксион, Тантал, Орфей, Сизиф. В монологе Фараона встречаются Марс, Нептун, Морфей, Иовиш (Юпитер), Бореаш (Борей). В польской пьесе «Kommunia duchowna Sw. Borysa i Hleba» Святополк произносит пространный монолог, в котором мелькают имена Тифона, Сизифа, Аристобула, Цирцеи и многих других. Аналогичная ситуация наблюдается в польской интермедии «Утехи более радостные и полезные, нежели с Бахусом и Венерою», в украинской пьесе о св. Екатерине, написанной по-польски, где Любовь Земная пересыпает свой вводный монолог именами Флоры, Аргуса, Камен, Орфея, Меркурия, Нептуна, Сирен, Медузы, Эола, Морфея. О Фебе, Палладе, Сатурне и прочих говорит и сама святая.
Мы не случайно привели несколько однотипных перечислений. Практически почти каждый монолог каждого персонажа пьесы о св. Екатерине полон отсылок к античности, что, по мысли ее автора, должно было свидетельствовать о том, что Екатерина до своего обращения коснела в язычестве. Даже cantus angelicus в этой пьесе содержит упоминания Беллоны, Марса, Пандоры, Паллады, Харона и Вулкана. В речах трех Царей, каковые они произносят перед Иродом в «Рождественской драме» Димитрия Ростовского, также возникают античные мотивы. Они объясняют Ироду, что «Доколе Феб не станет в бегу златополучный, / Дотоль царь Юдейский будет благополучный» [Русская драматургия, 1972, 246]. Очевидно, что здесь имя античного бога употребляется в переносном смысле. Это стало столь привычным словоупотреблением, что даже Ревность Матерняя, возбуждая от гроба Милость Божию, вспоминает Феба. Примечательно, что аллегорическая фигура Смерти перечисляет многих библейских героев, не избежавших ее власти, и наравне с ними ставит Ксеркса и Александра Македонского: «Где твои, Ксерксе, вой? Александре, – слава?» [Драма украiнська, 1925, 245].
Иногда школьные драматурги обнаруживают знания античных исторических и географических реалий, не связанных с мифом. Они считают уместным сравнить сердце, пылающее любовью к Богу, с Везувием: «Не таковим Везувий огнем разгореся, / Яко мне серце, завет бо Бога разорися» [Там же, 223].
Рассматривая различные возможности использования античных мотивов на школьной сцене, следует подчеркнуть, что драматурги особенно не проникали в их смысл. Часто они ограничивались упоминанием имени античного героя или божества, правда, не только для того, чтобы показать свою ученость. С помощью микроцитаты, а ею является имя, которое «всегда должно быть для критика объектом пристального внимания, поскольку имя собственное – это, можно сказать, король означающих; его социальные и символические коннотации очень богаты» [Барт, 1989, 432], они стремились повторить и усилить смыслы того, что представлялось на сцене, придать своим пьесам этические измерения. Каждый античный герой или бог, каждая сентенция или сюжетная ситуация получали дополнительную смысловую нагрузку – сакральную или светскую. «На свет истины из тьмы мифологии выходили этические нормы», – говорил М. Пексенфельдер, автор «Символической поэтики» (цит. по: [Bienkowski, 1967, 20]).
Это не значит, что присущие им значения исчезали окончательно. Аристотель и Цицерон, например, назывались великими учителями, Нерон объявлялся воплощением зла и невежества. Сохраняли присущие им значения такие античные герои, как Эпаминонд и Муций Сцевола. За последним, правда, с его жестом – сжигание руки – закреплялись и отрицательные коннотации. В русской пьесе «Свобождение Ливонии и Ингерманляндии» этот жест совершает посол от Неправедного Хищения.
Почти всегда парой появлялись на сцене Демокрит и Гераклит. Они символизировали два мира – смеховой и серьезный, два подхода к тому, что будет представлено на сцене. Демокрит смеется этому миру, Гераклит его оплакивает. Существовало сочинение М. Кулиговского, в названии которого присутствует имя одного из философов: «Смешной Демокрит, или Смех христианского Демокрита с того света». Возможно, что на сцену выходил смеющийся Гераклит и плачущий Демокрит. Первый все «во смехъ» претворял: «Имамъ всегда ругати тя, мiре суетнiй, / Ибо всякъ ти служащiй вечнихъ есть благъ тщетнiй» [Драма украiнська, 1925, 350]. Второй оплакивал «светъ»: «Того ради слезю, плачу и горце ридаю, / Яко вся суетная въ мiре обретаю» [Там же, 351].
Итак, из античности извлекались нужные смыслы, или она награждалась ими, потому и утрачивала самостоятельность. Античность сохраняла со своей исконной почвой чисто внешние связи и преподносила драматургам лишь свою внешнюю оболочку, форму, которую они наполняли содержанием, позволявшим выводить античных персонажей на сцену. Это не значит, что античные мотивы всегда приветствовались. Их даже довольно часто осуждали. Польский проповедник и теолог Т. Млодзяновский, например, называл античных героев ложными богами. Многие другие также призывали покинуть языческую, «опасную» область вдохновения, так как рассказы о богах и героях древности могут поселить греховность в мыслях.
Я. Масен считал, что обращение к античности устарело как прием. Это не мешало, однако, античным персонажам появляться на сцене, а античности оставаться одним из источников барочного художества, особенно в Польше, где значительное число драматических сюжетов (примерно десятая часть) заимствовалась из античной истории и мифологии. Украинский и русский театры, в основном, довольствовались отдельными мотивами и часто – только именами античных богов и героев. Правда, на русской сцене была поставлена «Опера об Александре Македонском», где, кроме Александра Великого, действуют его отец, Филипп, и персидский царь Дарий. В основном, античные реминисценции в русских и украинских пьесах существовали изолированно от действия, но они могли сплетаться между собой, создавая на сцене подобие античной мозаики.
Таким образом, античная мифология не воспринималась самодостаточной и была объектом семиотических манипуляций, в чем заключалась ее основная ценность. В школьном искусстве она превратилась в одну из систем для обозначения сакральных и светских понятий. Вот как, например, М. К. Сарбевский интерпретирует «Энеиду» Вергилия. Эта поэма, с его точки зрения, аллегорически изображает путь человека к совершенному знанию. Поэтому Троя означает природные склонности человека, грехи его молодости. Отец Энея трактуется как тело человеческое, Фракия – как алчность. Дидона оказывается сущностью общественной жизни, Лавиния – полным совершенным пониманием всех вещей, а Лациум выступает короной мудрости. Как видим, не только имена собственные, но и топонимы у М. К. Сарбевского подлежат интерпретации.
В целом, античные персонажи и приносимые с ними сюжетные ситуации воспринимались как слова чужого языка, которые можно было употреблять, но с осторожностью, помня о том, что они необходимы для того, чтобы усилить значения своего, т. е. барочного языка. Можно сказать, что они в целом выполняли роль своеобразного словаря, заглянуть в который можно было в любой момент. Основная их функция состояла в создании семантического повтора, и гораздо реже они оставались равными самим себе.
Обращение школьного театра к античной мифологии было одним из способов передачи высоких сакральных истин, которые по определению должны быть «прикрыты» от внешнего взора. Они доступны только внутреннему зрению. Также античные мотивы, как мы показали, принимали светские значения. Их использование было одним из многих способов перевода одной семантической системы в другую – обязательного для того времени переименования. Так достигалась усложненность, затрудненность формы, многозначность барочных текстов, которые по отношению к античности не «разыгрывали мифологическое, не открывали путь архетипическому» [Топоров, 1995, 4].
Напомним, что античные авторы, из сочинений которых драматурги черпали свои сюжеты и мотивы, в теоретических трактатах именовались prophani auctores. Им противопоставлялись sacri auctores. Таким образом, античность, в основном, оставалась «предметом собственно риторического знания. Она служила благодатным материалом для риторического inventio (изобретения) и использовалась как источник мифологических реалий, сюжетов, поэтических образов, декоративных украшений» [Сазонова, 1992, 45].
Позднее, в эпоху Просвещения, ее положение изменилось. «Путь христианизации античности в русской культуре нового времени уже не имел перспективы развития – начавший со времени Петра I процесс секуляризации культуры и прямого обращения к античности просто не оставил ей места. С другой стороны, для наступающей эпохи классицизма барочный принцип смешения христианского и языческого был неприемлем по теоретическим посылкам» [Николаев, 2001, 313]. С одной стороны, в театре античность приобрела относительную самостоятельность, так как уже не только имя античного героя и закрепленный за ним мотив, но и целые сюжеты переносились на сцену.
С другой – античная мифология утратила неожиданную многозначность и способность вовлекать новые значения. Теперь явно сузилось поле интерпретации, с помощью образов античных богов и исторических героев теперь предпочитали передавать моральные истины. Античные сюжеты приобрели политические значения, превратились в развернутый панегирик, в «материализацию государственной идеи» [Корндорф, дис, 10]. Особенно ярко это сказалось на сцене придворного театра во второй половине XVIII в. Но не только театр был тем полем, на котором складывались новые интерпретации античности. В польской культуре, например, античные мотивы оказались пригодными для описания культурного своеобразия «и истории польского народа, а также славянства в целом. Так возник образ „славянской Эллады“» [Филатова, 2004, 51]. В эпоху романтизма возобладала психологическая интерпретация античной мифологии, хотя романтики искали и другие источники вдохновения. Они нашли их в народной славянской мифологии.
* * *
Романтизм провозгласил новую концепцию искусства слова. Не только придал поэту сакральную функцию, но и увидел в нем образ народного певца, слитого с природой, творящего по наитию. Этот образ вобрал в себя все те черты, которые в первой половине XIX в. были объявлены основными. Романтики наделили певца свободой художественного волеизъявления, чутким следованием природе, сделали его отражением собственных творческих интенций. Не правила, а вдохновение, воображение, фантазия вели их по пути создания нового искусства. «В философском понятии прекрасного для творца нет никаких ограничений <…>. Объект его творчества должен быть отмечен величием духа» [Dembowski, 1955, 73]. Ю. Словацкий призывал поэтов броситься в великое бурное море воображения. М. Мохнацкий отводил воображению пассивную роль и выше его ставил фантазию. Здесь он сближался с Жан-Полем, который писал, что фантазия – это «мировая душа души и стихийный дух остальных сил» [Жан-Поль, 1981, 79].
Романтические «душки», русалки и ходячие покойники
В фольклоре романтики также увидели фантазию. Им не удавалось разглядеть в нем веками отработанные каноны. Зато естественность бросалась в глаза. Тогда «безыскусственность противопоставлялась как достоинство литературе, основанной на рациональных правилах» [Левин, 1980, 471]. Наделялся фольклор оригинальностью, потому что в то время уже были замечены его различия у разных народов. Обращаясь к нему, по мысли Мохнацкого, можно создать собственные оригинальные произведения. Польские романтики в поисках неповторимости обращались не только к отечественному фольклору, но и к восточнославянскому [Kapelus, 1972]. Романтизм, следовательно, не просто искал в фольклоре новые средства выражения, но видел в нем свой прообраз, находил тайные схождения с самим собой. Фольклор для него стал, по удачному выражению Б. Ф. Стахеева, «своеобразной гарантией подлинности». Требования к искусству, декларируемые романтиками, оказывается, уже выполнял фольклор.
Сделав это открытие, они не только восприняли жанры и темы народной поэзии. Романтики проникали в глубь нее, приближаясь к мифу, естественно, преображая его в мифопоэтическое. Народные мифологические представления о мире и человеке вошли в искусство романтизма, конечно, не в первозданном виде, но их основные очертания легко угадываются. Как пишет Е. Е. Левкиевская, романтики изображали страшное и «иномирное», соединяя несоединимые детали и предметы, нагромождая избыточные детали, тем самым уже искажая их исконное значение [Левкиевская, 2000, 92]. Они ввели в свои произведения осколки народных мифологических представлений о мире, а также сделали своими персонажами представителей народной демонологии. То, что они появились в поэзии Мицкевича, Словацкого и многих других поэтов, уже само по себе было значимо. Мифологические персонажи не просто украшали произведения, становились фантастическими образами. Романтики через них приближались к народной мифологической картине мира, придавая ей романтические очертания.
В то время идея двумирности развивалась в философии и искусстве. Земной мир противопоставлялся не только небесному, но миру иному, очертания которого представлялись неясными и размытыми, что никак его не отменяло. Это был мир идеальный. Противопоставление духа и материи, идеального и материального подчиняло себе всю романтическую картину мира. Неслиянность этих начал, мечта об их синтезе, т. е. романтическом идеале, пронизывает искусство того времени. Обращаясь к фольклору, романтики разглядели в нем два мира (хотя второй, иной мир, никак нельзя было назвать идеальным), что еще более привлекло их к нему, а затем позволило воплотить мифологическую концепцию двух миров в новом виде. Их не только притягивала эта концепция в целом.
Романтики, прежде всего Мицкевич, заинтересовались принципом взаимодействия двух миров, видимого и невидимого [Mickiewicz, 1955, XI, 113]. Кроме того, не могли их не привлечь народные представления о душе. «Мифологема „души“ занимает в культуре любого этноса совершенно особое место; она не только затрагивает один из самых значительных и ключевых концептов традиционных верований, но оказывается межжанровой, стержневой, пронизывающей самые разные сферы и фрагменты духовной культуры» [Виноградова, 1999, 142].
Суеверия простого народа, которые Жан-Поль считал «плодом и пищей романтического духа», представления об оборотничестве, пришельцах из другого мира Мицкевич объявил верой в индивидуальность человеческого духа, в индивидуальность «духов вообще», а также верой в бессмертие души [Mickiewicz, 1955, XI, 119]. Дух для него, как и для всех романтиков, был превыше всего. Он означал «не душу в понимании некоторых философов и не esprit в обычном значении этого слова, но духовную сущность, внутреннюю сущность, оживляющую тело, spiritus – в библейском понимании» [Mickiewicz, 1924, 126]. Поэт говорил, что тело, душа, разум – это только составляющие части духа, и отстаивал право человека на проникновение в глубинную суть вещей, которую скрывал мир невидимый.
Народные верования Мицкевич считал общей особенностью славянской души. В ней он различал идею всеединства космоса. В переходах из одного состояния в другое, от жизни к смерти поэт видел свидетельства вечной жизни души человека. Он справедливо полагал, что мифологические представления о мире, идущие из далеких веков, до сих пор сохранились и уживаются с христианскими. Его точку зрения разделяли и другие романтики. «Наш народ сохраняет веру в непосредственный контакт земного мира с миром духов, которые окружают его как опекуны. Кто впитал эту веру с молоком матери, тому никакая мудрость мира не вытеснит ее из сердца. Он сам будет сотни раз ее отталкивать как не соответствующую разуму, и сто раз она отзовется в глубинах его духа» [Libelt, 1977, 346].
Мифологическая картина мира не имеет четко оформленных очертаний, что особенно явно просматривается на примерах низших демонологических персонажей. Это еще более привлекало романтиков, для которых мир был принципиально незавершен и окончательно непознаваем. Они знали, что все сущее скрывает в себе тайну и потому не определено во всех смыслах и формах.
Мицкевич не только воплотил народные мифологические представления, но на их основе создал теорию, созвучную философии романтизма. Он не ограничился введением мифологических персонажей. Через них он стремился проникнуть в народный дух, пытался воссоздать народную мифологию в целом и на ее основе построить новую философию, пронизанную мифопоэтическим началом.