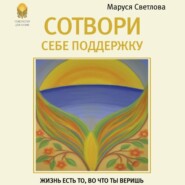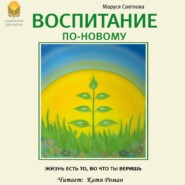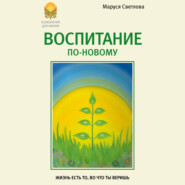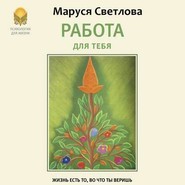По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одна надежда на любовь (сборник)
Серия
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одна надежда на любовь (сборник)
Маруся Леонидовна Светлова
Рассказы для души
Книга о любви в ее разных проявлениях – от страсти, пробуждающей другого человека, делающей его живым, – до любви, принятия и прощения людей, которых трудно любить и простить. Такая разная любовь – и такая необходимая.
Любовь как условие жизни. Любовь как сам смысл жизни…
Маруся Светлова
Одна надежда на любовь
© Светлова М., 2012
* * *
Ожившая картина
Она просто смотрела на картину, которая простиралась перед ней, и картина эта была прекрасна. Зеленые склоны гор и зеленые долины бесконечной чередой уходили вдаль. И на протяжении всей этой безграничной картины не было никаких строений, никаких столбов высоковольтных линий, ничего – только зеленые склоны и зеленые долины. И казалось ей, что терраса, с которой она смотрела на эту картину, – конец мира, конец жилой части земли, и дальше – только горы, долины и больше ничего. И много неба было над всем этим пейзажем. И небо тоже было – бесконечное, высокое и в то же время очень близкое.
И эта природа в ее первозданном нетронутом виде почему-то волновала ее. На фоне ее собственной бесчувственности эта картина была такой живой, что вызывала у нее, застывшей, какие-то чувства: удивления, восхищения силой и масштабами, новизной самого вида – так много бескрайней природы она еще никогда не видела.
Год назад, когда она с Алешкой-большим и Алешкой-маленькой приехала в этот город, ее поразил этот вид. Сюда, к этому склону, к этой террасе привел их группу экскурсовод. Потому что это был беспроигрышный ракурс: бесконечное чередование гор и долин, без всяких следов цивилизации. И в их группе возник ропот – от восхищения, удивления поразительно широким и величественным видом бескрайних просторов. И она тогда сказала Алеше:
– Вот бы тут пожить, в этом доме… Господи, ты представляешь – как здорово тут жить! Просыпаться утром и видеть в окно эти горы и бесконечный пейзаж, и бесконечное небо, и выходить на эту террасу и смотреть отсюда на весь мир, и чувствовать себя на краю мира…
И она с завистью посмотрела на дом, обычный для этого маленького городка, выложенный из белого камня и покрытый красной черепицей. Он был и обычным, и совершенно необычным, потому что стоял на краю города, и выходил прямо на крепостную стену, которая почти развалилась от времени и была похожа на маленькую древнюю балюстраду, ограждавшую дом с террасой от просторов, которые расстилались дальше.
И Лена задержалась у этого дома, отстав от группы, потому что это место как-то тронуло ее сердце, и она с интересом смотрела на дом, на раскидистое, старинное дерево, росшее рядом с ним, на террасу, всю увитую диким виноградом, на старое плетеное кресло, покрытое таким же старым пледом, который хранил очертания человека, сидевшего в нем. И пол террасы был земляной, с каким-то естественным травяным покрытием, и была эта терраса – частью живой природы. Живой и прекрасной. И кто-то прошел в глубине террасы, и она даже не разобрала – мужчина это или женщина, но позавидовала этому человеку как-то пронзительно: «Господи, вот счастливчик! Жить тут – какое счастье, какое поразительное везение… Вот бы мне…»
Она уезжала тогда именно с этой мыслью, и когда автобус выехал на горный перевал и этот маленький городок на вершине соседней горы весь лежал перед ними, она склонилась Алешке на плечо и сказала ему убежденно, как клятву произнесла:
– Когда-нибудь я здесь обязательно поживу! Обязательно! И именно там, в доме с террасой, выходящей на край земли…
– Я бы тоже хотел здесь пожить, вернее – пописать этюды. Место для этюдов здесь потрясающее, – сказал он, но она замотала головой, протестуя:
– Ну, нет, сюда надо приезжать одному! Этот город – для одиночества, для тишины… – И, видя, как он сердито нахмурил брови, сказала примирительно, хотя и понимала, что его нахмуренные брови – не больше, чем игра: – Ну ладно, приедем сюда вдвоем, но жить будем в разных концах городка, чтобы не встречаться… Чур, мое место – тот дом с террасой, а ты живи, где хочешь, но чтобы ты мне там на глаза не попадался…
– Бедная девочка, – думала она сейчас, сидя в этом старом плетеном кресле, – разве думала она тогда, что все сбудется так, как сказала, только в то же время совсем не так? Разве такой хотела она приехать сюда?! Разве такой неживой хотела она сидеть здесь каждое утро и каждый вечер? Разве так она хотела, чтобы он не попадался ей на глаза? Как много отдала бы она сейчас, чтобы увидеть его хоть раз, увидеть прежним, улыбающимся или хмурящим брови, задумчивым, ушедшим куда-то вглубь себя. Любым. Но только – живым…
Она познакомилась с ним в Италии, и это было так давно, что казалось, это было вообще в какой-то другой жизни, в жизни какой-то другой женщины. И это действительно было так. Она была тогда совсем другой – молодой, и открытой, и очень живой. Она смеялась, и лицо ее было живым, и она как-то живо реагировала на все, что видела, слышала, ощущала. И эта живость ее, и открытость, распахнутость и привлекла его к ней.
Он был совсем другим – молчаливым и сосредоточенным, он был где-то в глубине себя – и сколько раз они потом ссорились из-за этого! Она очень легко приняла это его качество там, в Италии, и оно ей так нравилось – но сколько раз в их жизни вдвоем, а потом и втроем, с маленькой Аленкой, она говорила, а иногда и кричала:
– Ты где? Тебя нет! Ты где-то там, где нам нет места… Мы – что-то неважное для тебя… Где уж нам, мы не доросли, чтобы ты о нас думал, нашел нам место в своих мыслях, своем времени, своих картинах…
Она была резкой иногда, точно. Она требовала внимания и времени, ей хотелось нормальной семьи, такой, в которой у Аленки был бы «нормальный» папа, и в которой у нее был бы обычный, «нормальный» муж – а не мечтатель, который уходит куда-то в свой мир и может быть там часами, и днями может быть в мастерской, и потом, как-то мучительно, ощущая каждую клеточку холста, и каждое волокно кисти, и мазок краски, выписывать этот мир на холст. И это был его мир. Только его. И она злилась, что нет там ей с дочерью места.
Она часто была несправедлива к нему. Она и раньше это понимала, понимала иногда, что просто сучит какой-то женской сучностью, что просто хочется ей привязать его, посадить около себя. Но она также понимала: сядь он рядом и стань таким обычным и послушным – не был бы он ей так нужен…
Она впервые тогда была в Италии, и попала она туда только благодаря своему знанию итальянского языка. Как права была ее мама, переводчица с итальянского, которая все детство зудила ей, как надоевшая оса:
– Учи язык! Учи язык!.. Язык – это пропуск в другой мир, да когда же ты это поймешь!..
Она говорила это Лене и ее старшей сестре. Только Лена как-то сопротивлялась всем этим уговорам, может быть, просто предчувствовала, к чему это ее приведет. И она избегала разговоров на итальянском или находила какие-то причины, чтобы не читать учебник.
И иногда, когда Лена отодвигала учебник или отказывалась отвечать матери по-итальянски, та читала ей целые лекции о ее безалаберности. Или только говорила:
– Елена! – и уже это «Елена», сказанное с грозной интонацией, говорило обо всем: и о том, что она не использует возможностей, и о том, что надо быть полной дурой, чтобы не знать язык, когда родная мать его знает, и можно по полчаса в день говорить по-итальянски, и научиться ему, что это – редкий язык, и знание его может выделить ее, будущую студентку филфака, потому что по-английски сейчас говорят все, а по-итальянски – единицы, и она может быть этой единицей, но предпочитает висеть на телефоне и тратить время на бестолковые разговоры со своей подругой, которую ни одна нормальная мать не захочет видеть подругой своей дочери…
Ее мать была редкостной занудой, но, надо отдать ей должное, она своим занудством и пилением чаще всего добивалась, чего хотела, и «добивала» других. И как оказалось, иногда это действительно шло на пользу другим. Лена знала итальянский если не в совершенстве, то, во всяком случае, очень хорошо, и ей нравился этот язык, его напевность и экспрессивность, и что-то знойное было в этих: «Buongiorno… Come vai?.. Ci vediamo…»
Именно благодаря своему знанию языка она и попала в Италию, и материал, за которым она поехала, был необычен и также экспрессивен, как и сам итальянский язык. «Профессия – стриптизер» – так назывался ее материал, и она вдоволь насмотрелась в те дни мужского стриптиза, которого до того никогда в жизни не видела, и была вовлечена в мир такой чувственности и мужской красоты и сексуальности, что не раз, звоня в редакцию, говорила:
– Да мне молоко надо за вредность выдавать! Таких мужиков видеть, можно сказать, в руках держать – и сохранять приличное поведение… Мне бы сейчас мешок денег-я бы половину этих мальчиков купила, просто чтобы поближе рассмотреть, руками потрогать…
Но мешка денег не было. Денег хватало только на то, чтобы оплачивать небольшие интервью или время для общения с самыми яркими представителями этой изысканной и жгучей профессии.
Но очарование этих мужчин спустя какое-то время пропало полностью, потому что при более близком общении оказывались они какими-то тупыми, что ли. Просто сильными самцами. Иногда – примитивными. Иногда – откровенно циничными, даже похабными. Иногда так яростно озабоченными, что хотелось отстраниться от них. И она, что называется, с чувством выполненного долга отстранилась от этого мира красивых мужчин, которые научились зарабатывать деньги своими телами, своими улыбками, и игрой мускулов, и той безумной притягательностью, которой обладает красивый мужчина, который знает, что он красив и что он – дорого стоит…
Именно после общения с этими мужчинами она и обратила свое внимание на Алешку. Она потом не раз говорила ему:
– Господи, какое счастье, что я на этих мужиков насмотрелась и меня от них тошнить стало! Иначе бы я тебя просто не заметила. Потому что тебя трудно заметить, когда ты куда-то там забуряешься в самого себя. Ты вообще становишься незаметным, просто сливаешься с окружающим миром, как существо, способное к мимикрии…
Она увидела его в баре своего отеля. Он просто сидел с каким-то отрешенным лицом, и лицо это было одухотворенным, и было в нем что-то очень высокое и красивое. Красивое какой-то другой красотой, не красотой самца, а красотой какого-то парения.
Сколько раз потом она любовалась этим выражением его лица. Сколько раз – ругалась с ним, ненавидя его за это выражение лица. Но тогда именно эта одухотворенность и погруженность вглубь себя и привлекли ее. И еще – его руки.
Руки у него были необычные. Прекрасными были его руки. С длинными пальцами, какие-то очень живые, чувствующие. Руки художника. И как часто он, сидя вот так в своем отрешении, был где-то там мыслями, и руки его тоже были там, и что-то вздрагивало в них, как будто он, незаметно даже для себя, делал невидимые зарисовки.
Она была не права, когда говорила о том, что не было им с Аленкой места в его картинах. Сколько раз они вместе с дочкой рассматривали папины картины, искали себя там – и находили. И не потому, что он их изображал, нет, просто в той серии картин, которая принесла ему потом известность и которую он так выгодно продал, было изображено много людей. Много каких-то схематичных, немного наивных, как будто бы детских изображений. И картины эти были необычны – яркие, очень теплые пейзажи или города, в которых угадывались, находились люди. Как в детских играх: «Отыщи на картинке десять человечков»…
Это был его мир и его какой-то необычный, немного наивный и детский стиль изображения мира. Какие-то солнечные человечки с едва намеченными, размытыми лицами были частью его картин и сутью их – потому что за этой наивностью изображения, в этих теплых красках прорисовывался очень светлый и добрый мир хороших людей, и было их на картинах много. Лене иногда казалось, что он ими, этими человечками, рисует свои картины, как мазками… И они с Аленкой искали там себя и находили. И Аленка всегда радовалась, когда находила какое-то сходство и кричала:
– Папа, я еще себя нашла, смотри – вон там, на травке… Пап, смотри, а вот мама!.. Пап, а вот еще – мама!..
И он подходил к ним с улыбкой и смотрел с интересом, где это они там себя нашли, потому что, конечно же, не их он изображал, и права она была иногда: им не всегда было место в его мире…
А в том мире, в котором она жила сейчас, не было их – Алешки-большого и Алешки-маленькой. И не потому, что им не было в нем места. Они уже занимали место в каком-то другом мире, и миры их были параллельны.
И это было самое страшное, что с ней произошло.
Это была его, Алешкина, идея – поехать всем вместе в ту туристическую поездку. Лена была против: совсем не хотелось ей ехать с Аленкой, которую они в последнее время часто стали называть Алешкой-маленькой, в страну, где в отеле для малышей не было никаких особенных условий, и она горячо убеждала его, что лучше им опять всем вместе поехать в Турцию. Там – клубные отели, и ребенка можно сдавать аниматорам, и самим по-человечески отдыхать…
Сейчас ей было даже странно, что она так часто хотела избавиться от Алешки-маленькой, отдать ее кому-то: то маме на выходные, то аниматорам, то с нетерпением ожидать понедельника, когда можно отвести ее в детсад.
Сейчас она не отпустила бы ее от себя никуда. И ушла бы с работы, и стала бы нормальной мамой, которой и должна была быть – чтобы хоть несколько лет, самых важных в жизни ребенка, побыть с ним рядом, побыть для него, занимаясь с ним, читая ему, играя с ним, водя его на танцы или плавание. Но – такой мамой она не была и уже не будет.
И как-то быстро промелькнула перед ней картина, в которой она – та Лена, которой она была когда-то, как-то тупо и упрямо говорила людям в черном, не узнавая в них ни маму, ни сестру, ни соседей:
Маруся Леонидовна Светлова
Рассказы для души
Книга о любви в ее разных проявлениях – от страсти, пробуждающей другого человека, делающей его живым, – до любви, принятия и прощения людей, которых трудно любить и простить. Такая разная любовь – и такая необходимая.
Любовь как условие жизни. Любовь как сам смысл жизни…
Маруся Светлова
Одна надежда на любовь
© Светлова М., 2012
* * *
Ожившая картина
Она просто смотрела на картину, которая простиралась перед ней, и картина эта была прекрасна. Зеленые склоны гор и зеленые долины бесконечной чередой уходили вдаль. И на протяжении всей этой безграничной картины не было никаких строений, никаких столбов высоковольтных линий, ничего – только зеленые склоны и зеленые долины. И казалось ей, что терраса, с которой она смотрела на эту картину, – конец мира, конец жилой части земли, и дальше – только горы, долины и больше ничего. И много неба было над всем этим пейзажем. И небо тоже было – бесконечное, высокое и в то же время очень близкое.
И эта природа в ее первозданном нетронутом виде почему-то волновала ее. На фоне ее собственной бесчувственности эта картина была такой живой, что вызывала у нее, застывшей, какие-то чувства: удивления, восхищения силой и масштабами, новизной самого вида – так много бескрайней природы она еще никогда не видела.
Год назад, когда она с Алешкой-большим и Алешкой-маленькой приехала в этот город, ее поразил этот вид. Сюда, к этому склону, к этой террасе привел их группу экскурсовод. Потому что это был беспроигрышный ракурс: бесконечное чередование гор и долин, без всяких следов цивилизации. И в их группе возник ропот – от восхищения, удивления поразительно широким и величественным видом бескрайних просторов. И она тогда сказала Алеше:
– Вот бы тут пожить, в этом доме… Господи, ты представляешь – как здорово тут жить! Просыпаться утром и видеть в окно эти горы и бесконечный пейзаж, и бесконечное небо, и выходить на эту террасу и смотреть отсюда на весь мир, и чувствовать себя на краю мира…
И она с завистью посмотрела на дом, обычный для этого маленького городка, выложенный из белого камня и покрытый красной черепицей. Он был и обычным, и совершенно необычным, потому что стоял на краю города, и выходил прямо на крепостную стену, которая почти развалилась от времени и была похожа на маленькую древнюю балюстраду, ограждавшую дом с террасой от просторов, которые расстилались дальше.
И Лена задержалась у этого дома, отстав от группы, потому что это место как-то тронуло ее сердце, и она с интересом смотрела на дом, на раскидистое, старинное дерево, росшее рядом с ним, на террасу, всю увитую диким виноградом, на старое плетеное кресло, покрытое таким же старым пледом, который хранил очертания человека, сидевшего в нем. И пол террасы был земляной, с каким-то естественным травяным покрытием, и была эта терраса – частью живой природы. Живой и прекрасной. И кто-то прошел в глубине террасы, и она даже не разобрала – мужчина это или женщина, но позавидовала этому человеку как-то пронзительно: «Господи, вот счастливчик! Жить тут – какое счастье, какое поразительное везение… Вот бы мне…»
Она уезжала тогда именно с этой мыслью, и когда автобус выехал на горный перевал и этот маленький городок на вершине соседней горы весь лежал перед ними, она склонилась Алешке на плечо и сказала ему убежденно, как клятву произнесла:
– Когда-нибудь я здесь обязательно поживу! Обязательно! И именно там, в доме с террасой, выходящей на край земли…
– Я бы тоже хотел здесь пожить, вернее – пописать этюды. Место для этюдов здесь потрясающее, – сказал он, но она замотала головой, протестуя:
– Ну, нет, сюда надо приезжать одному! Этот город – для одиночества, для тишины… – И, видя, как он сердито нахмурил брови, сказала примирительно, хотя и понимала, что его нахмуренные брови – не больше, чем игра: – Ну ладно, приедем сюда вдвоем, но жить будем в разных концах городка, чтобы не встречаться… Чур, мое место – тот дом с террасой, а ты живи, где хочешь, но чтобы ты мне там на глаза не попадался…
– Бедная девочка, – думала она сейчас, сидя в этом старом плетеном кресле, – разве думала она тогда, что все сбудется так, как сказала, только в то же время совсем не так? Разве такой хотела она приехать сюда?! Разве такой неживой хотела она сидеть здесь каждое утро и каждый вечер? Разве так она хотела, чтобы он не попадался ей на глаза? Как много отдала бы она сейчас, чтобы увидеть его хоть раз, увидеть прежним, улыбающимся или хмурящим брови, задумчивым, ушедшим куда-то вглубь себя. Любым. Но только – живым…
Она познакомилась с ним в Италии, и это было так давно, что казалось, это было вообще в какой-то другой жизни, в жизни какой-то другой женщины. И это действительно было так. Она была тогда совсем другой – молодой, и открытой, и очень живой. Она смеялась, и лицо ее было живым, и она как-то живо реагировала на все, что видела, слышала, ощущала. И эта живость ее, и открытость, распахнутость и привлекла его к ней.
Он был совсем другим – молчаливым и сосредоточенным, он был где-то в глубине себя – и сколько раз они потом ссорились из-за этого! Она очень легко приняла это его качество там, в Италии, и оно ей так нравилось – но сколько раз в их жизни вдвоем, а потом и втроем, с маленькой Аленкой, она говорила, а иногда и кричала:
– Ты где? Тебя нет! Ты где-то там, где нам нет места… Мы – что-то неважное для тебя… Где уж нам, мы не доросли, чтобы ты о нас думал, нашел нам место в своих мыслях, своем времени, своих картинах…
Она была резкой иногда, точно. Она требовала внимания и времени, ей хотелось нормальной семьи, такой, в которой у Аленки был бы «нормальный» папа, и в которой у нее был бы обычный, «нормальный» муж – а не мечтатель, который уходит куда-то в свой мир и может быть там часами, и днями может быть в мастерской, и потом, как-то мучительно, ощущая каждую клеточку холста, и каждое волокно кисти, и мазок краски, выписывать этот мир на холст. И это был его мир. Только его. И она злилась, что нет там ей с дочерью места.
Она часто была несправедлива к нему. Она и раньше это понимала, понимала иногда, что просто сучит какой-то женской сучностью, что просто хочется ей привязать его, посадить около себя. Но она также понимала: сядь он рядом и стань таким обычным и послушным – не был бы он ей так нужен…
Она впервые тогда была в Италии, и попала она туда только благодаря своему знанию итальянского языка. Как права была ее мама, переводчица с итальянского, которая все детство зудила ей, как надоевшая оса:
– Учи язык! Учи язык!.. Язык – это пропуск в другой мир, да когда же ты это поймешь!..
Она говорила это Лене и ее старшей сестре. Только Лена как-то сопротивлялась всем этим уговорам, может быть, просто предчувствовала, к чему это ее приведет. И она избегала разговоров на итальянском или находила какие-то причины, чтобы не читать учебник.
И иногда, когда Лена отодвигала учебник или отказывалась отвечать матери по-итальянски, та читала ей целые лекции о ее безалаберности. Или только говорила:
– Елена! – и уже это «Елена», сказанное с грозной интонацией, говорило обо всем: и о том, что она не использует возможностей, и о том, что надо быть полной дурой, чтобы не знать язык, когда родная мать его знает, и можно по полчаса в день говорить по-итальянски, и научиться ему, что это – редкий язык, и знание его может выделить ее, будущую студентку филфака, потому что по-английски сейчас говорят все, а по-итальянски – единицы, и она может быть этой единицей, но предпочитает висеть на телефоне и тратить время на бестолковые разговоры со своей подругой, которую ни одна нормальная мать не захочет видеть подругой своей дочери…
Ее мать была редкостной занудой, но, надо отдать ей должное, она своим занудством и пилением чаще всего добивалась, чего хотела, и «добивала» других. И как оказалось, иногда это действительно шло на пользу другим. Лена знала итальянский если не в совершенстве, то, во всяком случае, очень хорошо, и ей нравился этот язык, его напевность и экспрессивность, и что-то знойное было в этих: «Buongiorno… Come vai?.. Ci vediamo…»
Именно благодаря своему знанию языка она и попала в Италию, и материал, за которым она поехала, был необычен и также экспрессивен, как и сам итальянский язык. «Профессия – стриптизер» – так назывался ее материал, и она вдоволь насмотрелась в те дни мужского стриптиза, которого до того никогда в жизни не видела, и была вовлечена в мир такой чувственности и мужской красоты и сексуальности, что не раз, звоня в редакцию, говорила:
– Да мне молоко надо за вредность выдавать! Таких мужиков видеть, можно сказать, в руках держать – и сохранять приличное поведение… Мне бы сейчас мешок денег-я бы половину этих мальчиков купила, просто чтобы поближе рассмотреть, руками потрогать…
Но мешка денег не было. Денег хватало только на то, чтобы оплачивать небольшие интервью или время для общения с самыми яркими представителями этой изысканной и жгучей профессии.
Но очарование этих мужчин спустя какое-то время пропало полностью, потому что при более близком общении оказывались они какими-то тупыми, что ли. Просто сильными самцами. Иногда – примитивными. Иногда – откровенно циничными, даже похабными. Иногда так яростно озабоченными, что хотелось отстраниться от них. И она, что называется, с чувством выполненного долга отстранилась от этого мира красивых мужчин, которые научились зарабатывать деньги своими телами, своими улыбками, и игрой мускулов, и той безумной притягательностью, которой обладает красивый мужчина, который знает, что он красив и что он – дорого стоит…
Именно после общения с этими мужчинами она и обратила свое внимание на Алешку. Она потом не раз говорила ему:
– Господи, какое счастье, что я на этих мужиков насмотрелась и меня от них тошнить стало! Иначе бы я тебя просто не заметила. Потому что тебя трудно заметить, когда ты куда-то там забуряешься в самого себя. Ты вообще становишься незаметным, просто сливаешься с окружающим миром, как существо, способное к мимикрии…
Она увидела его в баре своего отеля. Он просто сидел с каким-то отрешенным лицом, и лицо это было одухотворенным, и было в нем что-то очень высокое и красивое. Красивое какой-то другой красотой, не красотой самца, а красотой какого-то парения.
Сколько раз потом она любовалась этим выражением его лица. Сколько раз – ругалась с ним, ненавидя его за это выражение лица. Но тогда именно эта одухотворенность и погруженность вглубь себя и привлекли ее. И еще – его руки.
Руки у него были необычные. Прекрасными были его руки. С длинными пальцами, какие-то очень живые, чувствующие. Руки художника. И как часто он, сидя вот так в своем отрешении, был где-то там мыслями, и руки его тоже были там, и что-то вздрагивало в них, как будто он, незаметно даже для себя, делал невидимые зарисовки.
Она была не права, когда говорила о том, что не было им с Аленкой места в его картинах. Сколько раз они вместе с дочкой рассматривали папины картины, искали себя там – и находили. И не потому, что он их изображал, нет, просто в той серии картин, которая принесла ему потом известность и которую он так выгодно продал, было изображено много людей. Много каких-то схематичных, немного наивных, как будто бы детских изображений. И картины эти были необычны – яркие, очень теплые пейзажи или города, в которых угадывались, находились люди. Как в детских играх: «Отыщи на картинке десять человечков»…
Это был его мир и его какой-то необычный, немного наивный и детский стиль изображения мира. Какие-то солнечные человечки с едва намеченными, размытыми лицами были частью его картин и сутью их – потому что за этой наивностью изображения, в этих теплых красках прорисовывался очень светлый и добрый мир хороших людей, и было их на картинах много. Лене иногда казалось, что он ими, этими человечками, рисует свои картины, как мазками… И они с Аленкой искали там себя и находили. И Аленка всегда радовалась, когда находила какое-то сходство и кричала:
– Папа, я еще себя нашла, смотри – вон там, на травке… Пап, смотри, а вот мама!.. Пап, а вот еще – мама!..
И он подходил к ним с улыбкой и смотрел с интересом, где это они там себя нашли, потому что, конечно же, не их он изображал, и права она была иногда: им не всегда было место в его мире…
А в том мире, в котором она жила сейчас, не было их – Алешки-большого и Алешки-маленькой. И не потому, что им не было в нем места. Они уже занимали место в каком-то другом мире, и миры их были параллельны.
И это было самое страшное, что с ней произошло.
Это была его, Алешкина, идея – поехать всем вместе в ту туристическую поездку. Лена была против: совсем не хотелось ей ехать с Аленкой, которую они в последнее время часто стали называть Алешкой-маленькой, в страну, где в отеле для малышей не было никаких особенных условий, и она горячо убеждала его, что лучше им опять всем вместе поехать в Турцию. Там – клубные отели, и ребенка можно сдавать аниматорам, и самим по-человечески отдыхать…
Сейчас ей было даже странно, что она так часто хотела избавиться от Алешки-маленькой, отдать ее кому-то: то маме на выходные, то аниматорам, то с нетерпением ожидать понедельника, когда можно отвести ее в детсад.
Сейчас она не отпустила бы ее от себя никуда. И ушла бы с работы, и стала бы нормальной мамой, которой и должна была быть – чтобы хоть несколько лет, самых важных в жизни ребенка, побыть с ним рядом, побыть для него, занимаясь с ним, читая ему, играя с ним, водя его на танцы или плавание. Но – такой мамой она не была и уже не будет.
И как-то быстро промелькнула перед ней картина, в которой она – та Лена, которой она была когда-то, как-то тупо и упрямо говорила людям в черном, не узнавая в них ни маму, ни сестру, ни соседей: