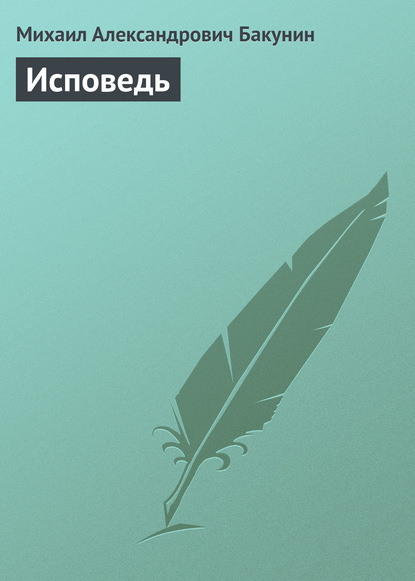По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь
Год написания книги
1851
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Немцы этого не видели и не понимали, но я понимал и в первый раз усумнился в успехе. Наконец стали говорить о славянском конгрессе; я решился ехать в Прагу, надеясь найти там архимедовскую точку опоры для действия.
До тех пор, исключая поляков и не говоря уже о русских, я не был знаком ни с одним славянином и также никогда не бывал в австрийских владениях. Знал же о славянах по рассказам некоторых очевидцев да по книгам. Слышал также в Париже о клубе, основанном Киприаном Робером, заместившим Мицкевича на кафедре славянских литератур, но не ходил в этот клуб, не желая мешаться с славянами, предводимыми французом. Поэтому знакомство и сближение с славянами было для меня опытом новым, и я много ждал от пражского конгресса, особенно надеясь с помощью прочих славян победить тесноту польского национального самолюбия.
Ожидания мои, хоть и не сбылись во всей полноте, не совсем были обмануты. Славяне в политическом отношении – дети, но я нашел в них неимоверную свежесть и несравненно более природного ума и энергии, чем в немцах. Трогательно было видеть их встречу, их детский, но глубокий восторг; сказали бы, что члены одного и того же семейства, разбросанные грозною судьбою по целому миру, в первый раз свиделись после долгой и горькой разлуки: они плакали, они смеялись, они обнимались, – и в их слезах, в их радости, в их радушных приветствиях не было ни фраз, ни лжи, ни высокомерной напыщенности; все было просто, искренно, свято. В Париже я был увлечен демократическою экзальтациею, героизмом народного класса; здесь же увлекся искренностью и теплотою простого, но глубокого славянского чувства.
Во мне самом пробудилось славянское сердце, так что в первое время я было почти совсем позабыл все демократические симпатии, связывавшие меня с Западною Европою. Поляки смотрели на прочих славян с высоты своего политического значения, держали себя несколько в стороне, слегка улыбаясь. Я же смешался с ними и жил с ними и делил их радость от всей души, от полного сердца; и потому был ими любим и пользовался почти всеобщим доверием.
Чувство, преобладающее в славянах, есть ненависть к немцам. Энергическое, хоть и не учтивое выражение «проклятый немец», выговариваемое на всех славянских наречиях почти одинаковым-образом, производит на каждого славянина неимоверное действие; я несколько раз пробовал его силу и видел, как оно побеждало самих поляков.
Достаточно было иногда побранить кстати немцев для того, чтоб они позабыли и польскую исключительность и ненависть к русским и хитрую, хоть и (В переписанном для царя экземпляре вместо «и» сказано «не», но это неверно. «Материалы», т. I, стр. 145, повторяют эту ошибку писаря), бесполезную политику, заставляющую их часто кокетничать с немцами, – одним словом для того, чтобы вырвать их совершенно из той тесной. болезненной, искусственно-холодной оболочки, в которой они живут поневоле, вследствие великих национальных несчастий; для того, чтобы пробудить в них живое славянское сердце и заставить их чувствовать заодно со всеми славянами.
В Праге, где поношению немцев не было конца, я, и с самими поляками чувствовал себя ближе. Ненависть к немцам была неистощимым предметом всех разговоров; она служила вместо приветствия между незнакомыми: когда два славянина сходились, то первое слово между ними было почти всегда против немцев, как бы для того, чтобы уверить друг друга, что они оба – истинные, добрые славяне. Ненависть против немцев есть первое основание славянского единства и взаимного уразумения славян; она так сильна, так глубоко врезана в сердце каждого славянина, что я и теперь уверен, государь, что рано или поздно, одним или другим образом, и как бы ни определились политические отношения Европы, славяне свергнут немецкое иго, и что придет время, когда не будет более ни прусских, ни австрийских, ни турецких славян.
Важность славянского конгресса состояла по моему мнению в том, что это было первое свидание, первое знакомство, первая попытка соединения и уразумения славян между собою. Что же касается до самого конгресса, то он, равно как и все другие современные конгрессы и политические собрания, был решительно пуст и бессмыслен. О происхождении же славянского конгресса я знаю следующее.
В Праге существовал уже с давних времен ученый литературный круг, имевший целью сохранение, поднятие и развитие чешской литературы, чешских национальных обычаев, а также и славянской национальности вообще, подавляемой, стесняемой, презираемой немцами, равно как и мадьярами. Кружок сей находился в живой и постоянной связи с подобными кружками между словаками, хорватами, словенцами, сербами, даже между лужичанами в Саксонии и Пруссии и был, как бы сказать, их главою. Палацкий, Шафарик, граф Тун, Ганка, Ко[л]лар, Урбан, Людвиг Штур и несколько других были предводителями славянской пропаганды, сначала литературной, потом уже возвысившейся и до политического значения. Австрийское правительство их не любило, но терпело, потому что они противодействовали мадьярам.
В доказательство же и в пример их деятельности я приведу только одно обстоятельство: тому назад десять, много пятнадцать лет в Праге никто, решительно ни одна душа не говорила по-чешски, разве только чернь и работники; все говорили и жили по-немецки; стыдились чешского языка и чешского происхождения; теперь же напротив ни один человек, ни женщины, ни дети не хотят говорить по-немецки, да и сами немцы в Праге выучились понимать и объясняться по-чешски. Я привел в пример только Прагу, но то же самое произошло и во всех других, богемских, моравских, словацких, больших и маленьких городах; села же никогда и не переставали жить и говорить по-славянски.
Вам, государь, известно, сколь глубоки и сильны симпатии славян к могучему русскому царству, от которого они надеялись опоры и помощи, и до какой степени австрийское правительство да и немцы вообще боялись и боятся русского панславизма! В последние годы невинный литературно-ученый кружок расширился, укрепился, охватил и увлек за собою всю молодежь, пустил корни в народные массы, – и литературное движение превратилось вдруг в политическое. Славяне ожидали только случая, чтобы явить себя миру.
В 1848-м году этот случай обрелся. Австрийская империя чуть было не распалась на свои многоразличные, враждебно противоположные, несовместимые элементы, и если на время спаслась, то не своею одряхлевшею силою, только Вашею помощью, государь! Восстали итальянцы, восстали мадьяры и немцы, восстали наконец и славяне. Австрийское или, лучше сказать, Инспрукское правительство, – ибо тогда австрийских правительств было много, по крайней мере два: одно действительное в Инспруке, другое официальное и конституционное в Вене, не говоря уже о третьем, Венгерском, также официально признанном правительстве, – итак династическое правительство в Инспруке, покинутое всеми и лишенное почти всяких средств, стало искать спасения в национальном движении славян.
Первая мысль собрать в Праге славянский конгресс принадлежит чехам, а именно Шафарику, Палацкому и графу Туну.
В Инспруке ухватились за нее с радостью, потому что надеялись, что славянский конгресс будет служить противоядием конгрессу немцев во Франкфурте. Граф Тун, Палацкий, Браунер создали тогда в Праге нечто вроде провизорного правительства, были признаны Инспруком и относились с ним прямо помимо венских министров, которых не хотели ни признавать, ни слушаться, видя в них враждебных представителей германской национальности. Таким образом составилась полуофициальная чешская партия, полуславянская и полуправительственная: правительственная потому, что она хотела спасти династию, монархическое начало и целость австрийской монархии, однако не безусловно, требуя зато: во-первых конституции, во-вторых перенесения имперской столицы из Вены в Прагу, что им и было действительно обещано, разумеется с твердым намерением не сдержать обещания, и наконец совершенного превращения австрийской монархии из немецкой в славянскую, так что уж не немцы более и не мадьяры притесняли бы славян, но обратно. Все это выразил Палацкий в своей тогда явившейся брошюре следующими словами: «Wir wollen das Kunstst?ck versuchen, die bis zu ihrem tiefsten Wesen ersch?tterte Monarchie auf unserem slavischen Boden und mit unserer slavischen Kraft zu beleben, zu heilen und zu befestigen» («Мы хотим попытаться совершить кунстштюк – оживить, исцелить и укрепить глубочайшим образом потрясенную австрийскую монархию на нашей славянской почве и с помощью нашей славянской силы»), – предприятие невозможное, в котором они должны были быть или обманутыми или обманщиками.
Но чешская партия не довольствовалась сим общим преобладанием славянского элемента в Австрийской империя. Опираясь на свой полуофициальной характер и на льстивые инспрукские обещания, она хотела еще устроить в свою пользу нечто вроде чешской гегемонии и утвердить между самими славянами преобладание чешского языка, чешской национальности. Не говоря уже о Моравии, она намеревалась присоединить еще к Богемии словацкую землю, австрийскую Шлезию (Силезия) и даже Галицию, угрожая полякам в случае непокорения возмущением русинов, – хотели одним словом создать сильное Богемское королевство. Таковы были притязания чешских политиков.
Они, разумеется, встретили сильное сопротивление в словаках, в шлензаках (Силезцы), более же всего в поляках. Последние приехали в Прагу совсем не для того, чтобы покориться чехам, да если правду сказать, так и не вследствие чрезвычайного влечения к славянским братьям и к славянской мысли, а просто в надежде найти тут опору и помощь для своих особенных национальных предприятий.
Таким образом с самых первых дней произошла борьба, не между массами приезжих славян, только между их предводителями, сильнее же всех борьба между поляками и чехами, между поляками и русинами, борьба, кончившаяся ничем, как и весь славянский конгресс. Южные славяне были чужды всем прениям и занимались исключительно приуготовлениями к венгерской войне, уговаривая и прочих славян отложить все внутренние вопросы до совершенного низложения мадьяр, и, как иные говорили, до совершенного изгнания оных из Венгрии.
Поляки ни на то, ни на другое не соглашались, предлагали же свое посредничество, которого ни южные славяне да, сколько я слышал, и сами мадьяры не захотели принять. Одним словом все тянули на свою сторону и все желали сделать себе из других скамью для своего собственного возвышения; более всех чехи, избалованные инспрукокими комплиментами, а потом и поляки, избалованные не судьбою, но комплиментами европейских демократов.
Конгресс состоял из трех отделений: Северное, в котором были поляки, русины, шлензаки; Западное, состоявшее из чехов, моравов, словаков, и Южное, в котором заседали сербы, хорваты, словенцы и далматы. По первоначальному определению Палацкого, главного изобретателя и руководителя славянского конгресса, конгресс сей должен был исключительно состоять из австрийских славян, не-австрийские же должны были присутствовать в нем только как гости; но определение сие было в самом начале отвергнуто: вошли в конгресс не как гости, но как действительные члены много поляков из Познани, польские эмигранты, несколько турецких сербов и наконец двое русских: я да еще один старообрядческий поп, которого позабыл фамилию, – ее можно впрочем найти в печатном отчете Шафарика о славянском конгрессе, – поп или вернее монах из старообрядческого монастыря, существовавшего в Буковине с своим особенным митрополитом и уничтоженного, кажется, в это же время по требованию русского правительства; он ездил с отставленным митрополитом в Вену, потом, услышав о славянском конгрессе приехал один в Прагу.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Я вступил в Северное, то есть в польское отделение и при вступлении произнес короткую речь, в которой сказал, что Россия, отторгнувшись от славянской братии через порабощение Польши, особенно же предав ее в руки немцев, общих и главных врагов всего славянского племени, не может иначе возвратиться к славянскому единству и братству, как через освобождение Польши, и что поэтому мое место на славянском конгрессе должно быть между поляками. Поляки приняли меня с рукоплесканиями и выбрали депутатом в южно-славянское отделение сообразно с моим собственным желанием. Старообрядческий поп вместе со мною вступил в отделение поляков и по моему ходатайству был даже избран ими в Общее собрание, состоявшее из депутатов трех главных групп (В оригинале сказано «групов», в писарской копии «кругов»).
Я не скрою от Вас, государь что мне приходило на мысль употребить этого попа на революционерную пропаганду в России. Я знал, что на Руси много старообрядцев и других расколов, и что русский народ склонен к религиозному фанатизму. Поп же мой был человек хитрый, смышленый, настоящий русский плут и пройдоха, бывал в Москве, знал много о старообрядцах да и о расколах вообще в русской империи; да кажется, что и монастырь-то его находился в постоянной связи с русскими старообрядцами. Но я не имел времени заняться им, сомневался отчасти в нравственности такого сообщества, не имел еще определенного плана для действия, ни связей, а главное не имел денег; без денег же с такими людьми и говорить нечего. К тому же я был в это время исключительно занят славянским вопросом, видел его редко, а потом и совсем потерял его из виду.
Дни текли, конгресс не двигался. Поляки занимались регламентом, парламентскими формами да русинским вопросом; вопросы более важные переговаривали не на конгрессе, а в собраниях особенных и не так многочисленных. Я в сих собраниях не участвовал, слышал только, что в них продолжались отчасти бреславские распри и была сильно речь о Кошуте и о мадьярах, с которыми, если не ошибаюсь, поляки уже в то время начинали иметь положительные сношения к великому неудовольствию прочих славян. Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные славяне предстоявшей войною. Об общем славянском вопросе мало кто думал. Мне опять стало тоскливо, и я начал чувствовать себя в Праге а таком же уединении, в каком был прежде в Париже и в Германии. Я несколько раз говорил в польском, в южно-славянском, а также и в общем собрании; вот главное содержание моих речей:
«Зачем вы съехались в Прагу? Для того ли, чтобы толковать здесь о своих провинциальных интересах, или для того, чтобы слить все частные дела славянских народов, их интересы, требования, вопросы в один нераздельный, великий славянский вопрос? Начните же заниматься им и покорите все частные требования (В оригинале описка „требованью“) славянскому делу. Наше собрание есть первое славянское собрание; мы должны положить здесь начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всех славянских племен, соединенных отныне в одно нераздельное и великое политическое тело.
И во-первых спросим себя: наше собрание есть-ли только собрание австрийских славян или вообще славянское собрание? Какой смысл выражения „австрийские славяне“? Славяне, живущие в Австрийской империи, не более, а если вы хотите, так пожалуй славяне, порабощенные австрийскими немцами. Если же вы хотите ограничить ваше собрание представителями только австрийских славян, каким правом называете вы его славянским? Вы исключаете всех славян Российской империи, славян-подданных Пруссии, турецких славян; меньшинство исключает огромное большинство и смеет называть себя славянским! Называйте же себя немецкими славянами и конгресс ваш – конгрессом немецких рабов, а не славянским конгрессом.
Я знаю, многие из вас надеются на опору австрийской династии. Она теперь вам все обещает, она вам льстит, потому что вы ей необходимы; но сдержит ли она свои обещания, и будет ли иметь возможность сдержать их, когда вашею помощью восстановит свою падшую власть? Вы говорите, что сдержит, я же уверен, что нет.
Первый закон всякого правительства есть закон самосохранения; ему покорены все нравственные законы, и нет еще в истории примера, чтобы какое [либо] правительство сдержало без принуждения обещания, данные им в критическую минуту. Вы увидите, австрийская династия не только что забудет ваши услуги, но будет мстить вам за свою прошедшую постыдную слабость, принуждавшую ее унижаться перед вами и льстить вашим крамольным требованиям. История австрийской династии богаче других такими примерами, и вы, ученые чехи, вы, знающие так хорошо и так подробно прошедшие несчастия своей родины, вы должны бы были понимать лучше других, что не любовь к славянам и не любовь к славянской независимости и к славянскому языку и к славянским нравам и обычаям, но единственно только железная необходимость заставляет ее ныне искать вашей дружбы.
Наконец, предположив даже невозможное, предположив, что австрийская династия захочет в самом деле и будет в состоянии соблюсти данное слово, какие будут ваши приобретения? Австрия из полунемецкого государства превратится в полуславянское; это значит, что вы из притесняемых превратитесь в притеснителей, из ненавидящих в ненавистных; это значит, что вы, малочисленные австрийские славяне, отторгнетесь от славянского большинства, что вы сами разрушите всякую надежду на соединение славян, на то великое славянское единство, которое по крайней мере в ваших словах есть первый и главный предмет ваших желаний. Славянское единство, славянская свобода, славянское возрождение не иначе возможны как через совершенное разрушение Австрийской империи.
Не менее ошибаются и те, которые для восстановления славянской независимости надеются на помощь русского царя. Русский царь заключил новый тесный союз с австрийскою династиею, не за вас, но против вас, не для того чтобы помогать вам, а для того чтобы возвратить вас насильно, вас, равно как и всех прочих бунтующих австрийских подданных, в старое подданство, к старому безусловному повиновению. Император Николай не любит ни народной свободы, ни конституций: вы видели живой пример в Польше. Я знаю, что русское правительство уже с давних времен обрабатывает вас, равно как и турецких славян, своими агентами, которые объезжают славянские земли, распространяя между вами панславистические мысли, обольщая вас надеждою на скорую помощь, на приближающееся будто бы освобождение всех славян могучею силою русского царства, и не сомневаюсь, что оно видит в далекой, в весьма далекой будущности Момент, когда все славянские земли войдут в состав Российской империи.
Но никто из нас не доживет до желанного часа, хотите вы ждать до тех пор? Не вы одни, славянские народы успеют одряхлеть до того времени.
Теперь же вам нет места в недрах русского царства: вы хотите жизни, а там мертвое молчанье, требуете самостоятельности, движенья, а там механическое послушание, желаете воскресенья, возвышенья, просвещенья, освобожденья, а там смерть, темнота и рабская работа.
Войдя в Россию императора Николая, вы вошли бы во гроб всякой народной жизни и всякой свободы. Правда, что без России славянское единство неполно и нет славянской силы; но безумно было бы ждать спасенья и помощи для славян от настоящей России. Что же остается вам? Соединитесь сначала вне России, не исключая ее, но ожидая, надеясь на ее скорое освобождение; и она увлечется вашим примером, и вы будете освободителями российского народа, который в свою очередь будет потом вашею силою и вашим щитом.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Начните же свое соединение следующим образом: объявите, что вы, славяне, не австрийские, а живущие на славянской земле в так называемой Австрийской империи, сошлись и соединились в Праге для заложения первого основания будущей вольной и великой федерации всех славянских народов, и что в ожидании присоединения славянских братий в русской империи, в прусских владениях, в Турции вы, чехи, моравы, поляки из Галиции и Кракова, русины, шлензаки, словаки, сербы, словенцы, хорваты и далматы, заключили между собою крепкий и неразрывный оборонительный и наступательный союз на следующих основаниях».
Я не стану высчитывать здесь всех пунктов, придуманных мною; скажу только, что проект сей, напечатанный потом, впрочем без моего ведома и только отрывком в одном из чешских журналов, был составлен в демократическом духе; что он оставлял много простору национальным и провинциальным различиям во всем, что касалось административного управления, полагая впрочем и тут некоторые основные определения, общие и обязательные для всех; но что во всем касавшемся внутренней, как и внешней политики власть была перенесена и сосредоточена в руках центрального правительства.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Таким образом и поляки и чехи должны были исчезнуть со всеми своекорыстными и самолюбивыми притязаниями в общем славянском союзе. Я советовал также конгрессу требовать от инспрукского, тогда еще всеуступавшего двора официального признания союза и тех же самых уступок, которые оно незадолго перед тем сделало мадьярам, а посему не могло отказать своим добрым и верным славянам, как-то: особенного славянского министерства, особенного славянского войска с славянскими офицерами и особенных славянских финанс[ов]. Советовал также требовать возвращения хорватских и других славянских полков из Италии; советовал наконец послать поверенного в Венгрию к Кошуту, уже не от имени бана Елачича, но во имя всех соединенных славян, для того чтобы разрешить мирным образом мадьяро-славянский вопрос и предложить мадьярам равно как и седьмиградским валахам вступить в славянский или пожалуй в восточно-республиканский союз на правах равных со всеми славянами.
Признаюсь, государь, что подавая такой проект славянскому конгрессу, я имел в виду совершенное разрушение Австрийской империи, разрушение в обоих случаях: в случае принужденного согласия, а также и в случае отказа, который бы привел династию в гибельную коллизию с славянами.
Другая же и главная цель моя была найти в соединенных славянах точку отправления для широкой революционерной пропаганды в России, для начала борьбы против Вас, государь! Я не мог соединиться с немцами: это была бы война Европы и, что еще хуже, война Германии против России; с поляками также не мог соединиться; они мне плохо верили, да и мне самому, когда я узнал ближе их национальный характер, их неисцелимый, хоть исторически и понятный мне эгоизм, мне самому стало уже совестно и совершенно невозможно мешаться с поляками, действовать с ними заодно против родины. В славянском же союзе я видел напротив отечество еще шире, в котором, лишь бы только Россия к нему присоединилась, и поляки и чехи должны бы были уступить ей первое место.
Я несколько раз употребил выражение «революционерная пропаганда в России»: пора же мне наконец объяснить, каким образом я разумел сию пропаганду, какие у меня были на то надежды и средства.
Прежде всего, государь, я должен торжественно объявить Вам, что у меня ни прежде, ни в это время, ни потом, не было не только что связей, но даже ни тени ниже начала сношений с Россиею и с русскими и ни с одним человеком, живущим в пределах Вашей Империи.
От 1842-го года я не получил из России более десяти писем и сам едва написал столько же; в письмах же сих не было даже и воспоминания о политике. В 1848-м году я надеялся было войти в сношения с русскими, живущими на познанской и галицийской границах; для этого мне была необходима помощь поляков, но с поляками, как я уже несколько раз изъяснял, я не мог или не умел сойтиться; сам же не был ни разу ни в Познанском Герцогстве, ни в Кракове, ни в Галиции, а также и не знал ни одного жителя сих провинций, про которого мог бы утвердительно и по совести сказать, что он имел отношения с Царством Польским или с Украиною.
Да и не думаю, чтобы поляки в это время имели частые сношения с пограничными провинциями Российской империи: они жаловались на трудность сообщений, на живую, непроходимую стену, которою она себя окружила. Доходили же только глухие, большею частью бессмысленные слухи: так например пронесся раз слух о бунте в Москве и о будто бы вновь открытом русском заговоре; другой раз, что будто бы русские офицеры заколотили пушки на варшавской цитадели, и тому подобные пустяки, в которые я, несмотря на все безумие, в которое был сам погружен, никогда не верил.
Все мои предприятия остались в мысли не потому, чтоб я тогда не хотел, но потому, что не мог действовать, не имея ни путей, ни средств для пропаганды. Граф Орлов сказал мне, что правительству было донесено, что будто бы я говорил за границею о своих сношениях с Россиею, особенно с Малороссиею. На это я могу сказать только одно: я никогда не любил лгать, а потому и не говорил и не мог говорить о сношениях, которых у меня не было.
Слышал же об Украине от польских помещиков, живущих в Галиции, слышал, что будто бы вследствие освобождения галицийских крестьян в начале 1848-го года и малороссийские крестьяне в Волыни, в Подолии, равно как и в Киевской губернии, пришли в такое сильное волнение, что многие помещики, опасаясь за жизнь свою, уехали в Одессу. Вот решительно все, что я слышал о Малороссии; очень может быть, что потом я публично говорил о сем известии, потому что хватался решительно за все, что хоть несколько могло поддержать или, лучше сказать, пробудить в европейской, особенно же в славянской публике веру в возможность, в необходимость русской революции. Я должен сделать тут одно замечание.
Обреченный предыдущею жизнью, – понятиями, положением, неудовлетворенною потребностью действия, а также и волею на несчастную революционерную карьеру, я не мог оторвать ни природы, ни сердца, ни мыслей своих от России, вследствие этого не мог иметь другого круга действия кроме России, вследствие этого должен был верить или, лучше сказать, должен был заставлять себя и других верить в русскую революцию. То, что в этом письме я сказал о Мицкевиче, может быть, хотя и не в том размере, применено ко мне самому: я был в то же время обманутым и обманщиком, обольщал себя и других, как бы насильствуя мой собственный ум и здравый смысл моих слушателей. По природе я не шарлатан, государь, напротив ничто так не противно мне, как шарлатанизм, и никогда жажда простой, чистой истины не угасала во мне; но неестественное, несчастное положение, в которое я впрочем сам привел себя, заставляло меня иногда быть шарлатаном против воли.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Без связей, без средств, один с своими замыслами посреди чужой толпы, я имел только одну сподвижницу: веру, и говорил себе, что вера переносит горы, разрушает преграды, побеждает непобедимое и творит невозможное, что одна вера есть уже половина успеха, половина победы; совокупленная с сильною волею, она рождает обстоятельства, рождает людей, собирает, соединяет, сливает массы в одну душу и силу; говорил себе, что, веруя сам в русскую революцию и заставив верить в нее других, европейцев, особливо славян, впоследствии же и русских, я сделаю революцию в России возможною, необходимою.
Одним словом я хотел верить, хотел, чтобы верили и другие. Не без труда и не без тяжкой борьбы доставалась мне сия ложная, искусственная, насильственная вера; не раз в уединенных минутах находили на меня мучительные сомнения, сомнения я в нравственности, и в возможности моего предприятия; не раз слышался мне внутренний укоряющий голос и не раз повторял я себе слова, сказанные апостолу Павлу, когда он назывался еще Савлом: «Жестоко же есть противу рожна прати». Но все было напрасно: я заглушал в себе совесть и отвергал сомнения как недостойные. Я знал Россию мало, восемь лет жил за границею, а когда жил в России, был так исключительно занят немецкою философиею, что ничего вокруг себя не видел.
К тому же изучение России без особенной помощи правительства трудно, почти невозможно даже и тем, которые стараются знать ее; а изучение простого народа, крестьян, мне кажется, трудно и самому правительству.