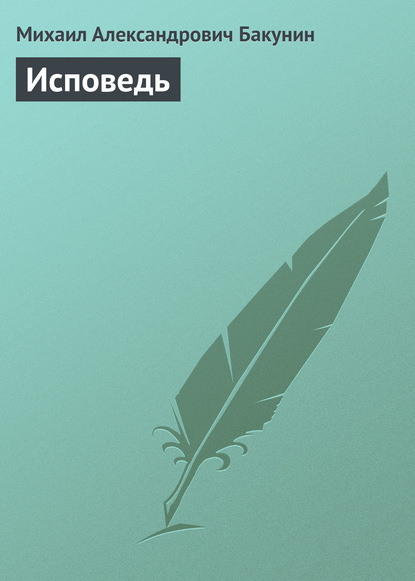По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь
Год написания книги
1851
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За границею, когда внимание мое устремилось в первый раз на Россию, я стал вспоминать, собирать старые, бессознательные впечатления и отчасти из них, отчасти из разных доходивших до меня слухов создал себе фантастическую Россию, готовую к революции, натягивая или обрезывая на прокрустовской кровати моих демократических желаний каждый факт, каждое обстоятельство. Вот каким образом я обманывал себя и других.
Я никогда не говорил ни о своих связях, ни о своем влиянии в России; это была бы ложь, а ложь была мне противна; но когда вокруг меня предполагали, что я имею влияние, имею положительные связи, я молчал, не противоречил, ибо в этом мнении находил почти единственную опору для своих предприятий. Таким образом должны были произойти многие пустые, ни на чем не основанные слухи, дошедшие вероятно потом и до правительства.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Русской пропаганды не было посему и в зародыше, она существовала только в моей мысли. Но каким образом существовала она в моей мысли? Постараюсь отвечать на этот вопрос со всевозможною искренностью и подробностью. Государь, тяжелы мне будут сии признания! Не то, чтобы я опасался возбудить ими праведный гнев Вашего императорского величества и навлечь на себя казнь жесточайшую; от 1848-го года, особенно же со времени моего заключения, я успел перейти через столько различных положений и впечатлений: ожиданий, горьких опытов и горьких предчувствий, надежд, опасений и страхов, что душа моя наконец скалилась, притупилась, и мне кажется, что и надежда и страх потеряли на нее всякое влияние! Нет, государь, но мне тяжко, совестно, стыдно говорить Вам в глаза о преступлениях, замышленных мною собственно против Вас и против России, хотя преступления сии были только преступления в мысли, в намерении и никогда не переходили в действие.
Если бы я стоял перед Вами, государь, только как перед царем-судьею, я мог бы избавить себя от сей внутренней муки, не входя в бесполезные подробности. Для праведного применения карающих законов довольно бы было, если бы я сказал: «я хотел всеми силами и всеми возможными средствами вдохнуть революцию в Россию; хотел ворваться в Россию и бунтовать против государя и разрушить в конец существующий порядок.
Если же не бунтовал и не начинал пропаганды, то единственно только потому, что не имел на то средств, а не по недостатку воли». Закон был бы удовлетворен, ибо такое признание достаточно для осуждения меня на жесточайшую казнь, существующую в России. Но по чрезвычайной милости Вашей, государь, я стою теперь не так перед царем-судьею, как перед царем-исповедником, и должен показать ему все сокровенные тайники своей мысли. Буду же сам себя исповедывать перед Вами; постараюсь внести свет в хаос своих мыслей и чувств, для того чтобы изложить их в порядке; буду говорить перед Вами, как бы говорил перед самим богом, которого нельзя обмануть ни лестью, ни ложью. Вас же молю, государь, позвольте мне позабыть на минуту, что я стою перед великим и страшным царем, перед которым дрожат миллионы, в присутствии которого никто не дерзает не только произнести, но даже и возыметь противного мнения! Дайте мне подумать, что я теперь говорю только перед своим духовным отцом.
Я хотел революции в России. Первый вопрос: почему я желал оной? Второй вопрос: какого порядка вещей желал я на место существующего порядка? И наконец третий вопрос: какими средствами и какими путями думал я начать революцию в России?.
Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; но на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека.
Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят во-внутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель-страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души, человеку, терпящему одним словом не только от притеснений, которых он сам бывает жертва, но и от притеснений, падающих на соседа!
Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном. Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть притеснения от всех по этой русской же пословице: «Нас только ленивый не бьет!»
Везде воруют и берут взятки и за деньги творят неправду! – и во Франции, и в Англии, и в честной Германии, в России же, я думаю, более, чем в других государствах. На Западе публичный вор редко скрывается, ибо на каждого смотрят тысячи глаз, и каждый может открыть воровство и неправду, и тогда уже никакое министерство не в силах защитить вора.
В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги, все знают, но все же и молчат, потому что боятся, и само начальство молчит, зная и за собою грехи, и все заботятся только об одном, чтобы не узнали министр да царь. А до царя далеко, государь, так же как и до бога высоко! В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором. Во-первых все вокруг него крадут, привычка становится природою, и что прежде приводило в негодование, казалось противным, скоро становится естественным, неизбежным, необходимым; во-вторых потому, что подчиненный должен сам часто в том или другом виде платить подать начальнику, и наконец потому, что если кто и вздумает остаться честным человеком, то и товарищи и начальники его возненавидят; сначала прокричат его чудаком, диким, необщественным человеком, а если не исправится, так пожалуй и либералом, опасным вольнодумцем, а тогда уж не успокоятся, прежде чем его совсем не задавят и не сотрут его с лица земли.
Из низших же чиновников, воспитанных в такой школе, делаются со-временем высшие, которые в свою очередь и тем же самым способом воспитывают вступающую молодежь, – и воровство и неправда и притеснения в России живут и растут, как тысячечленный полип, которого как ни руби и ни режь, он никогда не умирает.
Один страх противу сей всепоедающей болезни не действителен. Он приводит в ужас, останавливает на время, но на короткое время. Человек привыкает ко всему, даже и к страху. Везувий окружен селениями, и самое то место, где зарыты Геркулан и Помпея, покрыто живущими; в Швейцарии многолюдные деревни живут иногда под треснувшим утесом, и все знают, что он каждый день, каждый час может повалиться и что в страшном падении он обратит в прах все под ним обретающееся; я никто не двигается с места, утешая себя мыслью, что авось еще долго не упадет.
Так и русские чиновники, государь! Они знают, сколь гнев Ваш бывает ужасен и Ваши наказания строги, когда до Вас доходит известие о какой неправде, о каком воровстве; и все дрожат при одной мысли Вашего гнева и все-таки продолжают и красть и притеснять и творить неправду! Отчасти потому, что трудно отстать от старой, закоренелой привычки; отчасти потому, что каждый затянут, запутан, обязан другими вместе с ним воровавшими и ворующими ворами; более же всего потому, что всякий утешает себя мыслью, что он будет действовать так осторожно и пользуется такою сильною воровскою же протекциею, что никогда его прегрешения не дойдут до Вашего слуха.
Один страх недействителен. Против такого зла необходимы другие лекарства: благородство чувств, самостоятельность мысли, гордая безбоязненность чистой совести, уважение человеческого достоинства в себе и в других, а наконец и публичное презрение ко всем бесчестным, бесчеловечным людям, общественный стыд, общественная совесть! Но эти качества, силы цветут только там, где есть для души вольный простор, [а] не там, где преобладает рабство и страх. Сих добродетелей в России боятся, не потому, чтоб их не любили, но опасаясь, чтобы с ними не завелись и вольные мысли…
Я не смею входить в подробности, государь! Смешно и дерзко было бы, если бы я стал говорить Вам о том, что Вы сами в миллион раз лучше знаете, чем я. Я же мало знаю Россию, и что знал об ней, высказал в своих немногочисленных статьях и брошюрах, а также и в защитительном письме, написанном мною в крепости Кенингштейн.
Я говорил в них часто в выражениях дерзостных и преступных против Вас, государь, в болезненно-горячешном духе и тоне, греша против русской пословицы «из избы сору не выносить», но сообразно своим тогдашним убеждениям, так что все ложное и неверное в них может быть приписано незнанию России, моему немощному уму, а не сердцу.
Более всего поражало и смущало меня несчастное положение, в котором обретается ныне так называемый черный народ, русский добрый и всеми угнетенный мужик. К нему я чувствовал более симпатии, чем к прочим классам, несравненно более, чем к бесхарактерному и блудному сословию русских дворян. На нем основывал все надежды на возрождение, всю веру в великую будущность России, в нем видел свежесть, широкую душу, ум светлый, не зараженный заморскою порчею, и русскую силу, – и думал, что бы был этот народ, если б ему дали свободу и собственность, если б его выучили читать и писать! и спрашивал, почему нынешнее правительство, самодержавное, вооруженное безграничною властью, неограниченное по закону и в деле никаким чуждым правом, ни единою соперничествующею силою, почему оно не употребит своего всемогущества на освобождение, на возвышение, на просвещение русского народа.
И много других вопросов, связанных с сим главным, основным, представлялись душе моей, и вместо того, чтобы отвечать на них, как должен отвечать на подобные сомнения каждый подданный Вашего императорского величества: «Не мое дело рассуждать о сих предметах, знают государь да начальство, мое же дело повиноваться», вместо другого ответа, также не лишенного основания и служащего основанием первому: правительство смотрит на все вопросы сверху, обнимая все в одно время, я же, смотря на них снизу, не могу видеть всех препятствий, всех трудностей, обстоятельств и современных условий как внутренней, так и внешней политики, поэтому и не могу определить удобного часу для всякого действия, – вместо сих ответов я дерзостно и крамольно отвечал в уме и писаниях своих: «Правительство не освобождает русского народа во-первых потому, что при всем всемогуществе власти, неограниченной по праву, оно в самом деле ограничено множеством обстоятельств, связано невидимыми путами, связано своею развращенною администрациею, связано наконец эгоизмом дворян.
Еще же более потому, что оно действительно не хочет ни свободы, ни просвещения, ни возвышения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе»! Ответ сей, совершенно противный коему верноподданническому долгу, не противоречил моим демократическим понятиям.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Могли бы опросить меня: как думаешь ты теперь? Государь, трудно мне будет отвечать на этот вопрос!
В продолжение более чем двухлетнего одинокого заключения я успел многое передумать и могу сказать, что никогда в жизни так серьезно не думал, как в это время: я был один, далеко от всех обольщений, был научен живым и горьким опытом. Еще более усумнился я в истине многих старых мыслей, когда, въехав в Россию, нашел в ней такую человеколюбивую, благородную, сострадательную встречу вместо ожидаемого жестокого и грубого обхождения. На дороге я услышал многое, чего прежде не знал и чему бы за границей никогда не поверил. Многое, очень многое во мне изменилось; но могу ли сказать по совести, чтобы во мне не осталось также и много, много следов старой болезни?
Одну истину понял я совершенно: что правительственная наука и правительственное дело так велики, так трудны, что мало кто в состоянии постичь их простым умом, не быв к тому приготовлен особенным воспитанием, особенною атмосферою, близким знакомством и постоянным обхождением с ними; что в жизни государств и народов есть много высших условий, законов, не подлежащих обыкновенной мерке, и что многое, что кажется нам в частной жизни неправедным, тяжким, жестоким, становится в высшей политической области необходимым.
Понял, что история имеет свой собственный, таинственный ход, логический, хотя и противоречащий часто логике мира, спасительный, хотя и не всегда соответствующий нашим частным желаниям, и что кроме некоторых исключений, весьма редких в истории, как бы допущенных провидением и освященных признанием потомства, ни один частный человек, как бы искренни, истинны, священны ни казались впрочем его убеждения, не имеет ни призвания, ни права воздвигать крамольную мысль и бессильную руку против неисповедимых высших судеб. Понял одним словом, что мои собственные замыслы и действия были в высшей степени смешны, бессмысленны, дерзостны и преступны; преступны против Вас, моего государя, преступны против России, моего отечества, преступны против всех политических и нравственных, божественных и человеческих законов! Но возвращусь к своим крамольным, демократическим вопросам.
Я спрашивал себя также: «Какая польза России в ее завоеваниях? И если ей покорится полсвета, будет ли она тогда счастливее, вольнее, богаче? Будет даже сильнее? И не распадется ли могучее русское царство, и ныне уже столь пространное, почти необъятное, не распадется ли оно наконец, когда еще далее распространит свои пределы? Где последняя цель его расширения? Что принесет оно порабощенным народам заместо похищенной независимости – о свободе, просвещении и народном благоденствия и говорить нечего, – разве только свою национальность, стесненную рабством!
Но русская или вернее великороссийская национальности должна ли и может ли быть национальностью целого-мира? Может ли Западная Европа когда [либо] сделаться русскою языком, душою и сердцем? Могут ли даже все славянские племена сделаться русскими? Позабыть свой язык, – которого сама Малороссия не могла еще позабыть, – свою литературу, свое родное просвещение, свой теплый дом, одним словом, для того чтобы совершенно потеряться и „слиться в русском море“ по выраженью Пушкина? Что приобретут они, что приобретет сама Россия через такое насильственное смешение? Они-то же, что приобрела Белоруссия вследствие долгого подданства у Польши: совершенное истощение и поглупение народа.
А Россия? Россия должна будет носить на плечах своих всю тяжесть сей необъятной, многосложной, насильственной централизации. Россия сделается ненавистна всем прочим славянам так, как теперь она ненавистна полякам; будет не освободительницею, а притеснительницею родной славянской семьи; их врагом против воли, насчет собственного благоденствия и насчет своей собственной свободы, и кончит наконец тем, что, ненавидимая всеми, сама себя возненавидит, не найдя в своих принужденных победах ничего кроме мучений и рабства. Убьет славян, убьет и себя! Таков ли должен быть конец едва только что начинающейся славянской жизни и славянской истории?»
Государь! Я не старался смягчать выражения! Представил же Вам вопросы, волновавшие тогда мою душу, во всей их сырой наготе, надеясь на Ваше милостивое снисхождение и для того, чтобы хоть несколько объяснить Вашему императорскому величеству, каким образом, идя или, лучше сказать, шатаясь от вопроса к вопросу, от вывода к выводу, я успел отчасти уверить себя в необходимости и нравственности русской революции.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Я довольно сказал, чтобы показать, сколь была велика необузданность моей мысли. Теперь же с опасностью погрешить против логики и связи спешу перескочить через множество подобных вопросов и мыслей, приведших меня к окончательному революционерному заключению. Трудно, государь, и неимоверно как тяжело мне говорить Вам об этих предметах. Трудно потому, что не знаю, каким образом я должен объясняться: если стану смягчать выражения, то Вы можете подумать, что я хочу скрыть или умалить дерзость своих мыслей, и что исповедь моя не искренна, не совершенна; если ж стану повторять выражения, которые употреблял, когда находился в самом разгаре политического безумия, то Вы пожалуй подумаете, государь, что я, от чего сохрани меня бог, хочу еще перед Вами самими щеголять вольнодумством. Кроме этого, высчитывая подробно все старые мысли, я должен бы был различать между теми, которые уж совершенно отбросил, и теми, которые отчасти или вполне сохранил, должен бы был войти в бесконечные объяснения, рассуждения, которые были бы здесь не только что неприличны, но совершенно противны духу и единственной цели сей исповеди, долженствующей содержать только простой и нелицемерный рассказ всех моих прегрешений.
(Напрасно боится, личное на меня всегда прощаю от глубины сердца)
Но не так еще трудно, как тяжело мне, государь, говорить Вам о том, что я дерзал думать о направлении и духе Вашего управления, тяжело во всех отношениях: тяжело по положению, ибо я предстою Вам, моему государю, как осужденный преступник, тяжело моему самолюбию: мне так и слышится, что Вы, государь, говорите: «мальчишка болтает о том, чего не знает!» А более всего тяжело моему сердцу, потому что стою перед Вами как блудный, отчудившийся, развратившийся сын перед оскорбленным и гневным отцом!
Одним словом, государь, я уверил себя, что Россия, для того чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть Вашу царскую власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от внутреннего рабства, стать во главе славянского движения: обратить оружие свое против императора австрийского, против прусского короля, против турецкого султана и, если нужно будет, также против Германии и против мадьяр, одним словом против целого света, для окончательного освобождения всех славянских племен из-под чужого ига.
Половина прусской Шлезни, большая часть Западной и Восточной Пруссии, одним словом все земли, говорящие по-славянски, по-польски, должны были отделиться от Германии. Мои фантазии простирались и дальше: я думал, я надеялся, что мадьярская нация, принужденная обстоятельствами, уединенным положением среди славянских племен, а также своею более восточною чем западною природою, что все молдавы и валахи, наконец даже и Греция войдут в Славянский Союз, и что таким образом созиждется единое вольное восточное государство и как бы восточный возродившийся мир в противоположность западному, хотя и не во вражде с оным, и что столицею его будет Константинополь.
Вот как далеко простирались мои революционерные ожидания! Впрочем не замыслы моего личного честолюбия, клянусь Вам, государь, и смею надеяться, что Вы сами в том скоро убедитесь. Но прежде я должен отвечать на вопрос: какой формы правления я желал для России?.
Мне будет очень трудно отвечать на него, так мысли мои на сей счет были неясны и неопределенны. Прожив восемь лет за границей, я знал, что я Россию не знал, и говорил себе, что не мне, еще же менее вне самой России определять законы и формы для ее нового существования. Я видел, что и в самой Западной Европе, где условия жизни определены уже довольно ясно, где несравненно более самосознания, чем в России, я видел, что даже и там никто не был в состоянии предугадать не только что постоянных форм будущности, но даже и перемен будущего дня, и говорил себе: теперь Россию никто не знает, ни европейцы, ни русские, потому что Россия молчит; молчит же она не оттого, чтоб ей нечего было говорить, а только потому, что и язык и все движения ее связаны.
Пусть она воспрянет и заговорит, я тогда мы узнаем, и что она думает и чего она хочет; она сама покажет нам, какие формы и какие учреждения ей нужны. Если бы в то время был возле меня хоть один русский, с которым бы я мог говорить о России, то вероятно в уме моем образовались бы – не говорю лучшие и разумнейшие, [но] по крайней мере более определенные понятия. Но я был совершенно один с своими замыслами, тысячи смутных, друг другу противоречащих фантазий толпились в моем уме; я не мог привести их в порядок и, убежденный в невозможности выйти из сего лабиринта своею одинокою силою, отлагал разрешение всех вопросов до вступления на русскую почву.
(Отчеркнуто карандашом на полях)
Я желал республики. Но какой республики? Не парламентской. Представительное правление, конституционные формы, парламентская аристократия и так называемый экилибр (Равновесие) властей, в котором все действующие силы так хитро расположены, что ни одна действовать не может, одним словом весь этот узкий, хитросплетенный и бесхарактерный политический катехизис западных либералов никогда не был предметом ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже моего уважения; а в это время я стал презирать его еще более, видя плоды парламентских форм во Франции, в Германии, даже на славянском конгрессе, особенно же в польском отделении, где поляки так же играли в парламент, как немцы играли в революцию.
К тому же русский парламент да и польский также был бы только составлен из дворян, – в русский могло бы еще войти купечество, – огромная же масса народа, тот настоящий народ, оплот и сила России, в котором заключается се жизнь и вся ее будущность, народ, думал я, остался бы без представителей и был бы притеснен и обижен тем же самым дворянством, которое теснит его ныне.
Я думал, что в России более, чем где [либо], будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс, – власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем. Я говорил себе, что вся разница между таким диктаторством и между монархическою властью будет состоять в том, что первое по духу своего установления должно стремиться к тому, чтобы сделать свое существование как можно скорее ненужным, имея в виду только свободу, самостоятельность и постепенную возмужалость народа; в то время как монархическая власть должна напротив стараться о том, чтобы существование ее не переставало никогда быть необходимым, и потому должна содержать своих подданных в неизменяемом детстве.
Что будет после диктаторства, я не знал да и думал, что этого предугадать теперь никто не может. А кто будет диктатором? Могли бы подумать, что я себя готовил на это высокое место. Но такое предположение было бы решительно несправедливо.
Я должен сказать, государь, что кроме экзальтации иногда фанатической, но фанатической более вследствие обстоятельств и неестественного положения, чем от природы, во мне не было ни тех блестящих качеств, ни тех сильных пороков, которые творят или замечательных политических людей или великих государственных преступников. Во мне и прежде и в это время было так мало честолюбия, что я охотно подчинился бы каждому, лишь бы только увидел в нем способность и средства и твердую волю служить тем началам, в которые я верил тогда как в абсолютную истину; и с радостью последовал бы ему и ревностно стал бы повиноваться, потому что всегда любил и уважал дисциплину, когда она основана на убеждении и вере. Я не говорю, чтобы во мне не было самолюбия, но никогда не было оно во мне преобладающим; напротив я должен был преодолевать себя и шел как бы наперекор своей природе, когда сбирался или говорить публично или даже писать для публики. Не было во мне и тех огромных пороков а la Danton (Вроде Дантона) или Ю la Mirabeau (Вроде Мирабо), того ненасытного, широкого разврату, который для своего утоления готов поставить вверх дном целый мир.
А если во мне и был эгоизм, то он единственно состоял в потребности движения, в потребности действия. В моей природе был всегда коренной недостаток: это-любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный и которых никто не может предвидеть конца. Мне становилось и душно и тошно в обыкновенном спокойном кругу. Люди обыкновенно ищут спокойствия и смотрят на него как на высочайшее благо; меня же оно приводило в отчаяние; душа моя находилась в неусыпном волнении, требуя действия, движения и жизни.
Мне следовало бы родиться где-нибудь в американских лесах, между западными колонистами, там, где цивилизация едва расцветает к где вся жизнь есть беспрестанная борьба против диких людей, против дикой природы, а не в устроенном гражданском обществе. А также, если б судьба захотела сделать меня смолоду моряком, я был бы вероятно и теперь очень порядочным человеком, не думал бы о политике и не искал других приключений и бурь кроме морских.
Но судьба не захотела ми того ни другого, и потребность движения и действия осталась во мне неудовлетворенною. Сия потребность, соединившись впоследствии с демократическою экзальтациею, была почти моим единственным двигателем. Что же касается до последней, то она может быть выражена в немногих словах: любовь к свободе и неотвратимая ненависть ко всякому притеснению, еще более когда оно падало на других, чем на меня самого. Искать своего счастья в чужом счастьи, своего собственного достоинства в достоинстве всех меня окружающих, быть свободным в свободе других – вот вся моя вера, стремление всей моей жизни.
Я считал священным долгом восставать против всякого притеснения, откуда бы оно ни происходило и на кого бы ни падало.
(Отчеркнуто карандашом на полях)