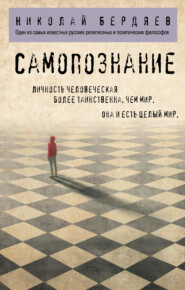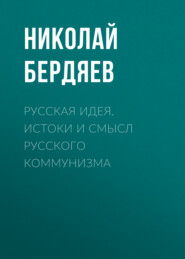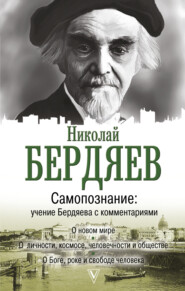По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алексей Степанович Хомяков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!
Или известное стихотворение «России». Но Хомяков неизменно верил в мощь России, в её непобедимость. Дальнейшая судьба России не оправдала веры Хомякова. Он оказался плохим пророком, не предвидел тех поражений, которые России пришлось пережить.
Отсутствие духа пророческого, сознания апокалиптического, предчувствий эсхатологических связано с основным самочувствием Хомякова и всех славянофилов. Христиане града своего не имеют, Града Грядущего взыскуют. Хомяков, и вместе с ним все славянофилы, говорили: мы град свой имеем, мы с градом своим органически срослись, и никакими силами не оторвать нас от него. Град этот – Древняя Русь, наша земля, наша родина, она Град Христов, святая Русь. Град славянофилов – святая Русь и уют помещичьих усадьб, и хлебные поля, и семья, и патриархальность отношений. Но град этот – наполовину языческий, это не Град Христов, не тот Град, которого христиане взыскуют. Града Христова никогда и нигде ещё не было в истории, Град Христов впереди, в конце. Славянофилы смешали национально-родовой быт, русский языческий град с Градом Христовым, с Градом Грядущим. Они видели в Руси почти что наступление тысячелетнего царства Христова, почти что хилиазм. И закрылась для них завеса будущего. Религиозное сознание Хомякова совсем не было аскетическим, он утверждал плоть истории, любил эту плоть, но был хилиастически обращён назад, а не вперёд. Нужны землетрясения, чтоб зародилось апокалиптическое сознание. И мы живем теперь в эпоху землетрясений. Но Хомяков не знал ещё землетрясений, не предчувствовал их, почва под ним не была ещё поколеблена.
Да избавит нас Бог от неблагородного отношения к отчеству, к предкам нашим. Как бы ни было велико наше отличие от Хомякова, он всё же принадлежит к отцам нашим, может быть, к дедам. Мы получили от него наследство и должны дорожить им. Нам нет возврата к славянофильской уютности, к быту помещичьих усадьб. Усадьбы наши проданы, мы оторвались от бытовых связей с землей. Но мы живо чувствуем красоту этих усадьб и благородство иных чувств, с ними связанных. Славянофилы были русскими барами, со многими недостатками этого типа. Но с этим барством связаны и рыцарские чувства, верность заветам предков, верность святыне Церкви. В Хомякове был камень веры, и этим он нам дорог. Наше поколение нуждается в его твёрдости и верности. Религиозный опыт и религиозное сознание Хомякова были замкнуты, были пределы, которых он не переходил, многого он не видел и не предчувствовал, но верность святыне была у него непоколебимая. Христианство было для него прежде всего священство, но отношение его к священству было бесконечно свободным, в нём не было ничего рабьего. И всё пророческое, переходящее за пределы хомяковского сознания, должно быть по-хомяковски верно священству и святыне. Наше поколение отличается от поколения славянофилов прежде всего культом творчества, творческими порывами. Творческие порывы могут быть и безбожны, но самый путь религиозного творчества есть единственный путь для нового человечества. Как ни прекрасен, как ни величествен тип Хомякова, в дальнейшем своем охранении он вырождается до неузнаваемости. Те, которые ныне считают себя такими, каким был Хомяков, те на Хомякова не похожи. Для всего есть времена и сроки, всё хорошо в своё время. Второго Хомякова уже не будет никогда. Не повторится уже никогда красота старых дворянских усадьб, но в красоте этой, как и во всякой красоте, есть вечное, неумирающее. Ныне быт этих дворянских усадьб превращается в новое уродство, и лишь эстетически помним мы о былой красоте. И наша верность Хомякову, как отчеству, должна быть источником творческого развития, а не застоя. Плох тот сын, который не приумножает богатств отца, не идёт дальше отца. Возврат к славянофильству, к его правде, не может быть для нас успокоением; в возврате этом есть творческая тревога и динамика. Но вернуться к образу Хомякова нам необходимо было.
Глава III. Хомяков как богослов. Учение о Церкви
Хомяков – прежде всего замечательный богослов, первый свободный русский богослов. В восточно-православном богословии ему принадлежит одно из первых мест после старых учителей Церкви. Ю. Самарин, верный его ученик, говорит в своем предисловии к богословским сочинениям Хомякова: «В былые времена тех, кто сослужил православному миру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось логическим уяснением той или другой стороны церковного учения одержать для Церкви над тем или иным заблуждением решительную победу, тех называли учителями Церкви».[31 - См.: Самарин Ю. Предисловие к 1-му изданию богословских сочинений Хомякова. Во II томе сочинений Хомякова или в Собрании сочинений Ю. Самарина. Т. VI.] В чем видит Самарин источник силы хомяковского богословия? «Хомяков представлял собой оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании». «Хомяков жил в церкви», «Хомяков не только дорожил верою, но он вместе с тем питал несомненную уверенность в её прочности. Оттого он ничего не боялся за неё, а оттого, что не боялся, он всегда и на всё смотрел во все глаза, никогда ни перед чем не жмурил их, ни от чего не отмахивался и не кривил душой перед своим сознанием. Вполне свободный, то есть вполне правдивый в своем убеждении, он требовал той же свободы, того же права быть правдивым и для других». «Он дорожил верою как истиной, а не как удовлетворением для себя, помимо и независимо от её истинности». Выраставшее из этого у Хомякова чувство Церкви и учение о Церкви Самарин выразил так: «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь – стало быть, я не верую. Церковь предлагает только веру, вызывает в душе человека только веру и меньшим не довольствуется; иными словами, она принимает в своё лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в неё, тот не в Церкви и не от Церкви». «Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истины и любви, или точнее: истина и любовь как организм». По мнению Самарина: «Хомяков первый взглянул на латинство и протестантство из Церкви, следовательно, сверху; поэтому он и мог определить их». Отзывы Ю. Самарина, может быть, слишком восторженны, но в них есть много правды. Великое значение Хомякова в том, что он был свободный православный, свободно чувствовал себя в Церкви, свободно защищал Церковь. В нём нет никакой схоластики, нет сословно-корыстного отношения к Церкви. В его богословствовании нет и следов духа семинарского. Ничего официального, казенного нет в хомяковском богословии. Точно струя свежего воздуха вошла вместе с ним в православную религиозную мысль. Хомяков был первым светским религиозным мыслителем в православии, он открыл путь свободной религиозной философии, путь, засоренный школьно-схоластическим богословием. Он первый преодолел школьно-схоластическое богословие. Он показал на своем примере, что дар учительства не есть исключительная принадлежность духовной иерархии, что он принадлежит каждому члену Церкви. О митрополите Макарии, авторе известного «Догматического богословия», которое и до сих пор ещё не потеряло семинарского кредита, Хомяков выразился так: «Макарии провонял схоластикой… Я бы мог его назвать восхитительно-глупым, если бы он писал не о таком великом и важном предмете… Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия, хотя бы даже в современном его состоянии».[32 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VIII. С. 189.] Русское школьное богословие, схоластическое по духу, в сущности не было в настоящем смысле этого слова православным, не выражало религиозного опыта православного Востока как особого пути, не было опытным, живым. Это богословие рабски следовало заграничным образцам и уклонялось то к католичеству, то к протестантизму. Лишь Хомяков был первым русским православным богословом, самостоятельно мыслившим, самостоятельно относившимся к мысли западной. В богословии Хомякова выразился религиозный опыт русского народа, живой опыт православного Востока, а не школьный формализм, всегда мертвенный. Хомяков был более православен в богословии, чем многие наши архиереи и профессора духовных академий, был более русский. Догматика митрополита Макария представлялась ему переводом католической схоластики. Он зачинатель русского богословия.
Судьба богословских произведений Хомякова очень знаменательна. Замечательнейший русский богослов не мог печатать своих богословских произведений в России на родном языке; духовная цензура не разрешала их печатать. И богословские работы Хомякова появились за границей на французском языке. Такой чудовищный факт возможен лишь в России. Богословская деятельность Хомякова, его боевая защита православной Церкви казалась неблагонадежной, подозрительной. Не могли понять его свободы. Хомяков писал Ивану Аксакову: «Я позволяю себе не соглашаться во многих случаях с так называемым мнением Церкви».[33 - Там же. С. 356.] «Так называемое мнение Церкви» казалось ему нецерковным, он видел в нём лишь частное богословское мнение тех или иных иерархов. Официальные церковники не могли вынести такого свободолюбия. Профессора духовных академий, официальные и профессиональные богословы очень недоброжелательно отнеслись к хомяковскому богословствованию, увидели в этом вторжение в область ими исключительно монополизированную. Как посмел частный человек, офицер и помещик, частный литератор учительствовать о Церкви! Пусть идеи его были самые православные, но само предприятие дерзко. И всё-таки Хомяков начал новую эру в истории русского богословского сознания и в конце концов оказал влияние и на официальное богословие. Но это просачивание хомяковских идей совершалось медленно. Не спас Хомякова от официальной вражды и отзыв Николая I о его богословских трудах. В. Д. Олсуфьев пишет Хомякову по поручению императрицы Марии Александровны: «Государыня императрица, узнав, что написано продолжение сочинения вашего „Quelques mots etc.“, желает прочитать оное… Ей угодно было приказать сообщить вам, что покойный государь император с удовольствием читал вышеописанное сочинение и остался им доволен».[34 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. II. С. 90.] Государь император остался доволен, а печатать в России всё-таки не разрешали. Передают подлинные слова государя о Хомякове: «Dans ce qu’il dit de l’Eglise il est tr?s libеral; mais dans ce qu’il dit de ses rapports avec l’autoritе temporelle, il a parfaitement raison et je suis de son avis». Богословские сочинения Хомякова потом были переведены на русский язык Ю. Самариным и Гиляровым-Платоновым. Такова судьба славянофильского богословия.
Вечно помнить будут Хомякова прежде всего за его постановку проблемы Церкви и за его попытку раскрыть существо Церкви. Хомяков подошёл к существу Церкви изнутри, а не извне. Он прежде всего не верит в возможность формулировать понятие Церкви. Существо Церкви невыразимо, ни в какую формулу не вмещается, никаким формальным определениям не поддается, как и всякий живой организм. Церковь – прежде всего живой организм, единство любви, прежде всего свобода несказанная, истина веры, не поддающаяся рационализации. Со стороны Церковь не познаваема и не определима, она постигается лишь тем, кто в ней, кто является её живым членом. Схоластическое богословие тем и грешило, что пыталось рационалистически формулировать существо Церкви, то есть превращало Церковь из тайны, ведомой лишь верующим, в нечто, поддающееся познанию объективного разума. Хомяков был непримиримым врагом того интеллектуализма в богословии, против которого теперь восстает Леруа и другие католики-модернисты. Этот интеллектуализм всегда был более чужд духу православия, чем духу католичества. Гораздо большая склонность к интеллектуалистической схоластике была у Вл. Соловьёва. Хомяков же в своем отношении к Церкви и догматам более волюнтарист, чем интеллектуалист, он склоняется к тому, что теперь католики-модернисты называют моральным догматизмом. Для него единственным источником религиозного познания и единственной гарантией религиозной истины была любовь. И догматическим отличиям католичества от православия он придавал значение лишь постольку, поскольку в них нарушалась любовь. Утверждение любви как категории познания составляет душу хомяковского богословия. Он прежде всего утверждает живой организм Церкви против всякой мертвящей механичности, против всякой её рационализации. Современные католики-модернисты, да и протестанты-модернисты, часто беспомощно борющиеся с церковно-догматическим рационализмом и интеллектуализмом, многому могли бы научиться у Хомякова. В нём интеллектуализм и рационализм богословской схоластики преодолевается не личным усилием, а истиной православной Церкви, церковно преодолевается. Хомяков был прежде всего человеком церковным и церковно учил о Церкви. Модернисты слишком часто противопоставляют свободу Церкви и свободным усилием личности хотят исправить церковные недостатки. Хомяков же верил неизменно, что только в Церкви есть свобода, что Церковь и есть свобода, и потому свободное богословствование было для него богословствованием церковным. Свобода осуществлялась для него в соборности, а не в индивидуализме. У Хомякова было бесконечно свободное чувство Церкви, он свободно чувствовал себя именно в Церкви, а не вне Церкви, Церковь и была для него порядком свободы. Безумной показалась бы ему всякая попытка искать свободы вне Церкви, свободы от Церкви, видеть источник свободы не в церковной соборности, а в уединенной личности. Если Хомякову удалось гениально раскрыть органическое существо Церкви, то потому только, что он питался опытом восточного православия, в котором не было никакого интеллектуализма, никакого внешнего деспотизма. Это не могло бы быть делом индивидуального мыслителя. Даже пристрастный Вл. Соловьёв признает огромное значение Хомякова в самой постановке вопроса о Церкви. Он вынужден признать, что до славянофилов в истории христианской мысли почти нельзя встретить органического, внутреннего понимания Церкви.
Своё положительное учение о Церкви Хомяков раскрывает в форме полемики с западными вероисповеданиями. И эта отрицательно-полемическая форма наложила особую печать на всё его богословствование. Только катехизический опыт его «Церковь одна», всего двадцать шесть страниц, излагается в форме положительной; в нём православное вероучение излагается без прямой критики католичества и протестантства. Все остальные богословские сочинения Хомякова носят характер критико-полемический. Самая большая его богословская работа облечена в форму писем к Пальмеру, которого он старался обратить в православие. Эта критико-полемическая форма нападения на западные вероисповедания, преимущественно на католичество, облегчает Хомякову защиту православия. Критиковать католичество нетрудно; тут для русского – почти что движение по линии наименьшего сопротивления. Правда, Хомяков делает это с особым остроумием и глубиной, выставляет ряд новых аргументов против католичества. Но он находит почти что одни человеческие дефекты в западных вероисповеданиях и не находит почти никаких дефектов в нашем восточном вероисповедании. Вряд ли справедливо всё божественное в Церкви относить к православию, всё же человечески-дефектное – к католичеству. Есть божественное в католичестве, есть и в православии человечески дефектное. Вл. Соловьёв был прав, когда упрекал Хомякова за то, что он всё время имеет в виду православие – идеальное, католичество же – реальное, причем в идеальном всё чисто, в реальном же всё замарано. Исторические дефекты католичества слишком известны, слишком виден в исторических судьбах католичества грех человеческий. Но ведь немало этого греха и в исторических судьбах православия. Незыблемая святыня Церкви нисколько этим не затрагивается, и есть эта святыня и в православии, и в католичестве. Нелюбовь к католичеству делала Хомякова пристрастным в пользу протестантизма. Эту склонность оправдывать протестантизм можно найти у всех славянофилов. И это понятно. Ненависть к католичеству, реакция против католичества роковым образом принимает форму протестантизма. Это католиконенавистничество с примесью протестантизма искажает православное обличие Хомякова. Ведь чудовищно было бы утверждать, что основная черта православия – ненависть к католичеству. Вся православная правда хомяковского богословия не связана с его отвращением к католичеству, она остаётся в силе и при ином отношении к католичеству. В хомяковской критике католичества есть много правды, но также можно было бы критиковать и православие, оставляя незыблемой святыню Церкви, православной и католической. Хомяков учит о сверхвероисповедной, священной сущности Церкви, учит смело и свободно. В этом его бессмертная заслуга.
Приведу много выписок для характеристики хомяковского отношения к Церкви. Его замечательные идеи лучше всего изложить его собственными словами. «Наш закон не есть закон рабства или наемничества, трудящегося за плату, но закон усыновления и свободной любви».[35 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. II. С. 21.] «Никакого главы Церкви, ни духовного, ни светского, мы не признаем. Христос – её глава, и другого она не знает».[36 - Там же. С. 34.] «Но апостолы свободное исследование дозволяли, даже вменяли в обязанность; но святые отцы свободным исследованием защищали истины веры; но свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры… Всякое верование, всякая смыслящая вера есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования».[37 - Там же. С. 43.] «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его».[38 - Там же. С. 59.] «Кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рационалист».[39 - Там же. С. 59.] Вместе с восточными патриархами, отвечавшими на окружное послание Пия IX, Хомяков думал, что «непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимной любовью, и что неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть Тело Христово».[40 - Там же. С. 60.] Церковь «знает братство, но не знает подданства».[41 - Там же. С. 69.] «Единство Церкви было свободное; точнее, единство было сама свобода, в стройном выражении её внутреннего согласия. Когда это живое единство было отринуто, пришлось пожертвовать церковной свободой для достижения единства искусственного и произвольного; пришлось заменить внешним знамением или признаком духовное чутье истины».[42 - Там же. С. 72.] «Мы исповедуем Церковь единую и свободную».[43 - Там же. С. 112.] «Познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви».[44 - Там же. С. 157.] «Клир, в действительности христианский, есть непременно клир свободный» [45 - Там же. С. 181.] – «Само христианство есть не иное что, как свобода во Христе… Я признаю Церковь более свободною, чем протестанты; ибо протестантство признает в Священном Писании авторитет непогрешимый и в то же время внешний человеку, тогда как Церковь в Писании признает своё собственное свидетельство и смотрит на него как на внутренний факт своей собственной жизни. Итак, крайне несправедливо думать, что Церковь требует принужденного единства или принужденного послушания; напротив, она гнушается того и другого, ибо в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть».[46 - Там же. С. 192.] «Тайна нравственной свободы во Христе и единения Спасителя с разумной тварью могла быть достойным образом открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви».[47 - Там же. С. 219.] «Тайна Христа, спасающего тварь, есть тайна единства и свободы человеческой в воплощённом слове. Познание этой тайны вверено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть свобода… Христос зримый – это была бы истина навязанная, неотразимая, а Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя; а Богу угодно было, чтоб она стала для нас внутреннею, по благодати Сына, в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. Отселе истина должна быть для нас самих во глубине нашей совести. Никакой видимый признак не ограничит нашей свободы, не даст нам мерила для нашего самоосуждения против нашей воли».[48 - Там же. С. 230.] «Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести: сам Господь нас этому поучает».[49 - Там же. С. 231.] «Мы были бы недостойны разумения истины, если бы не имели свободы».[50 - Там же. С. 232.] «Единство (Церкви) есть не иное что, как согласие личных свобод».[51 - Там же. С. 235.] «Вся история Церкви есть история просвещённой благодатью человеческой свободы, свидетельствующей о Божественной истине».[52 - Там же. С. 243.] «Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе».[53 - Там же. С. 244.] «Ни иерархическая власть, ни сословное значение духовенства не могут служить ручательством за истину; знание истины даруется лишь взаимной любви».[54 - Там же. С. 363.] «Было бы лучше, если б у нас было поменьше официальной, политической религии и если б правительство могло убедиться в том, что христианская истина не нуждается в постоянном покровительстве и что чрезмерная об ней заботливость ослабляет, а не усиливает её. Расширение умственной свободы много бы способствовало к уничтожению бесчисленных расколов самого худшего свойства».[55 - Там же. С. 364.] «Как члены Церкви, мы – носители её величия и достоинства, мы – единственные в целом мире заблуждений хранители Христовой истины. Отмалчиваясь, когда мы обязаны возглашать глагол Божий, мы принимаем на себя осуждение, как трусливые и неключимые рабы Того, Кто потерпел поношение и смерть, служа всему человечеству; но мы были бы хуже, чем трусы, мы стали бы изменниками, если бы вздумали призывать заблуждение на помощь себе в проповеди истины и если бы, потеряв веру в божественную силу Церкви, мы стали бы искать содействия немощи и лжи. Как бы высоко ни стоял человек на общественной лестнице, будь он нашим начальником или государем, если он не от Церкви, то в области веры он может быть только учеником нашим, но отнюдь не равным нам и не сотрудником нашим в деле проповеди. Он может в этом случае сослужить нам только одну службу – обратиться».[56 - Там же. С. 86.] «Витии, мудрецы, испытатели закона Господня и проповедники его учения говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви как о долге; но они забыли о любви как о божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает её юродство Востока».[57 - Там же. С. 108.] Удивительна эта мысль о даре любви как обеспечивающем познание истины! «Нам дано видеть в Писании не мертвую букву, не внешний для нас предмет и не церковно-государственный документ, а свидетельство и слово всей Церкви, иначе наше собственное слово настолько, насколько мы от Церкви. Писание от нас, и потому не может быть от нас отнято. История Нового Завета есть история наша; нас струи Иордана соделали в крещении причастниками смерти Господней; нас, телесным приобщением, соединяла с Христом в Евхаристии Тайная Вечеря; нам на ноги, избитые вековым странствованием, излил воду Христос Бог, гостеприимный домовладыко; на наши главы, в день Пятидесятницы, нисходил, в Таинстве святого Миропомазания, Дух Божий, дабы величие нашей любовью освящённой свободы послужило Богу полнее, чем могло это сделать рабство древнего Израиля».[58 - Там же. С. 151.] Таково было высокое понятие Хомякова о свободе церковного народа.[59 - У Леруа в его книге «Dogme et critique» можно найти уклонение от ортодоксально-католической концепции Церкви к концепции хомяковской.]
Трудно найти более свободное чувствование Церкви. Хомякова ничто не принуждает. В его отношении к Церкви ничто не идёт извне, всё – изнутри. Жизнь в Церкви и есть для него жизнь в свободе. Церковь и есть единство в любви и свободе. Церковь – не учреждение и не авторитет. В Церкви нет ничего юридического, нет никакой рационализации. По Хомякову, где есть подлинная любовь во Христе, свобода во Христе, единство во Христе, там и Церковь. Никакие формальные признаки не определяют существа Церкви. Даже вселенские Соборы потому только подлинно вселенские и потому авторитетны, что они свободно и любовно санкционированы церковным народом. Свободная соборность в любви – вот где истинный организм церковный. Очень смелая концепция Церкви, которая должна была пугать официальных богословов. Эта концепция, может быть, чужда богословской схоластике, но она близка духу священного предания и Священного Писания. Хомяков особенное значение придаёт священному преданию, так как именно в нём он видит дух соборности. Священное Писание для него есть лишь внутренний факт церковной жизни, то есть воспринимается через священное предание. Подтверждение православности своего понимания духа церковного Хомяков видел в «Окружном послании православной Церкви» в ответ Пию IX.
Хомяковские определения и формулы поистине вселенские. С его учением о Церкви принужден будет согласиться всякий свободный сын Церкви Христовой, а восстанут против него лишь рабы. Но Хомяков портил своё дело явным пристрастием. Он учил о Церкви в форме полемической, он защищал православие, нападая на западные вероисповедания. И выходило у него, что вся святыня вселенской Церкви Христовой – свобода, любовь, органичность, единство – всё заключено лишь в восточном православии, в западном же католичестве ничего этого нет, есть одни лишь уклоны и грехи человеческие. Недостаток любви к западному христианскому миру – бесспорный грех Хомякова. Он всё время делал вид, что в восточном православии, в русской поместной Церкви нет никаких исторических уклонов и человеческих грехов. Перед лицом нечестивого Запада всё обстоит благополучно в русской и греческой Церкви, всё в ней божественно, а человеческое соподчинено божественному. Нелюбовь к католичеству давила Хомякова, а вслед за ним и всех славянофилов, и вела к признанию преимуществ протестантизма перед католичеством. В таком отношении к католичеству была коренная ошибка славянофилов.
Всего менее я склонен отрицать великие, мистические преимущества православия, незапятнанно хранившего истину Христову. Но мистическое существо Церкви, единство в любви и свободе есть и в католичестве. В Церкви католической совершаются подлинные таинства, не прерывается апостольская преемственность, хранится священное предание, существует мистическое общение живых и умерших. Надо отличать христианский католический мир от папизма с его уклонами, от грехов иерархии. Уклоны католичества – всё же уклоны относительные, а не абсолютные. Хомяков очень злоупотреблял обвинениями католичества и всей западной религиозной мысли в рационализме, хотя сам не был вполне свободен от рационализма. Временами у него чувствуется протестантско-моралистический уклон; уклон этот портит его православное богословствование. Хомяков совсем не знал, не понимал и не ценил западной мистики – как мистики католической, так и мистики свободной. Он всё время имеет в виду исключительно официальное католическое богословие и мало чувствует мистическую жизнь католичества, мистику католических святых, католический религиозный опыт. Нельзя ведь понять православие по официальному богословию, нужно вникнуть в интимную религиозную жизнь народа, в восточную аскетику, мистику православных святых. То же нужно сказать и о католичестве. Католичество не исчерпывается схоластическим богословием и папизмом. В католичестве есть своя глубокая и таинственная жизнь, свой мистический трепет, своя святость. Всего этого не хотел видеть Хомяков. Он слишком исключительно отождествлял католичество с учебниками догматического богословия и канонического права, с политикой пап, с моралью иезуитов. Эта существенная ошибка Хомякова и других славянофилов связана с тем, что религиозное сознание их не углублялось до мистических первооснов. Хомяков мало считается с религиозной мистикой; он ничего почти не говорит о мистике католической и протестантской, он не знает Якова Бёме. Роковой ошибкой было бы отождествить всё католичество с рационализмом и юридическим формализмом, отрицая на Западе всякую мистику.
В главе о философии истории Хомякова я подробно остановлюсь на основном для его мировоззрения делении религий на кушитские и иранские. В кушитстве он видит религию необходимости, религию естества, религию магизма; в иранстве – религию свободы, религию свободно творящего духа. Западное католичество – наследие духа кушитства; восточное православие – духа иранства. Поэтому католичество заражено дурной магией, римским юридическим формализмом и рационализмом. Свободы в католичестве Хомяков не видит. Католичество для него не духовная религия. Это как бы естественная, магическая религия в христианском одеянии. Западный мир существенно не принял христианства, в нём живет дух Рима, дух кушитства. Даже на таинства в католичестве Хомяков смотрит как на магию, почти как на колдовство. Западный мир давит его дохристианское, язычески-культурное прошлое. В народе русском была девственно-непочатая почва, народ русский принял впервые культуру в форме христианской. Поэтому он христианский народ по преимуществу. Глубокое отличие православного Востока от католического Запада Хомяков видит, прежде всего, в нравственной области. Догматические различия, по мнению Хомякова, имеют значение второстепенное, выводное. Восточное православие, которое в русском народе нашло самое чистое своё выражение, верно христианской нравственности, христианской любви. Запад изменил любви христианской, откололся от восточного христианского мира, без него вводил новые догматы, созывал соборы, которые выдавал за вселенские. Прибавление filioque к символу веры потому плохо, что оно было сделано без взаимной любви всего христианского мира. Тут сказалось исконное самоутверждение Запада, гордыня, презрение к Востоку как к низшему. В этих мыслях Хомякова много правды. Недостаток любви характерен для западного католического мира. Но так ли безупречен восточный православный мир? Достаточно ли в нём любви к миру западно-христианскому? Прежде всего сам Хомяков обнаруживает недостаток любви. Это грех обоюдный, и он должен быть разделен. Ответственность лежит и на западных католиках, и на восточных православных. Это – грех человеческий, человеческой вражды, человеческого самоутверждения, человеческой гордости. Церковь, как Тело Христово, Церковь католическая и православная, тут ни при чем. Для Церкви не существует ни Запада, ни Востока, к ней не применимы никакие географические категории. У нас меньше кафоличности, вселенскости, чем у католиков. У них меньше православности, верности, чем у православных. Но в исключительном утверждении себя и своего есть что-то дурное, человечески-дурное, не связанное с божественной святыней Церкви. Образ Христа и правда о Нём хранится и в православии и в католичестве, и там, и здесь совершаются таинства, через которые мы приобщаемся ко Христу. Это – главное, всё остальное, человеческое, эмпирическое, бледнеет перед святыней Церкви.
Хомяков, как и все славянофилы, относился отрицательно к нашему синодальному управлению; он не видел подлинной соборности в строе русской Церкви, видел унижение Церкви перед государством, бюрократизацию Церкви. Но перед Западом он делал вид, что на Востоке всё благополучно. Он постоянно чувствует какую-то неловкость за грехи русской Церкви. Он хорошо понимает, что реальная действительность не соответствует идеальной концепции. Но святыня православной Церкви нимало не колеблется грехами русской действительности, грехами человеческими, и грехов этих не должно скрывать для защиты православия. Хомяков ведь был церковным радикалом, пугавшим власть церковную и власть государственную. Для него субъектом Церкви был церковный народ. Соборность церковного народа была свободным единством в любви. Соборность Церкви, основная идея всего славянофильства, в которой славянофилы видели сущность православия, не заключает в себе признаков формальных и рациональных, в соборности нет ничего юридического, ничего напоминающего власть государственную, ничего внешнего и принуждающего. Хотя сам Хомяков и не любил употреблять этого слова, но соборность Церкви – мистична, это порядок таинственный. Синодальное управление, да и никакое управление, не может быть адекватным выражением мистической соборности. Соборность – живой организм, и в нём живет церковный народ. В деятельности вселенских соборов всего ярче сказался соборный дух Церкви. Но и авторитет вселенских соборов не внешний, не формальный, не выразимый рационально, не переводимый на язык юридический. Вселенские соборы авторитетны лишь потому, что в них открылась истина для живого соборного организма Церкви. Церковь – не авторитет, Церковь – жизнь христианина во Христе, в теле Христовом, жизнь свободная, благодатная. Хомяков не признает никакого другого главы Церкви, кроме самого Христа. Он с негодованием отвергает обычное обвинение русской православной Церкви в цезарепапизме. «Когда, – говорит он, – после многих крушений и бедствий русский народ общим советом избрал Михаила Романова своим наследственным государем (таково высокое происхождение императорской власти в России), народ вручил своему избраннику всю власть, какою облечен был сам, во всех её видах. В силу избрания, государь стал главою народа в делах церковных так же, как и в делах гражданского управления; повторяю: главою народа в делах церковных и в этом смысле главою местной Церкви, но единственно в этом смысле. Народ не передавал и не мог передать своему государю таких прав, каких не имел сам, а едва ли кто-нибудь предположит, чтобы русский народ когда-нибудь почитал себя призванным править Церковью. Он имел изначала, как и все народы, образующие православную Церковь, голос в избрании своих епископов, и этот свой голос он мог передать своему представителю. Он имел право, или, точнее, обязанность, блюсти, чтобы решения его пастырей и их соборов приводились в исполнение; это право он мог доверить своему избраннику и его преемникам. Он имел право отстаивать свою веру против всякого неприязненного или насильственного на неё нападения; это право он также мог передать своему государю. Но народ не имел никакой власти в вопросах совести, общецерковного благочиния догматического учения, церковного управления, а потому не мог и передать такой власти своему царю».[60 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. II. С. 36.] И дальше: «Государь, будучи главою народа, во многих делах, касающихся Церкви, имеет право так же, как и все его подданные, на свободу совести в своей вере и на свободу человеческого разума; но мы не считаем его за прорицателя, движимого незримою силою, каким себе представляют латиняне епископа Римского. Мы думаем, что, будучи свободен, государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение и что если бы, чего не дай Бог, подобное несчастие случилось, несмотря на постоянные молитвы сынов Церкви, то и тогда император не утратил бы ни одного из прав своих на послушание своих подданных в делах мирских; а Церковь не понесла бы никакого ущерба в своем величии и в своей полноте, ибо никогда не изменит ей истинный и единственный её Глава. В предположенном случае одним христианином стало бы меньше в её лоне – и только».[61 - Там же. С. 37-38.]
У Хомякова нельзя найти религиозно-мистической концепции самодержавия. Такую концепцию скорее можно найти у Вл. Соловьёва в его учении о первосвященнике, царе и пророке, о триединой теократии. Хомяков был сторонником самодержавной монархии, считал эту форму единственно соответствующей духу русской истории, единственно родной русскому народу. В хомяковском самодержавии был сильный анархический привкус, сказалась славянофильская нелюбовь к политике, к государственности, к властвованию. У Соловьёва этого анархического привкуса нет, для этого в нём слишком силен был дух западный и католический. Хомяков оправдывал самодержавие не столько религиозно, сколько национально и исторически. Это прежде всего национальная идеология. Никакой церковной мистики Хомяков не видел в самодержавии, и не мог видеть, потому что православная Церковь не была для него Градом на земле и резко всякому Граду противополагалась. Хомякову чужда идея теократии как Церкви властвующей и воинствующей, через царя или первосвященника устрояющей землю, подобно теократии соловьёвской. Поэтому он так упорно отрицал исторический русский уклон к цезарепапизму. Мистическое самодержавие и есть цезарепапизм. Этой мистики Хомяков не признавал, для него русская монархия не была святой плотью общественной. Идея святой плоти вообще была чужда Хомякову и славянофильству. Сложную и мучительную проблему отношения Церкви и государства Хомяков решал скорее в духе национально-бытовом, чем в духе религиозно-мистическом. Формы государственности он считал созданием народного духа, и он гордился тем, что царская власть у нас народного происхождения. Сам же народ живет жизнью церковной, и потому всё для него освящается Церковью. Но народу русскому, по мнению славянофильскому, чужд империализм, чужды и теократические мечты, всё это западное, не русское.
Я говорил уже и буду ещё говорить об англофильстве Хомякова. Англофильство это сказалось и в любви к англиканской церкви, с которой Хомяков искал сближения и которую надеялся воссоединить с Церковью православной. Именно в англиканстве Хомяков видел всего менее препятствий для воссоединения с православием. Он вступил в деятельные отношения с английским богословом Пальмером. Письма к Пальмеру – самый большой богословский труд Хомякова. Пальмер склонялся к переходу в православие, и Хомяков окончательно хотел убедить его в истине православия. К делу перехода Пальмера в православие он отнёсся очень активно, он хлопотал у высших иерархов Церкви, чтобы облегчить Пальмеру этот переход. Он надеялся в глубине души, что вслед за Пальмером и вся англиканская Церковь присоединится к Церкви православной. Хомяков с негодованием отвергал саму идею церковной унии. Унии возможны лишь в делах мирских, политических, уния есть сделка, компромисс, взаимные уступки. Но Церковь – одна, в Церкви полнота истины, Церковь ничего не может уступить, ни на какие сделки не может пойти. Склонность католической церкви к унии Хомяков объясняет её государственно-политическим характером. Уния – политиканство, а политиканство недостойно Церкви как хранительницы правды Христовой. В принципе Хомяков в этом глубоко прав, глубоко церковен. В строгом смысле слова не может быть и речи о соединении Церквей, так как Церковь – одна и никогда не разделялась. Соединяться могут и должны лишь разрозненные части христианского человечества. С англиканцами легче всего соединиться православным, так как англиканство вовсе и не Церковь, а лишь национально объединенное собрание христиан, остановившееся между католичеством, протестантизмом и православием. Но подчиненное положение русской Церкви, её зависимость от власти государственной очень смущали Пальмера. Хомяков сам чувствовал, что тут не всё ладно, но старался трудности сгладить и обойти. Сильнее была бы позиция Хомякова, если бы он прямо смотрел в глаза эмпирической действительности и не ставил бы от неё в зависимость святыню православия.
Другое препятствие стало на пути перехода Пальмера в православие. Пальмер чувствовал себя христианином, крещеным, и он не мог согласиться на требование нового крещения, предъявленного к нему восточными патриархами. Русская Церковь оказалась более снисходительной и соглашалась принять Пальмера в своё лоно без этого условия; но Церковь греческая упорствовала. И вот Пальмер останавливается в недоумении перед тем, в какую Церковь он входит. Он хотел войти во вселенскую православную Церковь, а перед ним стали две поместные национальные церкви, русская и греческая, расходившиеся по принципиальному вопросу. Это был большой соблазн. Русская Церковь отталкивала его своим подчинением государству. Греческая церковь поставила требование, противное его религиозной совести. Где же Церковь кафолическая? Хомяков не в силах был победить эти трудности. И Пальмер перешёл в католичество, увидел в католичестве Церковь вселенскую, а не национальную. История с Пальмером ставит мучительный вопрос для православного Востока.
Хомяков отрицательно относился к старообрядчеству. Одно время он каждое воскресенье спорил со старообрядцами в церкви на паперти. Но, в сущности, и Хомяков, как и всё славянофильство, впадает в тот же грех, что и старообрядчество. Грех старообрядчества был в том, что оно национализировало Церковь, подчинило вселенский Логос национальной стихии, впало в дурной провинциализм и партикуляризм. Для старообрядчества национальная русская плоть заслонила вселенский церковный дух. Отождествили поместную русскую церковь с Церковью вселенской, всё нерусское признали нецерковным, нехристианским, басурманским, нечестивым. Обрядность русско-национальная в мелочах своих, вплоть до покроя платья, была принята за самое существо Церкви. Для Никона православная Церковь была прежде всего церковь греческая, то есть всё же национальная, поместная; для старообрядцев истинная Церковь есть лишь Церковь русская, тоже национальная, поместная. Этот церковный национализм был результатом возобладания женственной национальной стихии над вселенским Логосом, непокорностью Логосу. В русском церковном национализме можно открыть явные следы язычества, языческого национального самоутверждения, языческой непросветленности вселенским Логосом. Элементы старообрядчества есть и в славянофильстве, и элементы эти не могут быть названы в строгом смысле этого слова церковными. Конечно, Хомякову, с его глубоким пониманием сущности Церкви, чужды были грубые формы старообрядчества и староверия, но и он прегрешал церковным национализмом, и для него национальная стихия временами закрывала вселенскость. Отношение Хомякова к католичеству объясняется его церковным национализмом, по отношению к католичеству у него была старообрядческая психология. Славянофилы в известном смысле могут быть названы культурными старообрядцами, старообрядцами, прошедшими через высшее сознание, посчитавшимися со сложными результатами культуры. Славянофилы были верными сынами православной Церкви, Церкви господствующей, но они вносили в Церковь дух народный, родственный старообрядчеству. Отношение славянофилов к Петру Великому, к бюрократии, к некоторым сторонам нашего синодального управления было культурно-старообрядческое. И наряду со слабостями и грехами старообрядчества они усвоили себе и правду старообрядчества, лучшие его стороны: утверждали церковную соборность против церковного бюрократизма, центр тяжести полагали в церковном народе, в народной религиозной жизни. В старообрядчестве сохранилась народная религиозная жизнь, непосредственное участие народа в церковной жизни, есть приход и реальные проявления соборности. Обо всём этом мечтали славянофилы для всего православного русского народа. Славянофильство самим фактом своего существования подтверждает, что раскол является глубочайшей трагедией русской истории. Славянофилы обличали ложь старообрядчества и вместе с тем с уважением смотрели на сильную религиозную жизнь старообрядцев, которой не находили у православных. Самый факт существования раскола обнаруживает, что на православном Востоке не всё благополучно, не так благополучно, как это Хомяков представлял перед лицом западных вероисповеданий. Хомяков был беспомощен перед проблемой воссоединения со старообрядчеством и проблемой воссоединения с католичеством. Славянофильство попало между крайним национализмом старообрядчества и крайней вселенскостью католичества. Но Хомяков первый дал нашему богословию такое направление, что можно считать обе эти проблемы разрешимыми религиозно и внутренно. Сам он не сделал всех выводов из своего радикального богословского сознания.
Значение славянофильского богословия в русской религиозной мысли огромно. Нужно вспомнить затхлость той богословской атмосферы, в которую свежей струей вошла религиозная мысль славянофилов, мысль жизненная, а не школьная. Славянофилы внесли в русскую философию и русскую литературу религиозные темы, приобщили богословие к русской культуре как тему русской жизни. Для славянофилов православное богословие было не византийской риторикой, а делом жизни. В официальном богословии даже нравственная сторона православия имела значение по преимуществу риторическое; в религиозной мысли славянофилов она стала живой. Славянофилы были, употребляя современное выражение, прагматистами в богословии, их религиозная философия была в известном смысле философией действия, была направлена против интеллектуализма в богословии. Современный католический модернизм во многом приближается к хомяковскому пониманию Церкви. Для Хомякова почти ничего нового в католическом модернизме не было бы. То, что Леруа называет моральным догматизмом, противопоставляя его догматизму интеллектуалистическому, то, в сущности, утверждал и Хомяков. И для Хомякова догматы имеют прежде всего значение жизненно-моральное, прагматическое, а не интеллектуально-теоретическое. Источник догматического познания Хомяков видит во взаимной любви христиан, то есть понимает действенно-прагматически этот источник. Так же, действенно-прагматически, истолковывает Хомяков источник догматического раздора Востока и Запада; он видит его в недостатке любви Запада к Востоку, в жизненно-моральном дефекте. Христианские догматы открываются в жизни Церкви, в религиозном опыте. Хомяков – не меньший враг схоластически-интеллектуалистического богословия, чем современные модернисты. В следующей главе мы увидим, что философия Хомякова была философией действия, но более религиозной и потому более глубокой, чем современная философия действия. Мы с чувством удовлетворения можем сказать, что новейшие формы богословствования и философствования на Западе идут к тому, что давно уже утверждали и развивали наши славянофилы. И первым среди славянофилов был Хомяков, он – глава славянофильской церковной философии. Мы видели уже, что он играл религиозно и церковно руководящую роль. В боевых схватках, которые происходили в кружках сороковых годов, Хомяков оставался непобедимым. Коренная идея Хомякова, общая у него со всеми славянофилами, была та, что источником всякого богословствования и всякого философствования должна быть целостная жизнь духа, жизнь органическая, что всё должно быть подчинено религиозному центру жизни. Эта идея является источником славянофильской философии и всей русской философии. К идее этой идёт разными путями и Запад. Цельная же жизнь духа дана лишь в жизни религиозной, лишь в жизни Церкви. С верой в истинную жизнь Церкви связаны все надежды России на осуществление типа культуры более высокого, чем западный, и на исполнение мировой её миссии.
Как ни велики богословские заслуги Хомякова, как ни дорог он нам, всё же религиозное его сознание было ограничено, сдавлено, неполно. Мало в нём духа пророческого. Хомяков отрицал догматическое развитие Церкви, не видел в Церкви богочеловеческого процесса. Православие для него закончено, «совершение прияло», откровение Божие достигло полноты. Нового откровения в христианстве Хомяков не ждал и не допускал такой возможности. Православная Церковь была для него прежде всего охранением святыни. Сторона же пророческая и творческая ему мало раскрывалась. Проблема эсхатологическая, проблема конца не занимает никакого места в богословии Хомякова; во всей его религиозной философии нет об этом ни полслова. Свой русский мессианизм Хомяков не связывал с апокалипсисом. Нет апокалипсиса и во всей его философии истории. Апокалиптические предчувствия, апокалиптическая жуть, апокалиптический трагизм чужды Хомякову. Я говорил уже, что это характерно для всего того поколения, для всего славянофильства. Люди эти не вошли ещё в космическую атмосферу апокалипсиса, в новую религиозную эпоху. Славянофилы были новаторами, почти революционерами в богословии, свободолюбие их было поразительно; то было свободное раскрытие Христовой правды. Но всё же они принадлежали старому религиозному сознанию. Новое религиозное сознание, загорающееся в новую космическую эпоху, не изменяет незыблемой святыне православной Церкви, но оно признает не только священство, но и пророчество, оно полно предчувствиями завершающего откровения Святой Троицы, полно трагического чувства конца истории. Для нового религиозного сознания Церковь – богочеловеческий процесс, который не мог ещё завершиться, который придёт к полноте лишь в конце истории. Отрицание возможности нового христианского откровения есть тот предел, в который уперся Хомяков и за ним всё славянофильство. В этом ограничивающем пределе источник вырождения славянофильства, нетворческой его судьбы. Священство незыблемо, но где царство и пророчество? Неполнота хомяковского религиозного сознания видна уже в том, что у него почти нет религиозной космологии.
Из страха католического магизма Хомяков впадает временами в протестантский морализм. Таинства приобретают у него более духовно-моральный, чем космический смысл. Религиозное сознание Хомякова раскрывает по преимуществу те стороны таинств, которые связаны с духовным возрождением, и для него почти закрыты другие стороны, которые связаны с космическим преображением. Что в раскрытии космической природы таинств раскрывается тайна Божьего творения – этого не предчувствует Хомяков, это чуждо его сознанию. В таинствах дано не только духовное и нравственное возрождение человеческой души, в таинствах дан прообраз преображения творения, новый космос, в котором питание будет евхаристией, соединение будет браком, а жуткая водяная стихия станет крещением. Таинства – прообраз новой жизни в новом космосе, вся полнота жизни должна стать таинством, стать благодатной, и всякая деятельность должна стать богодейством. Что таинства – путь к космическому преображению, преображению всей плоти мира, об этом ничего нельзя найти у Хомякова. Он даже боялся подчеркивать объективно-космическую природу таинств, так как боялся того уклона к языческой магии, в котором всегда обвинял католичество. Но слишком большой протест против католичества легко ведет к протестантизму. Ему казалось православнее, вернее подчеркивать субъективно-духовную сторону таинств. Тут, быть может, сказалась недостаточная чуткость Хомякова к мистической стороне христианства. Космическая мистерия не стоит в центре хомяковского понимания христианства. В религиозной философии Хомякова совсем почти отсутствует религиозная космология. Какой чуждой показалась бы ему космическая мистика Я. Бёме! Он мало чувствует мировую душу, вечную женственность, всё, что так близко было Вл. Соловьёву. Нет у него места для Софии Премудрости Божьей. Религиозность Хомякова была односторонней, исключительно мужественной. Он весь в Логосе, в Логосе мыслил и учил, а не в мировой душе. И ему не передались трепет и тревога мировой души. Ограниченность его исключительно мужского сознания закрывала от него ту апокалиптическую жуть, которой наполнялась мировая душа в новую космическую эпоху, и ту апокалиптическую новь, которая в сознании новой эпохи зарождалась. В Хомякове нет никакой мистической чувствительности. Он был слишком упорным мужем и упорным барином. Он не хотел отдаваться никаким предчувствиям, не сладко ему было погружаться в бездны мировой души. Он знал мировую душу лишь со стороны охоты и сельского хозяйства, знал лишь землю, рождающую хлеб, и женщину, рождающую детей. Иной земли, иной женственности он не знает и не хочет знать. Мистика пола ему чужда и не нужна. Для него совершается таинство старого брака на старой земле. Он не томится и не тоскует по новому браку на новой земле.
Религиозное сознание Хомякова не устремлено к Граду Грядущему, и в его религиозной философии нет места для теократии. Православие никогда не смешивало Церкви с Градом. В этом огромное отличие православия от католичества, которое отождествило Церковь с Градом Божьим, с царством Христовым на земле. Для католического сознания Град Божий осуществлен уже в жизни Церкви, и потому сознание, устремлённое к Граду Грядущему, сознание апокалиптическое, нелегко зарождается на католической почве. Православные не чувствуют этой принадлежности к Граду осуществлённому, и потому легче на православной почве зарождается апокалиптическое искание Града Грядущего. Православие – более Иоанново христианство, католичество же – Петрово. Но в историческом православии нет хилиазма, нет апокалипсиса, есть святыня и священство, нет пророчества и царства. Хомяков исповедует православие историческое как религию священства, без пророчества о Граде. И знает он только один Град – святую Русь. Град этот освящён для него православием, и только об историческом русском теократическом царстве хочет он знать. Мы увидим, что идею святой Руси обосновывает Хомяков скорее национально-исторически, чем мистически. Хомяков видел соблазн католического смешения Церкви с Градом, с царством. Православие было для него безвластно, к царству в мире не стремилось, в этом видел он всё величие православия. Хомяков справедливо критиковал католичество, но несправедливо отрицал в христианстве всякое движение к Граду. Тут граница его староправославного сознания. Русское царство было для него царством православным, потому что то было царство православного русского народа. Через дух народный освящается это царство. Но святой плоти, святой телесности не было в этом царстве, не было мистического Града. Славянофилы очищали истину православия от всякой скверны, были идеальной вершиной православного сознания и тем расчищали путь для нового религиозного сознания. Новое религиозное сознание начинается тогда, когда Церковь Христова сознается как космическое царство. Святыня православия должна стать динамической силой истории. Славянофилы хотели навеки санкционировать православием безвластный, пассивный, неволевой характер русского народа. Церковь – свобода, Церковь – любовь, но Церковь – не власть. И русский народ не хочет власти, хочет лишь свободы и любви. Русский народ не хочет царства, хочет лишь Церкви. Пророчество о том, что Церковь станет Градом, было ещё закрыто для славянофильского сознания.
Глава IV. Хомяков как философ. Гносеология и метафизика
Хомяков и Иван Киреевский – основоположники славянофильской философии, которая может быть названа и национальной русской философией, отражающей всё своеобразие нашего национального мышления. Внезапная смерть помешала обоим славянофильским мыслителям разработать свою философию. Основатели славянофильства не оставили нам больших философских трактатов, не создали систему. Философия их осталась отрывочной, она передалась нам лишь в нескольких статьях, полных глубокими интуициями. Киреевский едва приступил к обоснованию и развитию славянофильской философии, как умер от холеры. Та же участь постигает и Хомякова, пожелавшего продолжить дело Киреевского. В этом было что-то провиденциальное. Быть может, такая философия и не должна быть системой. Славянофильская философия – конец отвлечённой философии и потому уже не может быть системой, подобной другим системам отвлечённой философии. То была философия цельной жизни духа, а не отсечённого интеллекта, не отвлечённого рассудка. Идея цельного знания, основанного на органической полноте жизни, – исходная идея славянофильской и русской философии. Вслед за Хомяковым и Киреевским самобытная, творческая философская мысль всегда ставила у нас себе задачу раскрытия не отвлечённой, интеллектуальной истины, а истины как пути и жизни. Это своеобразие русского философствования сказалось и в лагере противоположном, даже в нашем позитивизме, всегда жаждавшем соединить правду-истину с правдой-справедливостью. Русские не допускают, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина есть лишь суждение. И никакая гносеология, никакая методология не в силах, по-видимому, поколебать того дорационального убеждения русских, что постижение сущего даётся лишь цельной жизни духа, лишь полноте жизни. Даже наша quasi-западническая и quasi-позитивная философия стремилась к этой синтетической религиозной целостности, хотя беспомощна и бессильна была выразить эту русскую жажду. А наша творческая философская мысль, имевшая истоки славянофильские, сознательно ставила себе задачу утвердить против всякой рационалистической рассечённости органически целостную религиозную философию. Иван Киреевский, с которым Хомяков должен разделить славу основателя славянофильской философии, говорит: «Нам необходима философия: всё развитие нашего ума требует её. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенчествующим наукам, и самая жизнь наша, быть может, займет от неё изящество стройности. Но откуда придёт она? Где искать её? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может, наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта».[62 - Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. II. С. 27.] Слова эти могут быть взяты эпиграфом ко всякому русскому философствованию. И. Киреевский и Хомяков не игнорировали германской философии, они прошли через неё и творчески преодолели её. Они преодолели германский идеализм и западную отвлечённую философию верой в то, что духовная жизнь России рождает из своих недр высшее постижение сущего, высшую, органическую форму философствования. Первые славянофилы убеждены были, что Россия осталась верна цельной истине христианской Церкви, и потому свободна от рационалистического рассечения духа. Русская философия должна быть продолжением философии святоотеческой. Первые интуиции этой философии родились в душе Киреевского. Хомяков же был самым сильным её диалектиком.
Самостоятельная русская философия началась с критики отвлечённого идеализма Гегеля и перешла к идеализму конкретному, оригинальному плоду русской мысли. Преодоление гегельянства, этой титанической гордыни и титанической мощи философии, – вот задача, поставленная Киреевским и Хомяковым. Преодоление гегельянства должно было быть вместе с тем преодолением всякой отвлечённой, рационалистической философии, вызовом всему духу западной культуры. По мысли Киреевского, у западных народов произошло «раздвоение в самом основном начале западного вероучения, из которого развилась сперва схоластическая философия внутри веры, потом реформация в вере и, наконец, философия вне веры. Первые рационалисты были схоластики; их потомство называется гегельянцами».[63 - Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. I. С. 226.] В Гегеле видел Хомяков дух кушитства, отвергающий свободное творчество. Гегельянство – вершина всего западного пути развития, последняя ступень, дальше – пустая бездна. Крушение гегелевской философии было кризисом философии вообще. Хомяков жил в духовной атмосфере классического германского идеализма и глубоко задумался над противоречиями этого идеализма и причинами роковых его неудач. «Сущее, – говорит Хомяков, – должно быть совершенно отстранено. Само понятие, в своей полнейшей отвлечённости, должно было всё возродить из собственных недр. Рационализм, или логическая рассудочность, должна была найти себе конечный венец и Божественное освящение в новом создании целого мира. Такова была огромная задача, которую задал себе германский ум в Гегеле, и нельзя не удивляться той смелости, с какой он приступил к её решению».[64 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 267.] «Логику Гегеля следует назвать воодухотворением отвлечённого бытия (Einvergeistigung des Seyns). Таково было её полнейшее, кажется, никогда ещё не высказанное определение. Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлечённого понятия, не имеющего в себе никакой сущности. Самосильный переход из нагой возможности во всю разнообразную и разумную существенность мира».[65 - Там же. С. 268.] В Гегеле завершила свой цикл развития та «философия рассудка», которая «считала себя философией разума». Хомяков так формулирует предел, к которому пришло философское движение в Германии: «воссоздание цельного разума (то есть духа) из понятий рассудка. Как скоро задача определила себя таким образом (а собственно, таков смысл Гегелевой деятельности), путь должен был прекратиться: всякий шаг вперёд был невозможен».[66 - Там же. С. 291.] Общая ошибка всей школы, ещё неясно выдающаяся в её основателе – Канте и резко характеризующая её довершителя – Гегеля, состоит в том, что она постоянно принимает движение понятия в личном понимании за тождественное с движением самой действительности (всей реальности)».[67 - Там же. С. 296.] «Нельзя было начать развития с того субстрата или, лучше сказать, с того отсутствия субстрата, от которого отправлялся Гегель; от этого целый ряд ошибок, смешение личных законов с законами мировыми; от этого также постоянное смешение движений критического понятия с движением мира явлений, несмотря на их противоположность; от этого и разрушение всего титанского труда. Корень же общей ошибки Гегеля лежал в ошибке всей школы, принявшей рассудок за целость духа. Вся школа не заметила, что, принимая понятие за единственную основу всего мышления, разрушаешь мир: ибо понятие обращает всякую ему подлежащую действительность в чистую, отвлечённую возможность».[68 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 110.] Хомяков предвидит неизбежность перехода гегелевского отвлечённого идеализма в материализм. В поисках за субстратом ухватятся за материю: нельзя жить и мыслить в бессубстрактной, не сущей отвлечённости. Хомяков предсказывает даже появление диалектического материализма. «Критика сознала одно: полную несостоятельность гегельянства, силившегося создать мир без субстрата. Ученики его не поняли того, что в этом-то и состояла вся задача учителя, и очень простодушно вообразили себе, что только стоит ввести в систему этот недостающий субстрат, и дело будет слажено. Но откуда взять субстрат? Дух, очевидно, не годился, во-первых, потому, что сама задача Гегеля прямо выражала себя как искание процесса, созидающего дух; а во-вторых, и потому, что самый характер Гегелева рационализма, в высшей степени идеалистический, вовсе не был спиритуалистическим. И вот самое отвлечённое из человеческих отвлечённостей – гегельянство – прямо хватилось за вещество и перешло в чистейший и грубейший материализм. Вещество будет субстратом, а затем система Гегеля сохранится, то есть сохранится терминология, большая часть определений, мысленных переходов, логических приемов и т. д., сохранится, одним словом, то, что можно назвать фабричным процессом Гегелева ума. Не дожил великий мыслитель до такого посрамления; но, может быть, и не осмелились бы его ученики решиться на такое посрамление учителя, если бы гроб не скрыл его грозного лица».[69 - Там же. С. 302.] Гегель не дожил до диалектического материализма Маркса, хотя и породил его. Хомяков же предсказал появление марксизма, в котором сохранится «фабричный процесс Гегелева ума». Философский позор диалектического материализма был карой за грехи рационализма.
В западной философии лишь Ф. А. Тренделенбург дал критику Гегеля, родственную критике славянофильской, но не творческую, не созидающую. Приведу для сравнения две цитаты: «Без живого созерцания, – говорит он в своих „Логических исследованиях“, – логическому методу следовало бы ведь решительно всё покончить идеей – этим вечным единством субъективного и объективного. Но метод этого не делает, сознаваясь, что логический мир в отвлечённом элементе мысли есть лишь „царство теней“, не более. Ему, стало быть, известно, что есть иной, свежий и животрепетный мир, но известно – не из чистого мышления».[70 - См.: Тренделенбург Ф. А. Логические исследования. Ч. I. С. 81.] И ещё: «Диалектике предлежало доказать, что замкнутое в себе мышление действительно охватывает всецелость мира. Но доказательства этому не дано. Везде мнимозамкнутый круг растворяется украдкою, чтобы принять извне, чего недостает ему внутри. Закрытый глаз обыкновенно видит перед собой одну фантасмагорию. Человеческое мышление живет созерцанием и умирает с голоду, когда вынуждено питаться собственной утробой».[71 - Там же. С. 110.]
Киреевский и Хомяков поняли, что германская идеалистическая философия – продукт протестантизма, что Кант – один из моментов в развитии протестантского отщепенства, а Гегель – завершитель протестантского рационализма. Отпадение от церкви как живого организма, как онтологической реальности, привело к рассечению целостной жизни духа, к отпадению рассудочно-логического мышления от целостного разума. «Германия смутно сознавала в себе полное отсутствие религии и переносила мало-помалу в недра философии все требования, на которые до тех пор отвечала вера. Кант был прямым и необходимым продолжателем Лютера. Можно бы было показать в его двойственной критике чистого и практического разума характер вполне лютеранский».[72 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 300.] Грехи же протестантизма славянофилы выводили из грехов католичества. Уже католичество допустило господство отвлечённого рассудка в схоластической философии и теологии, там уже началось рассечение целостного духа и целостного разума. Нужно только сказать, что Хомяков слишком игнорирует западную мистику и её значение для философии. Ведь мистика Мейстера Экхарта была истоком протестантизма и германского философского идеализма. А, с другой стороны, мистика Якова Бёме повлияла на Фр. Баадера и Шеллинга – явления, родственные славянофильству. У Бёме и Баадера была духовная цельность, их философия была философией Логоса, а не рассудка. Была эта цельность и в католической мистике. По мысли же Хомякова и Киреевского, духовная цельность сохранилась лишь в восточной церкви, в православии лишь живет Разум-Логос. И с Востока лишь ждут они возрождения философии, победы над рационалистической пустотой, выхода из тупика. У восточных учителей церкви нужно искать новых начал для философии. Хомяков почуял меонизм европейской философии, торжество духа небытия. Бытие, сущее, упраздняется рационалистической, рассудочной, отвлечённой философией. Это яснее всего видно на гениальной и титанической попытке Гегеля воссоздать диалектическим путем сущее из отвлечённой идеи. Сущее дано лишь философии целостного духа, лишь разуму органическому, нерассечённому. Хомяков предвидел окончательное торжество меонизма и иллюзионизма в дальнейшем развитии европейской философии. В новейших формах трансцендентализма и имманентизма бытие упраздняется без остатка, превращается в содержание сознания и в формы экзистенциального суждения. Против торжествующего в рационалистической философии духа небытия Хомяков утверждает онтологизм. Для него гегелевский панлогизм не был подлинным онтологизмом. Отождествление логики с онтологией было лишь одной из форм оторванности рассудочно-логического мышления от живого бытия. Только в России, в сознании славянофилов, преодоление гегелевского отвлечённого идеализма породило конкретный идеализм, утверждающий конкретный и целостный дух как сущее. Славянофильская философия сознательно обратилась к религиозному питанию и там нашла субстрат, обрела сущее. Западная мысль после крушения гегельянства ищет сущее в материи, в чувственности, в положительной науке. Русская мысль ищет сущее в мистическом восприятии, в религиозном опыте.
Западническая философия у нас банальна и посредственна, она пересаживает на русскую почву западную мысль, преимущественно германскую, и мысль эта не в силах творить у нас самостоятельно, как творила на Западе. Только славянофильская философия у нас оригинальна, полна творческого духа. Оригинальна эта философия уже потому, что в основе её лежит религиозный опыт православного Востока: целостная жизнь духа, которую требуют славянофилы для философского исследования, и есть опыт православно-религиозный. Гносеология Хомякова прошла через германский идеализм, преодолела кантианство и гегельянство. Преодоление это совершилось не путем новой какой-нибудь философии западного образца, а путем философии целостной жизни духа. Гносеология Хомякова не разделяет субъект и объект и не рассекает дух. Хомяков принципиально утверждает зависимость философского познания от религиозной жизни, от религиозного опыта. Но это менее всего значит, что для Хомякова философия была прислужницей теологии. Славянофильская философия – не теологическая, а религиозная. Схоластическое понимание зависимости философии от теологии, католическое подчинение философской мысли церковному авторитету – всё это чуждо и противно славянофилам. Хомяков утверждает свободу философии, свободную философию, но философия свободно должна сознать, что религиозная полнота опыта и жизни духа есть источник познания сущего. Философский дух Хомякова очень глубоко отличается от философского традиционализма Жозефа де Местра, де Бональда и других французских католических мыслителей начала XIX века. Здесь, у славянофилов, была гениальность свободы, там, у традиционалистов, – гениальность авторитета. В германской философии XIX века на родственной точке зрения стоял Франц Баадер. Но Баадера славянофилы, по-видимому, не знали, и он никакого влияния на них не оказал. Хорошо знал Хомяков Шеллинга и очень его ценил. С Шеллингом славянофильская философия имеет точки соприкосновения, и там, и здесь – философия тождества. Но есть и принципиальное различие. Шеллинг был гностиком, чего нельзя сказать про Хомякова. Шеллинг философски утверждал тождество субъекта и объекта, философский момент в нём преобладал над религиозным. Хомяков религиозно утверждал тождество субъекта и объекта, религиозный момент был в нём сильнее философского. К последнему периоду философии Шеллинга Хомяков относился критически. «Примиритель внутреннего разногласия, – говорит Хомяков, – восстановитель разумных отношений между явлением и сознанием, следовательно, воссоздатель цельности духа, Шеллинг даёт разумное оправдание природе, признавая её отражением духа. Из рационализма он переходит в идеализм, а впоследствии он переходит в мистический спиритуализм. Последняя эпоха его имеет, впрочем, значение эпизодическое ещё более, чем философия практического разума у Канта, или далеко уступает ей в смысле гениальности. Первая же и действительно плодотворная половина Шеллинговой деятельности остается в важнейших своих выводах высшим и прекраснейшим явлением в истории философии до наших дней».[73 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 292.] Большой ошибкой было бы думать, что славянофильская философия была простым переложением на русский язык шеллинговской философии. Шеллинг так до конца и не обратился жизненно в христианскую веру, остался романтиком, и потому в философии его не мог быть настоящим образом использован религиозно-христианский опыт. А восточно-христианский опыт, на котором основывалось славянофильство, был ему чужд. Шеллингианцем был кн. В. Ф. Одоевский, а не Хомяков.
С славянофильской философией есть точки соприкосновения в современном прагматизме, в философии действия. Прежде всего уж то сходство есть, что и прагматизм исходит из жизни, утверждает познание как факт жизни, отрицает интеллектуалистические и рационалистические критерии истины. Славянофильская философия, по-своему, была философией действия, антиинтеллектуализмом. Для Хомякова истина открывается в действии, в религиозном опыте, в практике цельного духа. Ученик Бергсона и главный философ католического модернизма Леруа, применивший прагматическую точку зрения к догматам, настолько приближается к хомяковской точке зрения, что нам почти нечему у него учиться. Но прагматическая философия тем отличается от славянофильской, что она не знает положительного религиозного опыта,[74 - Говорю не о Леруа, а о Джемсе и Бергсоне.] не знает Логоса в действии, в практике жизни. Антиинтеллектуализм этой философии явился реакцией против интеллектуализма и потому принял форму алогизма, иррационализма. Хомяковская философия действия обретает Логос в целостной жизни духа, она исходит не просто из жизни и её нужд, а из жизни религиозной. Но антиинтеллектуализм, жизненный прагматизм, был уже в славянофильской философии. Философия эта искала критериев истины в целостной жизни духа, а не в интеллекте, не в отвлечённой логике, то есть искала критериев действенных. Динамический Логос – вот чем жива была эта философия.
Всё своеобразие гносеологии Хомякова в том, что он утверждает соборную, то есть церковную, гносеологию. Сущее дано лишь соборному, церковному сознанию. Индивидуальное сознание бессильно постигнуть истину. Самоутверждение индивидуального сознания всегда есть вместе с тем рассечение целостной жизни духа, отщепление субъекта от объекта. Целостный дух, который только и стяжает высший Разум, всегда связан с соборностью. «Все глубочайшие истины мысли, вся высшая правда вольного стремления доступны только разуму, внутри себя устроенному в полном нравственном согласии с всесущим разумом, и ему одному открыты невидимые тайны вещей Божеских и человеческих».[75 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 282.] Только в религиозной жизни может быть источник истинной философии, так как лишь в религиозной жизни обретается соборное сознание. В религиозном же отщепенстве дух рассекается и торжествует индивидуальный рассудок – вместо разума соборного. Хомяков видит в любви, в церковном общении христиан источник и критерий познания. Это – мысль очень глубокая и смелая. В главе о Хомякове как богослове мы видели, как для него общение в любви является источником религиозного познания. Ту же идею он проводит и в своей философии. «Из всемирных законов водящего разума, или разумеющей воли, – говорит он, – первым, высшим, совершеннейшим является неискажённой душе закон любви. Следовательно, согласие с ним по преимуществу может укрепить и расширить наше мысленное зрение, и ему должны мы покорять, и по его строю настраивать упорное неустройство наших умственных сил. Только при совершении этого подвига можем мы надеяться на полнейшее развитие разума».[76 - Там же. С. 283.] И дальше: «Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без неё невозможно. Недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных: от латинства, стоящего на внешнем авторитете, и от протестантства, отрешающего личность до свободы в пустынях рассудочной отвлечённости».[77 - Там же. С. 283.]Особенно нужно настаивать на том, что соборность, общение в любви, не было для Хомякова философской идеей, заимствованной у западной мысли, а было религиозным фактом, взятым из живого опыта восточной Церкви. Только памятуя об этом, можно понять славянофильскую философию. Соборность ничего общего не имеет с «сознанием вообще», со «сверхиндивидуальным субъектом» и тому подобными кабинетными измышлениями философов, соборность взята из бытия, из жизни, а не из головы, не из книг. Соборное общение в любви и есть онтологическая предпосылка гносеологии Хомякова. Вся его гносеология покоится на этом факте бытия, а не на учении о бытии. Касание сущего, интуиция сущего возможны лишь в целостной жизни духа, в соборном общении. А это ведет к тому, что вера открывается в основе знания.
Вера первичнее, первороднее знания. В основе знания лежит вера. В первоначальном, нерационализированном сознании реальность воспринимается верой. Философия Хомякова приходит к тождеству знания и веры. «Я назвал верою ту способность разума, – говорит Хомяков, – которая воспринимает действительные (реальные) данные, передаваемые ею на разбор и сознание рассудка. В этой только области данные ещё носят в себе полноту своего характера и признаки своего начала. В этой области, предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознаёт человек, что принадлежит его умственному миру и что миру внешнему (курсив мой. – Н. Б.). Тут, на оселке воли, сказывается ему, что в его предметном (объективном) мире создано его творческою (субъективною) деятельностью и что независимо от неё. Время и пространство, или, лучше сказать, явления в этих двух категориях, сознаются тут независимыми от его субъективности или, по крайней мере, зависящими от неё в весьма малой мере».[78 - Там же. С. 327.] «Разум жив восприятием явления в вере».[79 - Там же. С. 279.] «Полнота разума или духа человеческого сознаёт все явления объективного мира своими, но идущими или от него самого, или не от него. В обоих случаях он принимает их ещё непосредственно, то есть верою… При всех возможных обстоятельствах предмет (или явление, или факт) есть веруемый, и только воздействием сознания обращается вполне в сознаваемого, и мера сознания никогда не переходит пределов или, лучше сказать, не изменяет характера, с которым принят первоначально предмет».[80 - Там же. С. 328.] Различие между реальным и иллюзорным, а также между субъективным и объективным устанавливается лишь актом веры, который предшествует логическому сознанию. Сущее воспринимается верою, оно дано до рационалистического рассечения целостной жизни духа. Торжество рационалистического сознания ведет к тому, что теряется различие между реальным и нереальным. Потому-то в современной философии и торжествует иллюзионизм и меонизм. Лишь в вере, предшествующей всякой рационализации, дано тождество субъекта и объекта и постигается сущее. «Полное разумение, – говорит Хомяков, – есть воссозидание, то есть обращение разумеваемого в факт нашей собственной жизни».[81 - Там же. С. 330.] То же почти, но иными словами, выразил Фр. Баадер, когда сказал, что познавать истину значит быть истинным. Лишь в вере человек становится истинным, обращает разумеваемое в факт собственной жизни. Вера же есть, прежде всего, функция воли как ядра нашего целостного духовного существа. Учение о воле, о волящем разуме и разумной воле составляет центр гносеологии и метафизики Хомякова. Хомяков был своеобразным волюнтаристом, был им задолго до того времени, когда волюнтаризм стал популярен в европейской философии. Но волюнтаризм Хомякова принципиально отличается от всех почти форм последующего волюнтаризма европейской философии. Его волюнтаризм соединяется с логизмом, то есть с признанием разумности воли, Логоса бытия, в то время как современный философский волюнтаризм алогичен, отрицает Логос, со времен Шопенгауэра имеет уклон к признанию воли иррациональной, слепой, безумной. Волюнтаризм Хомякова не был отвлечённым началом, воля не была отсечена от целостного, разумного духа. Хомяков возвышается над современной противоположностью волюнтаризма и рационализма.
Хомяков – волюнтарист не только в метафизике, но и в гносеологии. Философия его есть философия свободно волящего духа, она противоположна всякому детерминизму, всякой власти необходимости. Но ещё раз подчеркиваю, что его метафизический и гносеологический волюнтаризм ничего общего не имеет с алогизмом и иррационализмом Шопенгауэра или Гартмана, также отличается он от современного волюнтаризма Джемса и Бергсона, Вундта и Паульсена, Виндельбанда и Риккерта. Волюнтаризм современной европейской философии есть результат утери Логоса. Это – беспомощная борьба с рационализмом и интеллектуализмом сознания алогического. Не то у Хомякова. Хомяков исходит из целостного духа, в котором воля и разум не рассечены. Разум для него – волящий, воля – разумна. В германской рационалистической философии, в Гегеле не находит Хомяков воли, не находит и свободы. Там нет динамического разума, есть лишь разум статический. Для Хомякова «свобода в положительном проявлении силы есть воля».[82 - Там же. С. 276.] «Вся великая школа немецкого рационализма, так же как и её слабый переродок, материализм, заключала в себе бессознательно идею безвольности (нецессарианизма)».[83 - Там же. С. 313.] «Воля для человека принадлежит области до-предметной. Между тем философия до сих пор ведала только отражение предмета в рассудочном знании, и, если от неё ускользала самая действительность предмета, не переходящая в это знание, тем более была ей вовсе недоступна область сил, не переходящих в предметный образ; следовательно, недоступна была и воля. Оттого-то её и следов не находишь в германской философии».[84 - Там же. С. 276.] Только воля, только разум волящий, а не безвольный, полагает различие между я и не-я, между внутренним и внешним. «Воля в здоровом состоянии отделяет самозданный предмет от внешнего мира».[85 - Там же. С. 277.] «Воля определяет иные, как я и от меня, другие, как я, но не от меня, обличая различия первоначал, от которых истекает существование или изменение самих познаваемых предметов».[86 - Там же. С. 278.] Насколько Хомяков был чужд слепого алогического волюнтаризма, видно из следующего места: «Из всемирных законов волящего разума, или разумеющей воли (ибо таково определение самого духа), первым, высшим, совершеннейшим является неискажённой душе закон любви». Ведь Логос – Смысл мира – и есть Любовь. Начало явления Хомяков видит в «мысли свободной, то есть воле разума». «Воля – это последнее слово для сознания, так же, как оно первое для действительности. Воля разума, и прибавлю: разума в его полноте, ибо изменение явлений есть изменение в сознаваемом, но сознаваемое, как таковое, уже предполагает, или, лучше сказать, заключает в себе уже присущее существование допредметного сознания, той первой ступени мысленного бытия, которая не переходит и не может перейти в явление, всегда предшествуя ему. Итак, самое изменение явлений, совершаемое в сознаваемом, ставит уже полноту мысленного существа, и поэтому только в полноте разума находим мы начало явления и его изменений, то есть силы».[87 - Там же. С. 340.] «Никто в своей воле не сомневается, потому что он понятие о ней не мог получить из внешнего мира, мира необходимостей; потому что на сознании воли основаны целые категории понятий, потому что в ней, как я уже сказал, лежит различие между предметами мира существенного и мира воображаемого; потому, наконец, что разум точно так же не может сомневаться в своей творческой деятельности – воле, как и в своей отражательной восприимчивости – вере, или окончательном сознании – рассудке».[88 - Там же. С. 343.] Для Хомякова «необходимость есть только чужая воля», «необходимость есть проявленная воля».[89 - Там же. С. 344.] «Откуда бы мы ни шли, от своей ли личной субъективности и сознания, от анализа ли явлений в их мировой общности, одно выступает в конечном выводе – воля в её тождестве с разумом (курсив мой. – Н. Б.), как его деятельная сила, не отделимая ни от понятия об нём, ни от понятия об субъективности. Она ставит всё сущее, выделяя его из возможного, или, иначе, выделяя мышленное из мыслимого свободою своего творчества. Она, по существу своему, разумна, ибо разумно всё, что мыслимо, а она – разум в его деятельности, так же как сознание есть разум в его отражательности или страдательности, или, если угодно, восприимчивости. Обе эти степени, с посредствующею объективностью, или предметностью, где воля ставит себя предметом для сознания, присущи разуму и составляют его полноту, целость его внутреннего расклубления».[90 - Там же. С. 345.] В воле видел Хомяков сущее, но в воле разумной, в воле, тождественной разуму. В волящем разуме, в разумной воле дано тождество мышления и бытия. Воле принадлежит центральное место в гносеологии Хомякова, но гносеология его – онтологическая. Воля у Хомякова не есть понятие психологическое. Его метафизика и гносеология не может быть истолкована как психологизм. Психологизм всегда есть порождение оторванной, уединенной индивидуальной души. Соборность же противоположна всякому психологизму. Философия Хомякова может быть названа конкретным спиритуализмом, именно конкретным, а не отвлечённым. Спиритуализм его – не традиционно дуалистический. Идея свободно творящего духа – основная идея всей русской философии; её можно найти не только у философов, примыкающих к славянофильству, но и у философов, со славянофильством непосредственно не связанных. Так, например, философия Лопатина вся проникнута идеей свободно творящего духа, вся противится нецессарианизму, безвольности. В этом и Лопатин родствен Хомякову и верен основной онтологической традиции русской философии. То же можно сказать и про Козлова.
Хомякова вместе с Киреевским нужно признать основоположниками самобытной традиции в русской философии. Русская философия имеет характер онтологический по преимуществу; в ней гносеология всегда занимает подчиненное место, а проблемы логические не разрабатываются специально. Конкретное сущее – вот к чему устремляется славянофильская и русская философия. Но может ли существовать национальная философия, не должна ли философия стремиться к тому, чтобы быть истинной, а не национальной? Конечно, к истине должна стремиться философия, в любви к мудрости пафос её. Но истина не бесплотно и не бескровно раскрывается в человечестве. В великом деле раскрытия истины, всегда единой, могут быть разные миссии и назначения. Разным нациям в разные эпохи поручено раскрывать разные стороны истины. Это связано с умопостигаемой волей нации, с основным устремлением её духа. Умопостигаемая воля русского народа, целость духа его направлена на раскрытие тайны сущего, ставит русской мысли задачи онтологические. Религиозная природа русского народа ставит перед русским сознанием задачу создания синтетической религиозной философии, примирения знания и веры, в эту сторону направляет творческую мощь нашу. Онтологическое и религиозное устремление русской философии не есть подчинение истины национальности, а есть раскрытие нашей национальностью онтологической и религиозной стороны истины.
Хомяков угадал путь творческой русской философии, положил основание традиции. Но гносеология и метафизика Хомякова так же мало была разработана, как и у Киреевского, осталась отрывочной. Совсем не развита у Хомякова космологическая сторона метафизики. У него космология почти отсутствует, нет натурфилософии. Это связано с тем, что и в религиозном сознании Хомякова космология почти отсутствовала. У него нет учения о мировой душе. Отсутствие космологии – главный пробел славянофильской философии. В этом славянофильство было ниже, а не выше Шеллинга, который так выдвинул проблемы натурфилософии и космологии. Великую идею соборности Хомяков не сумел связать с учением о душе мира. Его религиозно-философское сознание слишком отталкивалось от неумирающей правды язычества, правды о земле. Она, матерь-земля, вечная женственность, почти отсутствует и в философском и в религиозном сознании Хомякова. А с ней лишь связана космологическая сторона религиозной философии. Христианская космология и есть учение о душе мира, о вечной женственности, о матери земле, это мост, связующий христианство с язычеством. В язычестве дана была женственно-земляная основа Церкви, та она, с которой соединился Логос. Отсутствие космологии в сознании Хомякова вело к спиритуалистическому уклону; преобладает у него психология над космологией. Русская философия, религиозная по духу, в дальнейшем своем развитии, в лице Вл. Соловьёва, выдвинула проблему космологическую, учение о душе мира. И то был большой шаг вперёд. Славянофильская философия, хотя и ограничилась отрывками, хотя ни Хомяков, ни другие славянофилы не оставили больших философских трактатов, но она всё же дала в истории русской мысли зрелые плоды. Образовалась русская философская традиция, наметилась возможность своеобразной философской школы. Прямыми продолжателями славянофильской традиции в философии были величайший русский философ Вл. Соловьёв, а затем кн. С. Трубецкой. Два главные философские трактата Вл. Соловьёва, «Критика отвлечённых начал» и «Философские начала цельного знания», проникнуты славянофильским духом. Идею критики отвлечённых начал и идею утверждения цельного знания Вл. Соловьёв получил от Хомякова, хотя сам недостаточно признавал это. Уже Хомяков преодолевал всякий отвлечённый рационализм и всякую отвлечённость в философии цельного знания, знания цельного духа. Хомяков утверждал цельный органический разум. Отрывочные мысли Хомякова Соловьёв привел в систему. Но на самом методе философствования Вл. Соловьёва отпечатлелись непосредственные следы гегельянства. Быть может, потому Соловьёву сравнительно легче было придать славянофильской философии форму системы. Хомяков был свободнее от гегельянства. Но я не хочу сказать, что философия Соловьёва была простым повторением славянофильских идей. У Вл. Соловьёва был большой творческий ум, и он творчески претворял все влияния. Всё-таки критика отвлечённых начал не была осуществлена Хомяковым, а лишь намечена. Соловьёв блестяще провел эту критику. У Соловьёва был философский размах и универсальная ширь, которых нет у Хомякова. Он был единственный у нас творец универсальной философской системы, по образцу великих систем Запада, главным образом Германии. Это его вклад в русскую культуру. Хомяков оставил лишь философские отрывки; Соловьёв оставил философские трактаты. Но и он, как человек русский, был слишком обуреваем духом жизни и потому не мог отдать себя исключительно кабинетным философским изысканиям. Нужно подчеркнуть оттенок, отличающий Вл. Соловьёва от Хомякова. Дух философствования Хомякова более волюнтаристический и прагматический, дух философствования Соловьёва более интеллектуалистический и логистический. И в этом Хомяков ближе нам, чем Соловьёв. После Соловьёва славянофильскую традицию в философии продолжал кн. С. Трубецкой. Его замечательная работа «О природе сознания» проникнута славянофильским духом и развивает славянофильскую идею соборности в гносеологическом её аспекте. Вся творческая русская философия борется с индивидуализмом, с падшим разумом за соборность сознания, за стяжание Логоса. В России преодолевается философия как отвлечённое начало и потому дан путь к выходу из тупика, в который зашла современная европейская философия, дана возможность преодолеть кризис философии.
Русские призваны создать религиозную философию, философию цельного духа. За это говорит весь национальный склад наш, коренное и исконное устремление нашей умопостигаемой воли. Воля ставит задачи мысли, и нашей мысли наша воля всегда ставит задачи целостного постижения смысла бытия и жизни. Наша творческая мысль не направлена на разрешение специальных проблем гносеологии и логики; роднее нам и нужнее нам решать проблемы религиозной онтологии, философии истории, этики. Это факт, с которым нельзя не считаться. Хомяков потому и может быть признан основателем русской философии, что он проник в интимнейшие интересы русской мысли, философствовал о том, что мучило русский дух. В России начинают философствовать не с того конца, с которого начинают философствовать в Германии. И это, прежде всего, различие жизненное, а не логическое, это разные мироощущения. Россия не может отказаться от своего особого мироощущения и в нём ищет источника своей философии. Мы начинаем философствовать с жизни и философствуем для жизни; в этом смысле мы прирожденные прагматисты до всякого «прагматизма». Но прагматизм наш не релятивистический и не скептический, так как связан с религиозным опытом, в котором дана абсолютная жизнь.
Даже безрелигиозная, атеистическая русская интеллигенция, исповедовавшая разные формы искажённого позитивизма, бессознательно стремилась к философии цельного духа и лишь по роковому своему отщепенству была враждебна философии славянофильской. Но особенно важно установить связь русской философии с русской литературой. Русский национальный дух нашёл своё совершенное выражение в творчестве великих русских писателей. Наша литература – самая метафизическая и самая религиозная в мире. Достаточно вспомнить одного Достоевского, чтобы почувствовать, какая философия может и должна быть в России. Русская метафизика переводит на философский язык Достоевского. Так же по Рихарду Вагнеру можно разгадать дух философии германской. Русская философия дорожит своей связью с русской литературой. И связь эта, всегда свидетельствующая об органической принадлежности к душе и телу России, не может быть разорвана никакой гносеологией, логикой и методологией. Отвлечённая логика бессильна победить дух жизни, который имеет свою органическую логику. Хомяков допрашивал дух жизни, прежде всего другого допрашивал, и в этом всё его значение. Исходная точка зрения хомяковской философии, которая является исходной точкой зрения и всей русской философии, не требует и не допускает «гносеологического» обоснования в смысле кантовской критической философии. Эта философия изначально не признает примата такой гносеологии, она онтологична в исходном, она начинает с жизни, с бытия, с данности, не даёт воли отщепенскому рассудку и его притязаниям. Гносеологизм есть философия отвлечённого рассудка, онтологизм есть философия цельного разума. Цельный же разум обретает не отвлечённые категории, а конкретные реальности. Поэтому спор критических гносеологов против славянофильской философии представляется им спором логическим, научным, культурным, сторонники же славянофильской философии понимают, что это спор жизненный, волевой, религиозный. Путь славянофильской, русской философии предполагает избрание, Эрос, напряжение всего духовного существа. В этом путь этот родствен лучшим философским традициям Греции, традициям философии Эроса.
Во времена Хомякова творческая мысль стояла перед задачей преодоления Канта и Гегеля. Ныне творческая мысль стоит перед задачей преодоления неокантианства и неогегельянства, богов меньшей величины, но не менее властных. Весь круг германского идеализма вновь проходится в модернизированной форме, с прибавлением «нео-». Хомякову и славянофилам приходилось бороться с идеализмом классическим. Ныне приходится бороться с идеализмом эпигонским. То вооружение, которое выковывалось в борьбе с классическим германским идеализмом, с вершинами западной философии, может пригодиться и для борьбы с идеализмом модернизированным. Новую мысль не может уже удовлетворить философия Хомякова – в ней много архаического, с тех времен слишком многое безмерно усложнилось. Но sub specie aeternitatis есть в философии Хомякова что-то пребывающее и неизменное. Идея философии целостного духа задана нам навеки. И навеки обнаружено саморазложение отвлечённого рассудка, падшего разума. Падший разум должен подняться, восстановить свою утерянную целостность, органичность. Тогда лишь станет возможна философия сущего, а только философия сущего есть существенная философия. Но я указывал уже на то, что в философии Хомякова почти совершенно отсутствует космология и натурфилософия. Философия, верная заветам духа славянофильского, должна прежде всего разрабатывать космологию. Это отчасти сделано Вл. Соловьёвым, но слишком диалектическим методом. Тот факт, что натурфилософский мотив не сделался основным для Хомякова, ещё раз подтверждает, что славянофильская философия не была шеллингианством на русской почве, а была явлением оригинальным и самобытным. Это явление, родственное по духу Фр. Баадеру, но и от него вполне независимое, так как питалось оно не мистикой Якова Бёме, которого Хомяков, по собственному признанию, совсем не знал, а мистикой восточного христианства. Ещё раз подчеркиваю, что философия Хомякова по духу своему – философия церковная и иначе не может быть понята. Эта философия верна истине Церкви, питается мистическим восприятием конкретных реальностей, обладает разумом не отвлечённым, а органическим. Лишь верность основной традиции философии Хомякова и Киреевского, лишь сознание своего отчества приведет к философскому возрождению России. Творческая культура невозможна без традиции, без преемственности, без своеобразия. Лишь национальной своей культурой служит каждый народ культуре мировой, делает в национальной плоти и крови вселенское дело. Это глубоко понимал Хомяков и указывал русскому сознанию путь, на котором оно может послужить делу мирового возрождения. Мы, конечно, всегда должны философски учиться у Запада, любить западную культуру, по примеру Киреевского, но мы должны, наконец, вернуть наш долг западной мысли, которой многим обязаны. Ныне вступаем мы в эпоху, когда русская философия может и должна вывести из тупика философию западную, спасти её от меонизма и иллюзионизма. Теперь переходим к самой развитой части философии Хомякова – к его философии истории.
Глава V. Философия истории Хомякова
В философии Хомякова больше всего места отведено философии истории. Проблемы философии истории особенно занимали славянофильское сознание. Кроме ряда статей, имеющих философско-историческое значение, три тома сочинений Хомякова посвящены его «Запискам о всемирной истории». Философия истории – наиболее разработанная часть философии Хомякова и всего мировоззрения славянофилов. Это объясняется исключительным интересом к проблеме истории как проблеме будущего России. Философия цельной жизни духа и должна была заинтересоваться проблемой смысла истории. В славянофильстве совершался акт национального самосознания, и уже потому судьбы истории, судьбы Востока и Запада должны были вызывать к себе исключительный интерес. Национальное самосознание всегда находит своё философское оформление в построении философии истории. Тот же интерес к философии истории был в Германии в конце XVIII и начале XIX века. Но и тут, в области философии истории, ни Хомяков, ни кто-либо другой из славянофилов не создали системы, не могли её создать и не должны были создать. Для этого их отношение к истории было слишком живое, их созерцание истории было слишком конкретное. «Записки о всемирной истории» – необработанные заметки. Это – записная книжка, дневник мыслителя. Заметки эти так и остались черновиком, они даже в таком виде не предназначались к печати. По ним можно было бы составить настоящую книгу для чтения, но в таком сыром виде записки эти неудобочитаемы, не могут быть названы, в строгом смысле слова, литературным произведением. Читают эти записки лишь специалисты. В бессистемной куче сырого материала разбросаны драгоценные мысли, блестящие интуиции, тонкие критические замечания по самым разнообразным вопросам. Хомяков ведь всегда писал разом обо всём, не дифференцируя материал, не фиксируясь на определённом предмете. У него всегда было очень определённое устремление, излюбленная мысль, которую он высказывал по всем поводам. В одной статье, как я уже указывал, он разом говорит и о Максе Штирнере, и о древнем русском обществе, и о Петре Великом, и о ничтожестве русской науки, и о личности в художестве, и об иконе, и о мирских сходках; по всем этим поводам он высказывает одну излюбленную мысль. Внешняя хаотичность изложения связана у него с огромной внутренней концентрацией мысли. «Записки о всемирной истории» с внешней стороны представляют совершенный хаос, груду сырья, неряшливый черновик. Но внутренно записки объединены одной идеей, всюду последовательно проведенной. Хомяков не любил научных исследований, он всего менее ученый. Он делает иногда фактические промахи. Цитирует он всегда по памяти, которая была у него изумительной, никогда не делает выписок. Все его «Записки о всемирной истории» написаны по памяти, без справок с книгами, и изобилуют фактами. Фактического материала даже слишком много у него для работы по философии истории. Обилие исторических фактов, чисто конкретного материала, делает «Записки» особенно устаревшими для нашего времени, не соответствующими уровню современной исторической науки. Но «Записки о всемирной истории» следует рассматривать не как историю, а как философию истории. Перед судом исторической науки «Записки» Хомякова не выдерживают критики, но они не потеряли своего интереса и значения как опыт своеобразной философии истории. Философия истории никогда не может так устареть, как история, как научное историческое исследование. Может быть, сам Хомяков не проводил достаточно ясно методологической границы между философией истории и исторической наукой, но для нас это не так важно. Его философия истории остаётся памятником нашей национальной мысли. Проблема Востока и Запада – вот центральный интерес всего славянофильского мышления; вокруг этой проблемы создавалась славянофильская философия истории. Проблема Востока и Запада – основная не только для русской философии истории, но и для русской истории, основная задача нашей истории.
Философия истории Хомякова выросла в атмосфере мирового романтического духа начала XIX века. Нельзя отрицать влияния романтического историзма на славянофилов, и этим влиянием нисколько не умаляется оригинальность славянофильства как «романтизма» чисто русского. Для рационализма XVIII века не существовало ничего исторического, органического, иррационального, облечённого в плоть и кровь. Лишь в недрах романтического движения зародился интерес к «историческому». Была поставлена проблема истории, было признано органическое, национальное, иррациональное. Почувствовали ценность традиционного, связанного с народной жизнью. Тогда же зародилась идея развития и идея органического понимания истории. Это романтическое движение, которое, как я говорил уже, было не только «романтическим», но и «реалистическим», носило мировой характер. В недрах этого движения зародилась и философия истории, и настоящая историческая наука. Историческая школа не могла возникнуть до романтической встречи с духом истории, с духом национальным. Хомяков не был романтической натурой, это достаточно выяснено в главе, посвящённой характеристике его личности. Но в его философии истории есть целый ряд романтических мотивов. Есть у него и романтическая идеализация прошлого, и признание важности художественной интуиции для истории, и органическое понимание процесса истории. В самом начале «Записок» Хомяков говорит: «В науке есть уже поэзия, потому что наука сдружилась с истиной».[91 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 6.] А дальше говорит: «Нужна поэзия, чтобы узнать историю; нужно чувство художественной, то есть чисто человеческой истины, чтоб угадать могущество односторонней энергии, одушевлявшей миллионы людей».[92 - Там же. С. 71.] История была для Хомякова развитием живого, конкретного организма. В его отношении к истории было глубокое признание отца и матери, кровной связи прошлого, настоящего и будущего. «Всё настоящее имеет свои корни в старине».[93 - Там же. С. 22.] Рационалистическое отрицание заветов отцов, заветов истории было ему глубоко чуждо и противно. Он признавал неизбежность консервативного элемента в историческом развитии, требовал благородного отношения к отчеству. Всякое отщепенство было невыносимо для него. Мы видели уже его органическую любовь к английскому торизму. Любовь к «историческому», как к отчеству, очень характерна для Хомякова. Он прежде всего хочет быть верен своей земле, своей почве, и, побуждаемый этим чувством верности, он строит свою философию истории. В сущности, Хомяков по научному своему направлению сам принадлежит к исторической школе, хотя с отдельными представителями этой школы он полемизировал. Он признаёт закономерность органического развития в истории. Он хочет быть не только религиозным мыслителем, но и ученым-историком.
Философия истории Хомякова смешивает две точки зрения: религиозно-мистическую и научно-позитивную. Трудно решить, откуда получились основные положения хомяковской философии истории – из источника научного или источника религиозного. Большая часть философско-исторических утверждений Хомякова имеет двоящийся смысл, не то научный, не то религиозный. В этом коренной порок философии истории Хомякова. У него нет сколько-нибудь ясной методологии исторического познания. В основании его философии истории лежат две идеи: во-первых, та идея, что движущим началом исторической жизни народов является вера, во-вторых, идея противоборства двух начал в истории человечества – свободы и необходимости, духовности и вещественности. Обе идеи добыты Хомяковым религиозно-философским, а не научно-философским путем. За исторической наукой Хомякова скрыта идея религиозная: признание веры таинственной первоосновой истории народов и свободного духа как творческого начала истории. Хомяков глубоко презирает предрассудки ученых-историков, их безжизненность, их формализм и схоластику. «Из-под вольного неба, от жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей, книжники гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам существенности и правды».[94 - Там же. С. 42.] Свои «Записки о всемирной истории» Хомяков начинает со слов: «Человек, царь и раб земной природы, признаёт в себе высшую, духовную жизнь. Он сочувствует с миром, стремится к источнику всякого события и всякой правды, возвышается до мысли о божестве и в нём находит венец всего своего существования. Темно ли, ясно ли его понятие, вечной ли истине или мимолетному призраку приносит он своё поклонение, – во всяком случае, вера составляет предел его внутреннему развитию. Из её круга он выйти уже не может, потому что вера есть высшая точка всех его помыслов, тайное условие его желаний и действий, крайняя черта его знаний. В ней его будущность, личная и общественная, в ней окончательный вывод всей полноты его существования, разумного и всемирного».[95 - Там же. С. 8.] Дальше он говорит о том же: «Вера есть совершеннейший плод народного образования, крайний и высший предел его развития. Ложная или истинная, она в себе заключает весь мир помыслов и чувств человеческих».[96 - Там же. С. 168.] Хомяков устанавливает религиозно-философские предпосылки своей философии истории. Но вместе с тем его философия истории претендует на научность, в ней много места занимает этнография и лингвистика, большое значение придаётся моменту расовому. Основной интерес хомяковской философии истории – обоснование славянского и русского мессианизма. И вот мессианизм этот он хочет обосновать научно, этнографически, лингвистически, а не религиозно-пророчески и мистически. Веру и творчество свободного духа он берет как эмпирические факты истории и эмпирически хочет показать великие преимущества славянства и России. Таким образом, наука легко фальсифицируется, создаются фантастические теории об особом значении славянского языка и славянства, англичане признаются славянами и т. п. Славянофильской науки не может быть, и нельзя ставить русский мессианизм в зависимости от такой сомнительной науки. Нельзя обосновать никакого мессианизма на вере как историческом и этнографическом факте, то есть на вере как объекте исторического познания; мессианизм можно обосновывать лишь на вере как факте внутреннего откровения и прозрения, на вере как субъекте познания.
Хомяков ставит пророческую проблему Востока и Запада как основную в русской философии истории и русской истории, но решает её не в духе пророческом. У него нет пророческого истолкования истории и нередко встречается морализирование над историей. В его философии истории этика преобладает над мистикой. В ней есть религиозно-нравственная оценка, но нет религиозно-мистических прозрений. Нет у Хомякова мистических прозрений времен и сроков всемирной истории, нет эсхатологии в его философии истории, нет идеи конца. Нет апокалипсиса в его христианской философии истории; а лишь в апокалипсисе дана пророческая мистика истории. Славянофилы были бытовики, и дух бытовой проникает всю их философию истории. Поэтому нет катастрофичности в хомяковской концепции истории, нет трепета и жути перед таинственными историческими судьбами; много бытового благодушия. Философия истории Хомякова потому уже не может быть названа последовательной и выдержанной в духе религиозно-мистическом, что нет в ней катастрофического конца, нет трагической борьбы духа Христова с духом Антихристовым. Силы духа Антихристова в истории Хомяков не чувствовал: слишком уютно жилось ему в русском быте, в помещичьей усадьбе, в семье. И вся история представлялась ему окрашенной в этот бытовой, семейственный, усадебный цвет, всего же более история русская, история славянская. Философия русской истории Хомякова и славянофилов немало в себе заключает благодушия и благополучия. И Хомяков выводит русский мессианизм из русской истории как бытового факта, как эмпирии. И нет в этом мессианизме задачи, вверенной человеческой свободе, и нет трагизма, с свободой связанного. Мистика истории, мессианские пророчества стоят у Хомякова в слишком большой зависимости от науки, от лингвистики, этнографии и т. п., от эмпирического быта. Но мистика так же не может зависеть от науки, как наука не должна зависеть от мистики. Всё-таки Хомяков пишет свои записки о всемирной истории так, как будто история не подвергается непрерывному воздействию Промысла Божьего, не есть осуществление пророчеств, и нет в ней трагического столкновения творческой свободы с судьбинами Божьими. Для мистика история есть откровение. Морализирование же над историей заключает в себе опасность уклона к деизму. Борьба свободы с необходимостью, духа с вещественностью, которую Хомяков повсюду видит в истории, может совершаться в пределах тварности и не вести к столкновению с Божьим Промыслом. Остаётся неясным, был ли для Хомякова исторический процесс откровением и осуществлением пророчеств? Неясно из его философии истории, какую роль в историческом процессе играет Церковь как онтологическая реальность. В истории он как бы не чувствует жизни мировой души. Для него как бы существует лишь откровение в индивидуальных душах, а не в душе мира. Нет для него великой тайны соотношения мужественного и женственного в истории (не в человеке, а в человечестве).
Философия истории Чаадаева была более последовательно религиозной, чем философия истории Хомякова; у Чаадаева меньше было притязаний на научное обоснование религиозного смысла истории. В католичестве была традиционная философия истории, было учение о провиденциальном плане истории, о действии промысла Божьего в истории. Философия истории есть у Бл. Августина, у Боссюэ, у французской теократической школы начала XIX века. Православной философии истории не существовало. Католический уклон Чаадаева помог ему утверждать религиозную философию истории. Исключительная же православность Хомякова затрудняла создание религиозной философии истории. В православии не было того активного отношения к истории, которое было в католичестве. Поэтому или совсем не может быть православной философии истории или может быть апокалиптическая философия истории, с резкой постановкой проблемы эсхатологической. Католическая же философия истории существует и вне апокалиптических перспектив. Но мы видели, что апокалипсиса у Хомякова нет, что эсхатологическая проблема им не поставлена. Поэтому его философия истории не может быть точно названа православной и религиозной, в ней есть религиозно-нравственные предпосылки, но нет провиденциального плана истории. У Чаадаева есть провиденциальный план истории, и его философия истории может быть названа религиозной, но в духе католическом. Философско-историческую проблему Востока и Запада Хомяков решает на риск собственного разума, а не разума церковного, и в его решении религиозный момент незаметно смешивается с научным и позитивно-бытовым. У Вл. Соловьёва философия истории определяется более религиозно и мистично, чем у Хомякова, и это объясняется пророческим духом Соловьёва. В его «Истории и будущности христианской теократии» есть гениальные мистические прозрения, есть удивительное понимание пророчеств. Вл. Соловьёв признавал мистический субъект истории – мировую душу и проникал в тайну её всемирно-исторической судьбы. Он стоит на грани новой мировой эпохи, когда апокалиптическое сознание зарождалось в России. Для Хомякова не существует ни мировой души, ни апокалиптического сознания, в этом его границы, его замкнутость. Слабые стороны хомяковской философии истории дальше развивали такие эпигоны славянофильства, как, например, Данилевский. Философия истории Данилевского совсем уже не религиозная и не мистическая, это quasi-научная и quasi-позитивная философия истории. «Славянофильская наука» вырождается в какой-то недопустимый натурализм. Данилевский откровенно-натуралистически обосновывает великое призвание России, славянофильство его оправдывается не религиозно, а естественнонаучно, этнографически, лингвистически, учением о расах и типах развития. Это натуралистическое славянофильство есть и у Константина Леонтьева, в котором ложный натурализм сочетается с мистицизмом и с религиозным ужасом. В славянофильской философии истории допущены были элементы языческого натурализма, и они-то и привели к вырождению и одичанию национализма совсем уж не религиозного. У Хомякова натурализм сочетался с морализмом, потом натурализм освободился от всякой морали; но оба момента препятствовали созданию религиозной философии истории. Все эти недостатки не мешают нам признать философию истории Хомякова опытом замечательным, местами почти гениальным.
Самая замечательная, наиболее приближающаяся к гениальности идея Хомякова, положенная в основу его «Записок о всемирной истории», – это его деление действующих в истории сил на кушитство и иранство. Из стихии кушитства выходит религия необходимости, власти естества, магизма. Из стихии иранства выходит религия свободы, творящего духа. Во всех почти языческих религиях видит Хомяков торжествующую стихию кушитства. Дух иранский всего более выражен в религии еврейской. Христианство же есть окончательное торжество иранства, религии свободы, религии творческого духа, победившего все религии необходимости, – религии магии естества. «Первый и главный предмет, на который должно обратиться внимание исторического критика, есть народная вера… Мера просвещения, характер просвещения и источники его определяются мерою, характером и источником веры. В мифах её живет предание о стародавних движениях племен, в легендах – самая картина их нравственного и общественного быта, в таинствах – полный мир их умственного развития. Вера первобытных народов определяла их историческую судьбу; история обратилась в религиозный миф и только в нём сохранилась для нас. Таково общее правило, от которого должны отправляться все исследователи древности».[97 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 131.] Что мифология и есть древняя история, что история религии и есть содержание первобытной истории, – эту мысль Хомяков разделяет с Шеллингом.[98 - См.: Schelling’s Werke. Dritter Band, 1907. С. 588.] Поэтому философия первобытной религии и есть для Хомякова начало философии истории. Взгляды Хомякова на языческую мифологию очень устарели, но основное его деление на кушитство и иранство заключает в себе мысль религиозно-философского характера и потому возвышается над развитием исторической науки о религии. Отпадение привело к утере свободы, подчинению необходимости, к овеществлению. Иранство основано на предании о свободе, кушитство – на торжестве необходимости. В иранской религии дано знание о свободе, в кушитстве – знание о необходимости. «Все древние веры делятся на два разряда: на поклонение духу как творящей свободе и на поклонение жизни как вечно необходимому факту. Наружным признаком их нашли мы обоготворение змеи или ненависть к ней».[99 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 324.] «Сравнение вер и просвещения, которое зависит единственно от веры и в ней заключается, приводит нас к двум коренным началам: к иранскому, то есть духовному поклонению свободно творящему духу, или к первобытному высокому единобожию, и к кушитскому – признанию вечной органической необходимости, производящей в силу логических неизбежных законов. Кушитство распадается на два раздела: на шиваизм – поклонение царствующему веществу, и буддизм – поклонение рабствующему духу, находящему свою свободу только в самоуничтожении. Эти два начала, иранское и кушитское, в своих беспрестанных столкновениях и смешениях, произвели то бесконечное разнообразие религий, которое бесчестило род человеческий до христианства, и особенно художественное и сказочное человекообразие. Но, несмотря ни на какое смешение, коренная основа веры выражается общим характером просвещения, то есть образованностью словесной, письменностью гласовою, простотою общинного быта, духовною молитвою и презрением к телу, выраженным через сожжение или предание трупа на снедь животным в иранстве, и образованностью художественною, письменностью символическою, условным строением государства, заклинательною молитвою и почтением к телу, выраженным или бальзамировкой, или съедением мертвых, или другими подобными обрядами, в кушитстве».[100 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 530-531.] У гностиков Хомяков видит торжество кушитского начала, для которого характерен символ змеи. «Вражда между началом еврейским и кушитским выражалась во всем развитии жизни израильской. И после падения самого Израиля, много времени после падения Египта, она выразилась ещё живее в учении гностиков и именно гностиков-офитов, прямых и бесспорных наследников египетской и финикийской мысли. Хотя они уже стыдились прежних грубых понятий, хотя они отчасти отвергли двойственность органическую, слишком нагло оскорбляющую чувство человеческое, но прежний владыка народа израильского (Саваоф) всё-таки представляется им как начало злое, и злое именно потому, что оно творящее-свободное, и потому, что оно призывает своё творение к свободной духовной жизни. Оттого-то для них змей, призвавший людей к жизни вещественной, к покорности законам мира необходимости, змей есть посланник высшего, доброго начала. Гнозис есть знание, но не знание свободы, а знание необходимости. Происхождение его из египетско-финикийской системы доказывать не нужно: оно ясно и неоспоримо; но в нём особенно замечателен символ змеи. Во всех религиях чисто иранских змея представляет зло, в кушитских – добро».[101 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 219.] Иранство ведет к теизму, утверждает свободное творчество Личного Духа, кушитство ведет к пантеизму и к учению об эманации. Иранство выразило себя в слове, это религия слова; кушитство выразило себя в зодчестве, в памятниках вещественных, это религия бессловесная. «Ключ развития кушитского, коренное направление его – чисто вещественное, воздвигнувшее столько гигантских памятников в зодчестве и ваянии и не завещавшее нам ни одного слова, вдохновенного поэзиею и проникнутого животворною мыслью. Буддизм достигает высокой духовности, но только в смысле отвлечённости от вещества. В этой духовности нет самобытного и живого двигателя; она есть не что иное, как отрицание, возведенное до религиозного значения… Учение буддистов было и есть служение небытию… Оно скрыло грубую вещественность, из которой оно родилось, и заменило призраком эманации ясную форму рождения… Тип первоначальный сохранился упорно и неизгладимо. Буддизм точно так же подчинен необходимости, точно так же лишен нравственного двигателя, как и шиваизм; но то, что являлось в веществе под призраком жизни, обличило свою безжизненность, когда перешло в область духа творческого и не приняло в себя начала свободно творящего».[102 - Там же. С. 224.] Торжество кушитского начала необходимости и вещественности Хомяков прослеживает и на дальнейшей судьбе философии. «Те самые явления, которые встретились нам при изучении кушитского вещественного служения, должны повториться и действительно повторяются во всех философиях, исторически и логически возникших из материализма или из воззрения на неизменную последовательность видимой природы или познающего ума, который есть не что иное, как зеркало познаваемого мира. Тайное учение о необходимости проглядывало и пребывало во всех изменениях философической формы, будь она скепсисом или догмою, анализом или синтезом. Система опровергаемая возникла снова в системе опровергающей, по закону прямого антагонизма; и после бесконечных толков о сущности, бытии, знаемом, знающем и знании все усилия самого смелого разума могли дойти только до вывода отрицательного, до самоуничтожения необходимости в сознании. Но так как отрицание не удовлетворяло всем требованиям ума, свобода отрицательная объявила мнимые права на достоинство воли и назвала себя свободным сознанием необходимости – бедная логическая увертка, выведенная упорным трудом германского мышления из логических, то есть необходимых, законов вещественно-умственного мира. Правая или неправая, эта философия получила своё полное и законное развитие; но самолюбивое умствование нашего времени не должно пренебрегать глубоким смыслом обрядности веков доисторических. Кушитство, в своем отвлечённом направлении, должно было уже издревле переходить в совершенную безличность, в пантеизм».[103 - Там же. С. 225.] Одно и то же кушитское начало Хомяков видит и в финикийской религии, и в буддизме, и в материализме, и в Гегеле. «Иран основал своё верование на предании о свободе или на внутреннем сознании её. Кушитов мы должны угадывать; иранцы сами себя высказывают. Первое место между их показаниями по древности, определённости и простоте занимают писания народа израильского; второе, бесспорно, принадлежит брахманизму, несмотря на бессмысленную примесь других религий; наконец, третье, ясно выраженное понятие о свободе нравственной, заключается в книгах, приписанных Зердушту. Области же, в которых оно утратилось в бесхарактерном синкретизме, Вавилон, Ассирия, Финикия и Эллада, доставляют критике только немногие намеки на первоначальные верования, но не содержат в себе ничего истинно органического. Шиваизм стихийный был изображен дуализмом производящим, символом грубой необходимости; буддизм созерцательный принял форму эманации непроизвольной, следственно, необходимой. Ясно и решительно отправляясь от начала, совершенно чуждого системе кушитской, иранская религия возводит все видимое и частно живущее к вечно сущему духу, давая ему разные названия, смотря по местности, характеру языка и направлению младенческой мысли человека. Бог, в значении Творца, есть основная характеристическая черта иранства. Свобода положена началом, благонравственное – высокою целью всякого дробного бытия».[104 - Там же. С. 230.] Фактически в истории языческих религий произошло синкретическое смешение иранства, хранившего божественное предание о свободе и творчестве личного духа, с кушитством, подчинившимся необходимости и веществу. На почве этого смешения и была создана система эманации, в которой искажена была идея божественного творчества. «Свободная сила духа не терпит никаких ограничений, она не может разделить область мировую с другим началом, она просит власти, а не свободы. Мир чужд ей, и она чужда миру, если мир имеет в себе какую-нибудь самостоятельность, какой-нибудь зародыш независимости и не признан за проявление свободного проявляющегося духа. Малейший угол мира, не зависимый от духа, достаточен для необходимости. Как скоро её права сохранены, как скоро в ней признана какая-нибудь самобытность, с неё довольно: от этой легкой примеси воля духовная обратится в бессмысленный произвол и утомится в бесплодной борьбе против непокорного вещества. Необходимость есть факт и не что иное, как факт. Независимость факта есть торжество необходимости. Дух борется и страдает; факт живет без смысла, без сознания, без страданий».[105 - Там же. С. 322.] «Во времена исторические иранское учение принадлежит уже одним евреям».[106 - Там же. С. 323.] «Ирану свято было всё, даже вещественное, в чем проявлялся дух свободный и творящий; свят был звук слова, облекающего мысль, и свято было письмо, условный образ, данный этому звуку. Кушу свято было вещество грубое, стихийное и бессмысленное, свято было художество, естественный образ его бытия, и гиероглиф, полуестественный образ его действия».[107 - Там же. С. 368.] Иранство создало мировую литературу, поэзию, священные письмена, слово. В иранстве есть Логос. Кушитство создало громадные вещественные памятники, архитектуру и скульптуру. В кушитстве нет Логоса. Это коренная мысль Хомякова.
Взгляды Хомякова на античность, на греческую религию очень устарели. После Ницше, Роде, Вяч. Иванова нельзя так говорить о Греции, как говорит Хомяков. Только теперь открылась в Греции, в язычестве, мировая душа и совершавшаяся в ней трагедия, уготовлявшая пришествие Христа. Хомяков недооценивал великое значение язычества для христианства. Язычество дало основу Церкви – землю, душу мира. В язычестве, всего более в Греции, раскрывалась мировая душа для восприятия Логоса. В еврействе, в Ветхом Завете, было лишь откровение Бога. Этого откровения мировой души в язычестве Хомяков не чувствует, не знает он, что в душе Греции трепетала душа мира и шла ко Христу: Хомяков слабо чувствовал вечно женственную основу Церкви, матерь-землю, Матерь Божью. Традиционно-богословское, семинарское отношение к язычеству отравляет и по сию пору христианский мир, закрывает великие тайны, и оно должно быть преодолено в интересах церковного возрождения. Хомяков был свободен от семинарского богословия. Но у него не было прозрения правды язычества, он не чувствовал мистической Греции и потому сбивался на взгляд традиционно-богословский. А ведь не только история Греции, но и вся мировая история должна быть пересмотрена, в ней должен быть по-новому раскрыт религиозный смысл, религиозный, а не богословский. Вот что говорит Хомяков о Греции и Риме: «Если Рим когда-нибудь выказал хоть темное предчувствие богопознания, если творческая мысль эллинов угадала бытие Верховного Духа или отражение его в душе человеческой, то в этих поздних явлениях можно видеть только влияние Востока иранского или пробуждение собственного сознания просвещённого философа. Никогда ни в Элладе, ни в Риме философское умозрение не возвышалось до религии. Оно всегда оставалось на низшей ступени логического вывода, или инстинктивной догадки, или школьного тезиса, чуждого жизни и неспособного к проявлению наружному. Мы видели, что таинства элевсинские и другие могли содержать в себе слабые отзывы живого богопознания иранского; мы можем смело сказать, что кушитское поклонение стихийной неволе сохранилось в таинствах Диониса».[108 - Там же. С. 331.] Мистическая Греция не была ещё открыта во времена Хомякова и не была дана ему в личных прозрениях. Религиозное сознание Хомякова не было обращено к женственной стихии как вечному и самостоятельному началу, без которого нет Церкви и не было бы явления Христа в мир. «Иранство» Хомякова и есть начало исключительно мужественное, а «кушитство» – начало женственное. Исключительное утверждение иранского духа и есть исключительное утверждение религии мужественной, религии солнечной. Но ведь христианство есть религия мужественно-женственная, религия соединения двух начал, соединения Логоса с Мировой Душой, Светоносного Мужа с Женственной Землей. Кушитская стихия была источником рабства и хаоса, но в ней жила женственность, способная к просветлению. В этом принижении женственности как стихийной, земляной основы христианской Церкви – главный недостаток всего учения Хомякова об иранстве и кушитстве. Торжество правды представлялось Хомякову исключительным торжеством иранской мужественности. «Дух восторжествовал над веществом, и племя иранское овладело миром. Прошли века, и его власть не слабеет, и в его руках судьба человечества. Потомки пожинают плод заслуг своих предков, заслуг, высказанных и засвидетельствованных неизменностью слова. Величие Ирана не дело случая и условных обстоятельств. Оно есть необходимое и прямое проявление духовных сил, живших в нём искони, и награда за то, что из всех семей человеческих он долее всех сохранял чувство человеческого достоинства и человеческого братства, чувство, к несчастью, утраченное иранцами в упоении их побед и вызванное снова, но уже не собственною силою их разума».[109 - Там же. С. 528-529.] Хомякову чужда была мистика мировой души, и нет её в его концепции мировой истории. Недостаточно он сознавал, что в христианстве хранится тайна богоматериализма. Иранство было исключительным «духопоклонением», христианство же есть также освящение плоти, преображение земли. У Хомякова был ещё тот традиционно-богословский взгляд, по которому откровение было дано лишь Израилю, у других же народов иранства хранится лишь память о первоначальной судьбе человека, рассказанной в Библии. Взгляд этот не выдерживает научной критики и носит на себе печать религиозной ограниченности. Характерны слова Хомякова: «Высокое значение творческого духа проявляется во многих, особенно в богах, почти никогда в богинях, в которых (так как они совершенно чужды Ирану) кушитское начало преобладает».[110 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VI. С. 40.] Вот уж кого вечно женственное не притягивало, так это Хомякова.
Деление на иранство и кушитство лежит в основе хомяковской философии истории. С этим делением связано и решение основной проблемы философии истории, проблемы Востока и Запада. С первых же слов своей философии истории, когда Хомяков говорит об иранских и кушитских религиях, он подготовляет почву для обоснования миссии православного Востока, славянства и России. На Западе, в европейской культуре, в католичестве, очевидно, должно восторжествовать кушитство и исказить христианство. Там – дурной магизм, власть вещественной необходимости, господство логически-рационалистического начала в сознании. В католичество перешёл кушитский дух Древнего Рима. На Востоке, в православии, в русской культуре должно торжествовать иранство, чистое христианство, цельность духа и свободное его творчество. Лишь православная Россия хранит, по Хомякову, предание о свободе духа, в ней наиболее чисто выразился дух иранства. Поэтому православная Россия придаёт так мало значения всему внешнему, вещественному, формальному, юридическому; для неё главное – дух жизни. Борьба христианского Востока и христианского Запада и есть борьба иранской и кушитской стихии внутри христианского мира, борьба духовной свободы и вещественной необходимости, нравственного и магического. О Риме Хомяков говорит: «Из необходимости возникали и крепли личная свобода, законность и одностороннее напряжение ума, которое обращало каждого римлянина в законодателя и законоведца, убивая в то же время в душе его все стремления свободы духовной, все высокие желанья мысли и всю существенность внутренней жизни. Такое развитие личной свободы и семейственности, хотя уже искажённой, чувства внешней правды и обоготворение самого государства, которого польза была высшим из всех законов, дало Риму силу необоримую, неутомимое постоянство, гордое сознание своего превосходства перед всеми другими, менее стройными обществами и несомненную победу во всех борьбах с иными племенами и державами. Но односторонность развития чисто внешнего готовила Риму гибель в самом его торжестве, отняв все духовные основы нравственности, заменив все начала естественные началами условными и произвольными и уничтожив возможность жизни религиозной и мирной».[111 - Там же. С. 359.] «Рим дал западному миру новую религию, религию общественного договора, возведенного в степень безусловной святыни, не требующей никакого утверждения извне, религию права, и перед этой новой святыней, лишенною всяких высоких требований, но обеспечивающей вещественный быт во всех его развитиях, смирился мир, утративший всякую другую, благороднейшую или лучшую веру».[112 - Там же. С. 402.] Тот же дух Древнего Рима Хомяков чувствует в римском католичестве и с ним связанной европейской культуре. Дух Рима есть прежде всего дух государственный, дух вещественной необходимости, это – дух кушитский. «Соединение людей в искусственную форму государства, форму чисто внешнюю, это соединение было чуждо иранскому духу. Оно было принято как необходимость внешняя, как средство отпора против совокупности сил кушитских».[113 - Там же. С. 36.] Так подготовляет Хомяков обоснование безгосударственного характера славян и русских – носителей стихии иранской.
Нелюбовь к Риму – движущий мотив всей философии истории Хомякова. Византии он отдаёт явное предпочтение, хотя и к Византии относится критически. Подлинный дух иранский он видит лишь в славянстве, лишь в русском народе. «В победе над религиею, государственною и внешнею, оно (христианство) приняло характер религии побежденной, характер внешний и государственный. Оно требовало не любви, а покорности, не веры, а обряда. Единство истинное, живое, единство духа, высказывающееся в единстве видимых форм, заменилось единством вещественной нормы, а понятие об этой норме перешло мало-помалу в понятие о власти, ставящей норму, в понятие о касте, заведующей духовным делом, о духовенстве, признанном за церковь по преимуществу и, наконец, об одном епископе, епископе Древнего Рима, выражающем и полное единство учения, и полное единство духовной власти, и её безусловную непогрешительность. Идея права лежала в основе римской жизни, и римская жизнь, передающая новое начало просвещения германским завоевателям, передала им идею строго логического права, не только в быте государственном, условном и, следовательно, невозможном без подчинения праву логическому, но и в жизни духовной и религиозной. Кушитское начало логической необходимости проникло в учение, завещанное иранскою Иудеею, и придало отношениям человека к Богу значение вечной тяжбы, молитве и таинству – смысл заклинания, любящей вере – характер принудительного закона».[114 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VII. С. 43.] «Для римлянина, создавшего самое могучее из всех государств и науку права, доведенную до возможнейшего совершенства логической последовательности, вера была законом, а Церковь – явлением земным, общественным и государственным, подчиненным высшей воле невидимого мира и главы его Христа, но в то же время требующим единства условного и видимых символов этого правительственного единства. Символ единства и постоянное выражение его законной власти должен был находиться в римском епископе как пастыре всемирной столицы».[115 - Там же. С. 197.] «Древний Рим налагал свою печать на новое христианство Запада. Гордость прежней власти и прежнего утраченного величия была наследством, от которого не могли отказаться ни римляне позднейшей эпохи, ни их духовные пастыри».[116 - Там же. С. 198.] «Императорство было, очевидно, неспособно обнять все приложение древнеримской идеи правомерного государства к новой христианской эпохе: оно не содержало в себе начала самоосвящения, которого требовала мысль христианская; ибо Запад не понимал ещё невозможности совмещения понятий христианских и понятий о государстве, то есть воплощения христианства в государственную форму (курсив мой. – Н. Б.)».[117 - Там же. С. 424.] «Христианство было продолжением и конечным заключением предания о свободно-творящем духе и свободе духовной. Его торжество нанесло, по-видимому, решительный удар кушитским религиям – поклонению органической необходимости, в какой бы форме она ни являлась, и всем религиям, основанным на условном умствовании или условной символизации. Но трудно было сохранить неприкосновенной его первоначальную строгость и чистоту в волнениях жизни государственной, утвержденной на условиях вольных или невольных, и в движениях мысли, черпающей материалы своих познаний из наук, выработанных миром, вполне принадлежащим системе кушитской. Западные народы, поняв самую Церковь как государство веры, ввели прежние начала в самые недра учения, которое приняли от первых проповедников христианства. Цельность свободного духа была разбита рационализмом, но рационализмом, скрытым под формою юридическою… Христиане являлись как подданные, покорные решениям этой власти. Представители церкви отделились, естественно, от её подданных и должны были получить название, соответствующее своему новому значению – церковников, в отличие от народа».[118 - Там же. С. 448.] Католическая церковь была для Хомякова imperium romanum, созданием духа кушитского. Он не видел в римской церкви свободы и любви. И всё западное христианство представлялось ему не подлинным, поддельным. Он отрицал, что в основе западноевропейской культуры лежит христианство, видел лишь язычество, кушитское и римское. В этом коренная ошибка всей хомяковской философии истории.
Отношение Хомякова к Византии запутанное. Он понимал, что «жизнь политическая Византии не соответствовала величию её духовной жизни».[119 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VI. С. 50.] Он видел коренной дуализм Византии, которая хранила догматическую правду христианства и не осуществляла общественной правды христианства. В Византии «признавалась просветительная сила христианства, но не сознавалась его строительная сила». По мнению Хомякова, Византия от Рима получила преклонение перед государством, абсолютизм государства. И остаётся непонятным, почему для него Византия лучше Рима. Христианский Рим никогда не доходил до такого холопства перед государственной властью, до какого дошла Византия. Хомяков прекрасно понимал, что православие русское очень отличается от православия византийского. Для славянства государственность никогда не была таким идолом, как для Византии. И всё же Хомяков восхваляет Византию в ущерб Риму. Справедливо он видит в восточном православии дух соборности и противополагает его духу абсолютизма в римском католичестве. На Востоке соборы были выражением общего мнения церковного народа. Но Византия тут ни при чем. Дух Византии – дух государственного абсолютизма. В Византии произошло какое-то роковое омертвение христианства, динамика остановилась, дух жизни угас и остались лишь иконы, лишь темные лики, лишь статика. Второй Рим должен был пасть, он бессилен был выполнить своё христианское призвание. У Хомякова было слишком мягкое отношение к иконоборчеству, он боялся, что иконопочитание может перейти в идолопоклонство – уклон, характерный для византийского духа. Но недостаточно он сознавал, что дух иконоборческий заключает уже в себе рационалистическую отвлечённость.
Хомяков не любил романских народов и романской культуры, и эта нелюбовь искажала его философию истории. Не чувствовал он пластической красоты романского и латинского духа. Не понимал он того, насколько кровь романских народов глубоко христианская. Хомяков любил Англию, верил в Англию, ждал от неё великого будущего. Англия – его слабость и прихоть. Протестантскую культуру англосаксонцев и германцев он ставит выше католической культуры романских народов. Мы видели уже, что протестантизм он предпочитал католичеству, протестантизм считал неизбежной карой за грехи католичества. Хомяков не замечал, насколько пангерманизм глубоко враждебен панславизму, не чувствовал он всемирно-исторического германского движения в направлении германизации славян. Англия и Германия по крови своей всегда были недостаточно христианскими, и потому в странах этих разыгралась трагедия протестантизма. Германский дух, создавший великую культуру, – всё же недостаточно христианский дух по кровно-расовым своим предрасположениям. Это видно по пантеистической мистике Экхарта, характерной для всего направления германской культуры. Это ясно видно и на национальном гении Германии XIX века, Рихарде Вагнере, который хотел обратиться в христианство, но остался скорее буддистом, скорее верным духу Индии, чем христианином.
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!
Или известное стихотворение «России». Но Хомяков неизменно верил в мощь России, в её непобедимость. Дальнейшая судьба России не оправдала веры Хомякова. Он оказался плохим пророком, не предвидел тех поражений, которые России пришлось пережить.
Отсутствие духа пророческого, сознания апокалиптического, предчувствий эсхатологических связано с основным самочувствием Хомякова и всех славянофилов. Христиане града своего не имеют, Града Грядущего взыскуют. Хомяков, и вместе с ним все славянофилы, говорили: мы град свой имеем, мы с градом своим органически срослись, и никакими силами не оторвать нас от него. Град этот – Древняя Русь, наша земля, наша родина, она Град Христов, святая Русь. Град славянофилов – святая Русь и уют помещичьих усадьб, и хлебные поля, и семья, и патриархальность отношений. Но град этот – наполовину языческий, это не Град Христов, не тот Град, которого христиане взыскуют. Града Христова никогда и нигде ещё не было в истории, Град Христов впереди, в конце. Славянофилы смешали национально-родовой быт, русский языческий град с Градом Христовым, с Градом Грядущим. Они видели в Руси почти что наступление тысячелетнего царства Христова, почти что хилиазм. И закрылась для них завеса будущего. Религиозное сознание Хомякова совсем не было аскетическим, он утверждал плоть истории, любил эту плоть, но был хилиастически обращён назад, а не вперёд. Нужны землетрясения, чтоб зародилось апокалиптическое сознание. И мы живем теперь в эпоху землетрясений. Но Хомяков не знал ещё землетрясений, не предчувствовал их, почва под ним не была ещё поколеблена.
Да избавит нас Бог от неблагородного отношения к отчеству, к предкам нашим. Как бы ни было велико наше отличие от Хомякова, он всё же принадлежит к отцам нашим, может быть, к дедам. Мы получили от него наследство и должны дорожить им. Нам нет возврата к славянофильской уютности, к быту помещичьих усадьб. Усадьбы наши проданы, мы оторвались от бытовых связей с землей. Но мы живо чувствуем красоту этих усадьб и благородство иных чувств, с ними связанных. Славянофилы были русскими барами, со многими недостатками этого типа. Но с этим барством связаны и рыцарские чувства, верность заветам предков, верность святыне Церкви. В Хомякове был камень веры, и этим он нам дорог. Наше поколение нуждается в его твёрдости и верности. Религиозный опыт и религиозное сознание Хомякова были замкнуты, были пределы, которых он не переходил, многого он не видел и не предчувствовал, но верность святыне была у него непоколебимая. Христианство было для него прежде всего священство, но отношение его к священству было бесконечно свободным, в нём не было ничего рабьего. И всё пророческое, переходящее за пределы хомяковского сознания, должно быть по-хомяковски верно священству и святыне. Наше поколение отличается от поколения славянофилов прежде всего культом творчества, творческими порывами. Творческие порывы могут быть и безбожны, но самый путь религиозного творчества есть единственный путь для нового человечества. Как ни прекрасен, как ни величествен тип Хомякова, в дальнейшем своем охранении он вырождается до неузнаваемости. Те, которые ныне считают себя такими, каким был Хомяков, те на Хомякова не похожи. Для всего есть времена и сроки, всё хорошо в своё время. Второго Хомякова уже не будет никогда. Не повторится уже никогда красота старых дворянских усадьб, но в красоте этой, как и во всякой красоте, есть вечное, неумирающее. Ныне быт этих дворянских усадьб превращается в новое уродство, и лишь эстетически помним мы о былой красоте. И наша верность Хомякову, как отчеству, должна быть источником творческого развития, а не застоя. Плох тот сын, который не приумножает богатств отца, не идёт дальше отца. Возврат к славянофильству, к его правде, не может быть для нас успокоением; в возврате этом есть творческая тревога и динамика. Но вернуться к образу Хомякова нам необходимо было.
Глава III. Хомяков как богослов. Учение о Церкви
Хомяков – прежде всего замечательный богослов, первый свободный русский богослов. В восточно-православном богословии ему принадлежит одно из первых мест после старых учителей Церкви. Ю. Самарин, верный его ученик, говорит в своем предисловии к богословским сочинениям Хомякова: «В былые времена тех, кто сослужил православному миру такую службу, какую сослужил ему Хомяков, кому давалось логическим уяснением той или другой стороны церковного учения одержать для Церкви над тем или иным заблуждением решительную победу, тех называли учителями Церкви».[31 - См.: Самарин Ю. Предисловие к 1-му изданию богословских сочинений Хомякова. Во II томе сочинений Хомякова или в Собрании сочинений Ю. Самарина. Т. VI.] В чем видит Самарин источник силы хомяковского богословия? «Хомяков представлял собой оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании». «Хомяков жил в церкви», «Хомяков не только дорожил верою, но он вместе с тем питал несомненную уверенность в её прочности. Оттого он ничего не боялся за неё, а оттого, что не боялся, он всегда и на всё смотрел во все глаза, никогда ни перед чем не жмурил их, ни от чего не отмахивался и не кривил душой перед своим сознанием. Вполне свободный, то есть вполне правдивый в своем убеждении, он требовал той же свободы, того же права быть правдивым и для других». «Он дорожил верою как истиной, а не как удовлетворением для себя, помимо и независимо от её истинности». Выраставшее из этого у Хомякова чувство Церкви и учение о Церкви Самарин выразил так: «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь – стало быть, я не верую. Церковь предлагает только веру, вызывает в душе человека только веру и меньшим не довольствуется; иными словами, она принимает в своё лоно только свободных. Кто приносит ей рабское признание, не веря в неё, тот не в Церкви и не от Церкви». «Церковь не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм, организм истины и любви, или точнее: истина и любовь как организм». По мнению Самарина: «Хомяков первый взглянул на латинство и протестантство из Церкви, следовательно, сверху; поэтому он и мог определить их». Отзывы Ю. Самарина, может быть, слишком восторженны, но в них есть много правды. Великое значение Хомякова в том, что он был свободный православный, свободно чувствовал себя в Церкви, свободно защищал Церковь. В нём нет никакой схоластики, нет сословно-корыстного отношения к Церкви. В его богословствовании нет и следов духа семинарского. Ничего официального, казенного нет в хомяковском богословии. Точно струя свежего воздуха вошла вместе с ним в православную религиозную мысль. Хомяков был первым светским религиозным мыслителем в православии, он открыл путь свободной религиозной философии, путь, засоренный школьно-схоластическим богословием. Он первый преодолел школьно-схоластическое богословие. Он показал на своем примере, что дар учительства не есть исключительная принадлежность духовной иерархии, что он принадлежит каждому члену Церкви. О митрополите Макарии, авторе известного «Догматического богословия», которое и до сих пор ещё не потеряло семинарского кредита, Хомяков выразился так: «Макарии провонял схоластикой… Я бы мог его назвать восхитительно-глупым, если бы он писал не о таком великом и важном предмете… Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия, хотя бы даже в современном его состоянии».[32 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VIII. С. 189.] Русское школьное богословие, схоластическое по духу, в сущности не было в настоящем смысле этого слова православным, не выражало религиозного опыта православного Востока как особого пути, не было опытным, живым. Это богословие рабски следовало заграничным образцам и уклонялось то к католичеству, то к протестантизму. Лишь Хомяков был первым русским православным богословом, самостоятельно мыслившим, самостоятельно относившимся к мысли западной. В богословии Хомякова выразился религиозный опыт русского народа, живой опыт православного Востока, а не школьный формализм, всегда мертвенный. Хомяков был более православен в богословии, чем многие наши архиереи и профессора духовных академий, был более русский. Догматика митрополита Макария представлялась ему переводом католической схоластики. Он зачинатель русского богословия.
Судьба богословских произведений Хомякова очень знаменательна. Замечательнейший русский богослов не мог печатать своих богословских произведений в России на родном языке; духовная цензура не разрешала их печатать. И богословские работы Хомякова появились за границей на французском языке. Такой чудовищный факт возможен лишь в России. Богословская деятельность Хомякова, его боевая защита православной Церкви казалась неблагонадежной, подозрительной. Не могли понять его свободы. Хомяков писал Ивану Аксакову: «Я позволяю себе не соглашаться во многих случаях с так называемым мнением Церкви».[33 - Там же. С. 356.] «Так называемое мнение Церкви» казалось ему нецерковным, он видел в нём лишь частное богословское мнение тех или иных иерархов. Официальные церковники не могли вынести такого свободолюбия. Профессора духовных академий, официальные и профессиональные богословы очень недоброжелательно отнеслись к хомяковскому богословствованию, увидели в этом вторжение в область ими исключительно монополизированную. Как посмел частный человек, офицер и помещик, частный литератор учительствовать о Церкви! Пусть идеи его были самые православные, но само предприятие дерзко. И всё-таки Хомяков начал новую эру в истории русского богословского сознания и в конце концов оказал влияние и на официальное богословие. Но это просачивание хомяковских идей совершалось медленно. Не спас Хомякова от официальной вражды и отзыв Николая I о его богословских трудах. В. Д. Олсуфьев пишет Хомякову по поручению императрицы Марии Александровны: «Государыня императрица, узнав, что написано продолжение сочинения вашего „Quelques mots etc.“, желает прочитать оное… Ей угодно было приказать сообщить вам, что покойный государь император с удовольствием читал вышеописанное сочинение и остался им доволен».[34 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. II. С. 90.] Государь император остался доволен, а печатать в России всё-таки не разрешали. Передают подлинные слова государя о Хомякове: «Dans ce qu’il dit de l’Eglise il est tr?s libеral; mais dans ce qu’il dit de ses rapports avec l’autoritе temporelle, il a parfaitement raison et je suis de son avis». Богословские сочинения Хомякова потом были переведены на русский язык Ю. Самариным и Гиляровым-Платоновым. Такова судьба славянофильского богословия.
Вечно помнить будут Хомякова прежде всего за его постановку проблемы Церкви и за его попытку раскрыть существо Церкви. Хомяков подошёл к существу Церкви изнутри, а не извне. Он прежде всего не верит в возможность формулировать понятие Церкви. Существо Церкви невыразимо, ни в какую формулу не вмещается, никаким формальным определениям не поддается, как и всякий живой организм. Церковь – прежде всего живой организм, единство любви, прежде всего свобода несказанная, истина веры, не поддающаяся рационализации. Со стороны Церковь не познаваема и не определима, она постигается лишь тем, кто в ней, кто является её живым членом. Схоластическое богословие тем и грешило, что пыталось рационалистически формулировать существо Церкви, то есть превращало Церковь из тайны, ведомой лишь верующим, в нечто, поддающееся познанию объективного разума. Хомяков был непримиримым врагом того интеллектуализма в богословии, против которого теперь восстает Леруа и другие католики-модернисты. Этот интеллектуализм всегда был более чужд духу православия, чем духу католичества. Гораздо большая склонность к интеллектуалистической схоластике была у Вл. Соловьёва. Хомяков же в своем отношении к Церкви и догматам более волюнтарист, чем интеллектуалист, он склоняется к тому, что теперь католики-модернисты называют моральным догматизмом. Для него единственным источником религиозного познания и единственной гарантией религиозной истины была любовь. И догматическим отличиям католичества от православия он придавал значение лишь постольку, поскольку в них нарушалась любовь. Утверждение любви как категории познания составляет душу хомяковского богословия. Он прежде всего утверждает живой организм Церкви против всякой мертвящей механичности, против всякой её рационализации. Современные католики-модернисты, да и протестанты-модернисты, часто беспомощно борющиеся с церковно-догматическим рационализмом и интеллектуализмом, многому могли бы научиться у Хомякова. В нём интеллектуализм и рационализм богословской схоластики преодолевается не личным усилием, а истиной православной Церкви, церковно преодолевается. Хомяков был прежде всего человеком церковным и церковно учил о Церкви. Модернисты слишком часто противопоставляют свободу Церкви и свободным усилием личности хотят исправить церковные недостатки. Хомяков же верил неизменно, что только в Церкви есть свобода, что Церковь и есть свобода, и потому свободное богословствование было для него богословствованием церковным. Свобода осуществлялась для него в соборности, а не в индивидуализме. У Хомякова было бесконечно свободное чувство Церкви, он свободно чувствовал себя именно в Церкви, а не вне Церкви, Церковь и была для него порядком свободы. Безумной показалась бы ему всякая попытка искать свободы вне Церкви, свободы от Церкви, видеть источник свободы не в церковной соборности, а в уединенной личности. Если Хомякову удалось гениально раскрыть органическое существо Церкви, то потому только, что он питался опытом восточного православия, в котором не было никакого интеллектуализма, никакого внешнего деспотизма. Это не могло бы быть делом индивидуального мыслителя. Даже пристрастный Вл. Соловьёв признает огромное значение Хомякова в самой постановке вопроса о Церкви. Он вынужден признать, что до славянофилов в истории христианской мысли почти нельзя встретить органического, внутреннего понимания Церкви.
Своё положительное учение о Церкви Хомяков раскрывает в форме полемики с западными вероисповеданиями. И эта отрицательно-полемическая форма наложила особую печать на всё его богословствование. Только катехизический опыт его «Церковь одна», всего двадцать шесть страниц, излагается в форме положительной; в нём православное вероучение излагается без прямой критики католичества и протестантства. Все остальные богословские сочинения Хомякова носят характер критико-полемический. Самая большая его богословская работа облечена в форму писем к Пальмеру, которого он старался обратить в православие. Эта критико-полемическая форма нападения на западные вероисповедания, преимущественно на католичество, облегчает Хомякову защиту православия. Критиковать католичество нетрудно; тут для русского – почти что движение по линии наименьшего сопротивления. Правда, Хомяков делает это с особым остроумием и глубиной, выставляет ряд новых аргументов против католичества. Но он находит почти что одни человеческие дефекты в западных вероисповеданиях и не находит почти никаких дефектов в нашем восточном вероисповедании. Вряд ли справедливо всё божественное в Церкви относить к православию, всё же человечески-дефектное – к католичеству. Есть божественное в католичестве, есть и в православии человечески дефектное. Вл. Соловьёв был прав, когда упрекал Хомякова за то, что он всё время имеет в виду православие – идеальное, католичество же – реальное, причем в идеальном всё чисто, в реальном же всё замарано. Исторические дефекты католичества слишком известны, слишком виден в исторических судьбах католичества грех человеческий. Но ведь немало этого греха и в исторических судьбах православия. Незыблемая святыня Церкви нисколько этим не затрагивается, и есть эта святыня и в православии, и в католичестве. Нелюбовь к католичеству делала Хомякова пристрастным в пользу протестантизма. Эту склонность оправдывать протестантизм можно найти у всех славянофилов. И это понятно. Ненависть к католичеству, реакция против католичества роковым образом принимает форму протестантизма. Это католиконенавистничество с примесью протестантизма искажает православное обличие Хомякова. Ведь чудовищно было бы утверждать, что основная черта православия – ненависть к католичеству. Вся православная правда хомяковского богословия не связана с его отвращением к католичеству, она остаётся в силе и при ином отношении к католичеству. В хомяковской критике католичества есть много правды, но также можно было бы критиковать и православие, оставляя незыблемой святыню Церкви, православной и католической. Хомяков учит о сверхвероисповедной, священной сущности Церкви, учит смело и свободно. В этом его бессмертная заслуга.
Приведу много выписок для характеристики хомяковского отношения к Церкви. Его замечательные идеи лучше всего изложить его собственными словами. «Наш закон не есть закон рабства или наемничества, трудящегося за плату, но закон усыновления и свободной любви».[35 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. II. С. 21.] «Никакого главы Церкви, ни духовного, ни светского, мы не признаем. Христос – её глава, и другого она не знает».[36 - Там же. С. 34.] «Но апостолы свободное исследование дозволяли, даже вменяли в обязанность; но святые отцы свободным исследованием защищали истины веры; но свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры… Всякое верование, всякая смыслящая вера есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования».[37 - Там же. С. 43.] «Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его».[38 - Там же. С. 59.] «Кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рационалист».[39 - Там же. С. 59.] Вместе с восточными патриархами, отвечавшими на окружное послание Пия IX, Хомяков думал, что «непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединенной взаимной любовью, и что неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть Тело Христово».[40 - Там же. С. 60.] Церковь «знает братство, но не знает подданства».[41 - Там же. С. 69.] «Единство Церкви было свободное; точнее, единство было сама свобода, в стройном выражении её внутреннего согласия. Когда это живое единство было отринуто, пришлось пожертвовать церковной свободой для достижения единства искусственного и произвольного; пришлось заменить внешним знамением или признаком духовное чутье истины».[42 - Там же. С. 72.] «Мы исповедуем Церковь единую и свободную».[43 - Там же. С. 112.] «Познание божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви».[44 - Там же. С. 157.] «Клир, в действительности христианский, есть непременно клир свободный» [45 - Там же. С. 181.] – «Само христианство есть не иное что, как свобода во Христе… Я признаю Церковь более свободною, чем протестанты; ибо протестантство признает в Священном Писании авторитет непогрешимый и в то же время внешний человеку, тогда как Церковь в Писании признает своё собственное свидетельство и смотрит на него как на внутренний факт своей собственной жизни. Итак, крайне несправедливо думать, что Церковь требует принужденного единства или принужденного послушания; напротив, она гнушается того и другого, ибо в делах веры принужденное единство есть ложь, а принужденное послушание есть смерть».[46 - Там же. С. 192.] «Тайна нравственной свободы во Христе и единения Спасителя с разумной тварью могла быть достойным образом открыта только свободе человеческого разума и единству взаимной любви».[47 - Там же. С. 219.] «Тайна Христа, спасающего тварь, есть тайна единства и свободы человеческой в воплощённом слове. Познание этой тайны вверено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть свобода… Христос зримый – это была бы истина навязанная, неотразимая, а Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый – это была бы истина внешняя; а Богу угодно было, чтоб она стала для нас внутреннею, по благодати Сына, в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. Отселе истина должна быть для нас самих во глубине нашей совести. Никакой видимый признак не ограничит нашей свободы, не даст нам мерила для нашего самоосуждения против нашей воли».[48 - Там же. С. 230.] «Никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести: сам Господь нас этому поучает».[49 - Там же. С. 231.] «Мы были бы недостойны разумения истины, если бы не имели свободы».[50 - Там же. С. 232.] «Единство (Церкви) есть не иное что, как согласие личных свобод».[51 - Там же. С. 235.] «Вся история Церкви есть история просвещённой благодатью человеческой свободы, свидетельствующей о Божественной истине».[52 - Там же. С. 243.] «Свобода и единство – таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе».[53 - Там же. С. 244.] «Ни иерархическая власть, ни сословное значение духовенства не могут служить ручательством за истину; знание истины даруется лишь взаимной любви».[54 - Там же. С. 363.] «Было бы лучше, если б у нас было поменьше официальной, политической религии и если б правительство могло убедиться в том, что христианская истина не нуждается в постоянном покровительстве и что чрезмерная об ней заботливость ослабляет, а не усиливает её. Расширение умственной свободы много бы способствовало к уничтожению бесчисленных расколов самого худшего свойства».[55 - Там же. С. 364.] «Как члены Церкви, мы – носители её величия и достоинства, мы – единственные в целом мире заблуждений хранители Христовой истины. Отмалчиваясь, когда мы обязаны возглашать глагол Божий, мы принимаем на себя осуждение, как трусливые и неключимые рабы Того, Кто потерпел поношение и смерть, служа всему человечеству; но мы были бы хуже, чем трусы, мы стали бы изменниками, если бы вздумали призывать заблуждение на помощь себе в проповеди истины и если бы, потеряв веру в божественную силу Церкви, мы стали бы искать содействия немощи и лжи. Как бы высоко ни стоял человек на общественной лестнице, будь он нашим начальником или государем, если он не от Церкви, то в области веры он может быть только учеником нашим, но отнюдь не равным нам и не сотрудником нашим в деле проповеди. Он может в этом случае сослужить нам только одну службу – обратиться».[56 - Там же. С. 86.] «Витии, мудрецы, испытатели закона Господня и проповедники его учения говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви как о долге; но они забыли о любви как о божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает её юродство Востока».[57 - Там же. С. 108.] Удивительна эта мысль о даре любви как обеспечивающем познание истины! «Нам дано видеть в Писании не мертвую букву, не внешний для нас предмет и не церковно-государственный документ, а свидетельство и слово всей Церкви, иначе наше собственное слово настолько, насколько мы от Церкви. Писание от нас, и потому не может быть от нас отнято. История Нового Завета есть история наша; нас струи Иордана соделали в крещении причастниками смерти Господней; нас, телесным приобщением, соединяла с Христом в Евхаристии Тайная Вечеря; нам на ноги, избитые вековым странствованием, излил воду Христос Бог, гостеприимный домовладыко; на наши главы, в день Пятидесятницы, нисходил, в Таинстве святого Миропомазания, Дух Божий, дабы величие нашей любовью освящённой свободы послужило Богу полнее, чем могло это сделать рабство древнего Израиля».[58 - Там же. С. 151.] Таково было высокое понятие Хомякова о свободе церковного народа.[59 - У Леруа в его книге «Dogme et critique» можно найти уклонение от ортодоксально-католической концепции Церкви к концепции хомяковской.]
Трудно найти более свободное чувствование Церкви. Хомякова ничто не принуждает. В его отношении к Церкви ничто не идёт извне, всё – изнутри. Жизнь в Церкви и есть для него жизнь в свободе. Церковь и есть единство в любви и свободе. Церковь – не учреждение и не авторитет. В Церкви нет ничего юридического, нет никакой рационализации. По Хомякову, где есть подлинная любовь во Христе, свобода во Христе, единство во Христе, там и Церковь. Никакие формальные признаки не определяют существа Церкви. Даже вселенские Соборы потому только подлинно вселенские и потому авторитетны, что они свободно и любовно санкционированы церковным народом. Свободная соборность в любви – вот где истинный организм церковный. Очень смелая концепция Церкви, которая должна была пугать официальных богословов. Эта концепция, может быть, чужда богословской схоластике, но она близка духу священного предания и Священного Писания. Хомяков особенное значение придаёт священному преданию, так как именно в нём он видит дух соборности. Священное Писание для него есть лишь внутренний факт церковной жизни, то есть воспринимается через священное предание. Подтверждение православности своего понимания духа церковного Хомяков видел в «Окружном послании православной Церкви» в ответ Пию IX.
Хомяковские определения и формулы поистине вселенские. С его учением о Церкви принужден будет согласиться всякий свободный сын Церкви Христовой, а восстанут против него лишь рабы. Но Хомяков портил своё дело явным пристрастием. Он учил о Церкви в форме полемической, он защищал православие, нападая на западные вероисповедания. И выходило у него, что вся святыня вселенской Церкви Христовой – свобода, любовь, органичность, единство – всё заключено лишь в восточном православии, в западном же католичестве ничего этого нет, есть одни лишь уклоны и грехи человеческие. Недостаток любви к западному христианскому миру – бесспорный грех Хомякова. Он всё время делал вид, что в восточном православии, в русской поместной Церкви нет никаких исторических уклонов и человеческих грехов. Перед лицом нечестивого Запада всё обстоит благополучно в русской и греческой Церкви, всё в ней божественно, а человеческое соподчинено божественному. Нелюбовь к католичеству давила Хомякова, а вслед за ним и всех славянофилов, и вела к признанию преимуществ протестантизма перед католичеством. В таком отношении к католичеству была коренная ошибка славянофилов.
Всего менее я склонен отрицать великие, мистические преимущества православия, незапятнанно хранившего истину Христову. Но мистическое существо Церкви, единство в любви и свободе есть и в католичестве. В Церкви католической совершаются подлинные таинства, не прерывается апостольская преемственность, хранится священное предание, существует мистическое общение живых и умерших. Надо отличать христианский католический мир от папизма с его уклонами, от грехов иерархии. Уклоны католичества – всё же уклоны относительные, а не абсолютные. Хомяков очень злоупотреблял обвинениями католичества и всей западной религиозной мысли в рационализме, хотя сам не был вполне свободен от рационализма. Временами у него чувствуется протестантско-моралистический уклон; уклон этот портит его православное богословствование. Хомяков совсем не знал, не понимал и не ценил западной мистики – как мистики католической, так и мистики свободной. Он всё время имеет в виду исключительно официальное католическое богословие и мало чувствует мистическую жизнь католичества, мистику католических святых, католический религиозный опыт. Нельзя ведь понять православие по официальному богословию, нужно вникнуть в интимную религиозную жизнь народа, в восточную аскетику, мистику православных святых. То же нужно сказать и о католичестве. Католичество не исчерпывается схоластическим богословием и папизмом. В католичестве есть своя глубокая и таинственная жизнь, свой мистический трепет, своя святость. Всего этого не хотел видеть Хомяков. Он слишком исключительно отождествлял католичество с учебниками догматического богословия и канонического права, с политикой пап, с моралью иезуитов. Эта существенная ошибка Хомякова и других славянофилов связана с тем, что религиозное сознание их не углублялось до мистических первооснов. Хомяков мало считается с религиозной мистикой; он ничего почти не говорит о мистике католической и протестантской, он не знает Якова Бёме. Роковой ошибкой было бы отождествить всё католичество с рационализмом и юридическим формализмом, отрицая на Западе всякую мистику.
В главе о философии истории Хомякова я подробно остановлюсь на основном для его мировоззрения делении религий на кушитские и иранские. В кушитстве он видит религию необходимости, религию естества, религию магизма; в иранстве – религию свободы, религию свободно творящего духа. Западное католичество – наследие духа кушитства; восточное православие – духа иранства. Поэтому католичество заражено дурной магией, римским юридическим формализмом и рационализмом. Свободы в католичестве Хомяков не видит. Католичество для него не духовная религия. Это как бы естественная, магическая религия в христианском одеянии. Западный мир существенно не принял христианства, в нём живет дух Рима, дух кушитства. Даже на таинства в католичестве Хомяков смотрит как на магию, почти как на колдовство. Западный мир давит его дохристианское, язычески-культурное прошлое. В народе русском была девственно-непочатая почва, народ русский принял впервые культуру в форме христианской. Поэтому он христианский народ по преимуществу. Глубокое отличие православного Востока от католического Запада Хомяков видит, прежде всего, в нравственной области. Догматические различия, по мнению Хомякова, имеют значение второстепенное, выводное. Восточное православие, которое в русском народе нашло самое чистое своё выражение, верно христианской нравственности, христианской любви. Запад изменил любви христианской, откололся от восточного христианского мира, без него вводил новые догматы, созывал соборы, которые выдавал за вселенские. Прибавление filioque к символу веры потому плохо, что оно было сделано без взаимной любви всего христианского мира. Тут сказалось исконное самоутверждение Запада, гордыня, презрение к Востоку как к низшему. В этих мыслях Хомякова много правды. Недостаток любви характерен для западного католического мира. Но так ли безупречен восточный православный мир? Достаточно ли в нём любви к миру западно-христианскому? Прежде всего сам Хомяков обнаруживает недостаток любви. Это грех обоюдный, и он должен быть разделен. Ответственность лежит и на западных католиках, и на восточных православных. Это – грех человеческий, человеческой вражды, человеческого самоутверждения, человеческой гордости. Церковь, как Тело Христово, Церковь католическая и православная, тут ни при чем. Для Церкви не существует ни Запада, ни Востока, к ней не применимы никакие географические категории. У нас меньше кафоличности, вселенскости, чем у католиков. У них меньше православности, верности, чем у православных. Но в исключительном утверждении себя и своего есть что-то дурное, человечески-дурное, не связанное с божественной святыней Церкви. Образ Христа и правда о Нём хранится и в православии и в католичестве, и там, и здесь совершаются таинства, через которые мы приобщаемся ко Христу. Это – главное, всё остальное, человеческое, эмпирическое, бледнеет перед святыней Церкви.
Хомяков, как и все славянофилы, относился отрицательно к нашему синодальному управлению; он не видел подлинной соборности в строе русской Церкви, видел унижение Церкви перед государством, бюрократизацию Церкви. Но перед Западом он делал вид, что на Востоке всё благополучно. Он постоянно чувствует какую-то неловкость за грехи русской Церкви. Он хорошо понимает, что реальная действительность не соответствует идеальной концепции. Но святыня православной Церкви нимало не колеблется грехами русской действительности, грехами человеческими, и грехов этих не должно скрывать для защиты православия. Хомяков ведь был церковным радикалом, пугавшим власть церковную и власть государственную. Для него субъектом Церкви был церковный народ. Соборность церковного народа была свободным единством в любви. Соборность Церкви, основная идея всего славянофильства, в которой славянофилы видели сущность православия, не заключает в себе признаков формальных и рациональных, в соборности нет ничего юридического, ничего напоминающего власть государственную, ничего внешнего и принуждающего. Хотя сам Хомяков и не любил употреблять этого слова, но соборность Церкви – мистична, это порядок таинственный. Синодальное управление, да и никакое управление, не может быть адекватным выражением мистической соборности. Соборность – живой организм, и в нём живет церковный народ. В деятельности вселенских соборов всего ярче сказался соборный дух Церкви. Но и авторитет вселенских соборов не внешний, не формальный, не выразимый рационально, не переводимый на язык юридический. Вселенские соборы авторитетны лишь потому, что в них открылась истина для живого соборного организма Церкви. Церковь – не авторитет, Церковь – жизнь христианина во Христе, в теле Христовом, жизнь свободная, благодатная. Хомяков не признает никакого другого главы Церкви, кроме самого Христа. Он с негодованием отвергает обычное обвинение русской православной Церкви в цезарепапизме. «Когда, – говорит он, – после многих крушений и бедствий русский народ общим советом избрал Михаила Романова своим наследственным государем (таково высокое происхождение императорской власти в России), народ вручил своему избраннику всю власть, какою облечен был сам, во всех её видах. В силу избрания, государь стал главою народа в делах церковных так же, как и в делах гражданского управления; повторяю: главою народа в делах церковных и в этом смысле главою местной Церкви, но единственно в этом смысле. Народ не передавал и не мог передать своему государю таких прав, каких не имел сам, а едва ли кто-нибудь предположит, чтобы русский народ когда-нибудь почитал себя призванным править Церковью. Он имел изначала, как и все народы, образующие православную Церковь, голос в избрании своих епископов, и этот свой голос он мог передать своему представителю. Он имел право, или, точнее, обязанность, блюсти, чтобы решения его пастырей и их соборов приводились в исполнение; это право он мог доверить своему избраннику и его преемникам. Он имел право отстаивать свою веру против всякого неприязненного или насильственного на неё нападения; это право он также мог передать своему государю. Но народ не имел никакой власти в вопросах совести, общецерковного благочиния догматического учения, церковного управления, а потому не мог и передать такой власти своему царю».[60 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. II. С. 36.] И дальше: «Государь, будучи главою народа, во многих делах, касающихся Церкви, имеет право так же, как и все его подданные, на свободу совести в своей вере и на свободу человеческого разума; но мы не считаем его за прорицателя, движимого незримою силою, каким себе представляют латиняне епископа Римского. Мы думаем, что, будучи свободен, государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение и что если бы, чего не дай Бог, подобное несчастие случилось, несмотря на постоянные молитвы сынов Церкви, то и тогда император не утратил бы ни одного из прав своих на послушание своих подданных в делах мирских; а Церковь не понесла бы никакого ущерба в своем величии и в своей полноте, ибо никогда не изменит ей истинный и единственный её Глава. В предположенном случае одним христианином стало бы меньше в её лоне – и только».[61 - Там же. С. 37-38.]
У Хомякова нельзя найти религиозно-мистической концепции самодержавия. Такую концепцию скорее можно найти у Вл. Соловьёва в его учении о первосвященнике, царе и пророке, о триединой теократии. Хомяков был сторонником самодержавной монархии, считал эту форму единственно соответствующей духу русской истории, единственно родной русскому народу. В хомяковском самодержавии был сильный анархический привкус, сказалась славянофильская нелюбовь к политике, к государственности, к властвованию. У Соловьёва этого анархического привкуса нет, для этого в нём слишком силен был дух западный и католический. Хомяков оправдывал самодержавие не столько религиозно, сколько национально и исторически. Это прежде всего национальная идеология. Никакой церковной мистики Хомяков не видел в самодержавии, и не мог видеть, потому что православная Церковь не была для него Градом на земле и резко всякому Граду противополагалась. Хомякову чужда идея теократии как Церкви властвующей и воинствующей, через царя или первосвященника устрояющей землю, подобно теократии соловьёвской. Поэтому он так упорно отрицал исторический русский уклон к цезарепапизму. Мистическое самодержавие и есть цезарепапизм. Этой мистики Хомяков не признавал, для него русская монархия не была святой плотью общественной. Идея святой плоти вообще была чужда Хомякову и славянофильству. Сложную и мучительную проблему отношения Церкви и государства Хомяков решал скорее в духе национально-бытовом, чем в духе религиозно-мистическом. Формы государственности он считал созданием народного духа, и он гордился тем, что царская власть у нас народного происхождения. Сам же народ живет жизнью церковной, и потому всё для него освящается Церковью. Но народу русскому, по мнению славянофильскому, чужд империализм, чужды и теократические мечты, всё это западное, не русское.
Я говорил уже и буду ещё говорить об англофильстве Хомякова. Англофильство это сказалось и в любви к англиканской церкви, с которой Хомяков искал сближения и которую надеялся воссоединить с Церковью православной. Именно в англиканстве Хомяков видел всего менее препятствий для воссоединения с православием. Он вступил в деятельные отношения с английским богословом Пальмером. Письма к Пальмеру – самый большой богословский труд Хомякова. Пальмер склонялся к переходу в православие, и Хомяков окончательно хотел убедить его в истине православия. К делу перехода Пальмера в православие он отнёсся очень активно, он хлопотал у высших иерархов Церкви, чтобы облегчить Пальмеру этот переход. Он надеялся в глубине души, что вслед за Пальмером и вся англиканская Церковь присоединится к Церкви православной. Хомяков с негодованием отвергал саму идею церковной унии. Унии возможны лишь в делах мирских, политических, уния есть сделка, компромисс, взаимные уступки. Но Церковь – одна, в Церкви полнота истины, Церковь ничего не может уступить, ни на какие сделки не может пойти. Склонность католической церкви к унии Хомяков объясняет её государственно-политическим характером. Уния – политиканство, а политиканство недостойно Церкви как хранительницы правды Христовой. В принципе Хомяков в этом глубоко прав, глубоко церковен. В строгом смысле слова не может быть и речи о соединении Церквей, так как Церковь – одна и никогда не разделялась. Соединяться могут и должны лишь разрозненные части христианского человечества. С англиканцами легче всего соединиться православным, так как англиканство вовсе и не Церковь, а лишь национально объединенное собрание христиан, остановившееся между католичеством, протестантизмом и православием. Но подчиненное положение русской Церкви, её зависимость от власти государственной очень смущали Пальмера. Хомяков сам чувствовал, что тут не всё ладно, но старался трудности сгладить и обойти. Сильнее была бы позиция Хомякова, если бы он прямо смотрел в глаза эмпирической действительности и не ставил бы от неё в зависимость святыню православия.
Другое препятствие стало на пути перехода Пальмера в православие. Пальмер чувствовал себя христианином, крещеным, и он не мог согласиться на требование нового крещения, предъявленного к нему восточными патриархами. Русская Церковь оказалась более снисходительной и соглашалась принять Пальмера в своё лоно без этого условия; но Церковь греческая упорствовала. И вот Пальмер останавливается в недоумении перед тем, в какую Церковь он входит. Он хотел войти во вселенскую православную Церковь, а перед ним стали две поместные национальные церкви, русская и греческая, расходившиеся по принципиальному вопросу. Это был большой соблазн. Русская Церковь отталкивала его своим подчинением государству. Греческая церковь поставила требование, противное его религиозной совести. Где же Церковь кафолическая? Хомяков не в силах был победить эти трудности. И Пальмер перешёл в католичество, увидел в католичестве Церковь вселенскую, а не национальную. История с Пальмером ставит мучительный вопрос для православного Востока.
Хомяков отрицательно относился к старообрядчеству. Одно время он каждое воскресенье спорил со старообрядцами в церкви на паперти. Но, в сущности, и Хомяков, как и всё славянофильство, впадает в тот же грех, что и старообрядчество. Грех старообрядчества был в том, что оно национализировало Церковь, подчинило вселенский Логос национальной стихии, впало в дурной провинциализм и партикуляризм. Для старообрядчества национальная русская плоть заслонила вселенский церковный дух. Отождествили поместную русскую церковь с Церковью вселенской, всё нерусское признали нецерковным, нехристианским, басурманским, нечестивым. Обрядность русско-национальная в мелочах своих, вплоть до покроя платья, была принята за самое существо Церкви. Для Никона православная Церковь была прежде всего церковь греческая, то есть всё же национальная, поместная; для старообрядцев истинная Церковь есть лишь Церковь русская, тоже национальная, поместная. Этот церковный национализм был результатом возобладания женственной национальной стихии над вселенским Логосом, непокорностью Логосу. В русском церковном национализме можно открыть явные следы язычества, языческого национального самоутверждения, языческой непросветленности вселенским Логосом. Элементы старообрядчества есть и в славянофильстве, и элементы эти не могут быть названы в строгом смысле этого слова церковными. Конечно, Хомякову, с его глубоким пониманием сущности Церкви, чужды были грубые формы старообрядчества и староверия, но и он прегрешал церковным национализмом, и для него национальная стихия временами закрывала вселенскость. Отношение Хомякова к католичеству объясняется его церковным национализмом, по отношению к католичеству у него была старообрядческая психология. Славянофилы в известном смысле могут быть названы культурными старообрядцами, старообрядцами, прошедшими через высшее сознание, посчитавшимися со сложными результатами культуры. Славянофилы были верными сынами православной Церкви, Церкви господствующей, но они вносили в Церковь дух народный, родственный старообрядчеству. Отношение славянофилов к Петру Великому, к бюрократии, к некоторым сторонам нашего синодального управления было культурно-старообрядческое. И наряду со слабостями и грехами старообрядчества они усвоили себе и правду старообрядчества, лучшие его стороны: утверждали церковную соборность против церковного бюрократизма, центр тяжести полагали в церковном народе, в народной религиозной жизни. В старообрядчестве сохранилась народная религиозная жизнь, непосредственное участие народа в церковной жизни, есть приход и реальные проявления соборности. Обо всём этом мечтали славянофилы для всего православного русского народа. Славянофильство самим фактом своего существования подтверждает, что раскол является глубочайшей трагедией русской истории. Славянофилы обличали ложь старообрядчества и вместе с тем с уважением смотрели на сильную религиозную жизнь старообрядцев, которой не находили у православных. Самый факт существования раскола обнаруживает, что на православном Востоке не всё благополучно, не так благополучно, как это Хомяков представлял перед лицом западных вероисповеданий. Хомяков был беспомощен перед проблемой воссоединения со старообрядчеством и проблемой воссоединения с католичеством. Славянофильство попало между крайним национализмом старообрядчества и крайней вселенскостью католичества. Но Хомяков первый дал нашему богословию такое направление, что можно считать обе эти проблемы разрешимыми религиозно и внутренно. Сам он не сделал всех выводов из своего радикального богословского сознания.
Значение славянофильского богословия в русской религиозной мысли огромно. Нужно вспомнить затхлость той богословской атмосферы, в которую свежей струей вошла религиозная мысль славянофилов, мысль жизненная, а не школьная. Славянофилы внесли в русскую философию и русскую литературу религиозные темы, приобщили богословие к русской культуре как тему русской жизни. Для славянофилов православное богословие было не византийской риторикой, а делом жизни. В официальном богословии даже нравственная сторона православия имела значение по преимуществу риторическое; в религиозной мысли славянофилов она стала живой. Славянофилы были, употребляя современное выражение, прагматистами в богословии, их религиозная философия была в известном смысле философией действия, была направлена против интеллектуализма в богословии. Современный католический модернизм во многом приближается к хомяковскому пониманию Церкви. Для Хомякова почти ничего нового в католическом модернизме не было бы. То, что Леруа называет моральным догматизмом, противопоставляя его догматизму интеллектуалистическому, то, в сущности, утверждал и Хомяков. И для Хомякова догматы имеют прежде всего значение жизненно-моральное, прагматическое, а не интеллектуально-теоретическое. Источник догматического познания Хомяков видит во взаимной любви христиан, то есть понимает действенно-прагматически этот источник. Так же, действенно-прагматически, истолковывает Хомяков источник догматического раздора Востока и Запада; он видит его в недостатке любви Запада к Востоку, в жизненно-моральном дефекте. Христианские догматы открываются в жизни Церкви, в религиозном опыте. Хомяков – не меньший враг схоластически-интеллектуалистического богословия, чем современные модернисты. В следующей главе мы увидим, что философия Хомякова была философией действия, но более религиозной и потому более глубокой, чем современная философия действия. Мы с чувством удовлетворения можем сказать, что новейшие формы богословствования и философствования на Западе идут к тому, что давно уже утверждали и развивали наши славянофилы. И первым среди славянофилов был Хомяков, он – глава славянофильской церковной философии. Мы видели уже, что он играл религиозно и церковно руководящую роль. В боевых схватках, которые происходили в кружках сороковых годов, Хомяков оставался непобедимым. Коренная идея Хомякова, общая у него со всеми славянофилами, была та, что источником всякого богословствования и всякого философствования должна быть целостная жизнь духа, жизнь органическая, что всё должно быть подчинено религиозному центру жизни. Эта идея является источником славянофильской философии и всей русской философии. К идее этой идёт разными путями и Запад. Цельная же жизнь духа дана лишь в жизни религиозной, лишь в жизни Церкви. С верой в истинную жизнь Церкви связаны все надежды России на осуществление типа культуры более высокого, чем западный, и на исполнение мировой её миссии.
Как ни велики богословские заслуги Хомякова, как ни дорог он нам, всё же религиозное его сознание было ограничено, сдавлено, неполно. Мало в нём духа пророческого. Хомяков отрицал догматическое развитие Церкви, не видел в Церкви богочеловеческого процесса. Православие для него закончено, «совершение прияло», откровение Божие достигло полноты. Нового откровения в христианстве Хомяков не ждал и не допускал такой возможности. Православная Церковь была для него прежде всего охранением святыни. Сторона же пророческая и творческая ему мало раскрывалась. Проблема эсхатологическая, проблема конца не занимает никакого места в богословии Хомякова; во всей его религиозной философии нет об этом ни полслова. Свой русский мессианизм Хомяков не связывал с апокалипсисом. Нет апокалипсиса и во всей его философии истории. Апокалиптические предчувствия, апокалиптическая жуть, апокалиптический трагизм чужды Хомякову. Я говорил уже, что это характерно для всего того поколения, для всего славянофильства. Люди эти не вошли ещё в космическую атмосферу апокалипсиса, в новую религиозную эпоху. Славянофилы были новаторами, почти революционерами в богословии, свободолюбие их было поразительно; то было свободное раскрытие Христовой правды. Но всё же они принадлежали старому религиозному сознанию. Новое религиозное сознание, загорающееся в новую космическую эпоху, не изменяет незыблемой святыне православной Церкви, но оно признает не только священство, но и пророчество, оно полно предчувствиями завершающего откровения Святой Троицы, полно трагического чувства конца истории. Для нового религиозного сознания Церковь – богочеловеческий процесс, который не мог ещё завершиться, который придёт к полноте лишь в конце истории. Отрицание возможности нового христианского откровения есть тот предел, в который уперся Хомяков и за ним всё славянофильство. В этом ограничивающем пределе источник вырождения славянофильства, нетворческой его судьбы. Священство незыблемо, но где царство и пророчество? Неполнота хомяковского религиозного сознания видна уже в том, что у него почти нет религиозной космологии.
Из страха католического магизма Хомяков впадает временами в протестантский морализм. Таинства приобретают у него более духовно-моральный, чем космический смысл. Религиозное сознание Хомякова раскрывает по преимуществу те стороны таинств, которые связаны с духовным возрождением, и для него почти закрыты другие стороны, которые связаны с космическим преображением. Что в раскрытии космической природы таинств раскрывается тайна Божьего творения – этого не предчувствует Хомяков, это чуждо его сознанию. В таинствах дано не только духовное и нравственное возрождение человеческой души, в таинствах дан прообраз преображения творения, новый космос, в котором питание будет евхаристией, соединение будет браком, а жуткая водяная стихия станет крещением. Таинства – прообраз новой жизни в новом космосе, вся полнота жизни должна стать таинством, стать благодатной, и всякая деятельность должна стать богодейством. Что таинства – путь к космическому преображению, преображению всей плоти мира, об этом ничего нельзя найти у Хомякова. Он даже боялся подчеркивать объективно-космическую природу таинств, так как боялся того уклона к языческой магии, в котором всегда обвинял католичество. Но слишком большой протест против католичества легко ведет к протестантизму. Ему казалось православнее, вернее подчеркивать субъективно-духовную сторону таинств. Тут, быть может, сказалась недостаточная чуткость Хомякова к мистической стороне христианства. Космическая мистерия не стоит в центре хомяковского понимания христианства. В религиозной философии Хомякова совсем почти отсутствует религиозная космология. Какой чуждой показалась бы ему космическая мистика Я. Бёме! Он мало чувствует мировую душу, вечную женственность, всё, что так близко было Вл. Соловьёву. Нет у него места для Софии Премудрости Божьей. Религиозность Хомякова была односторонней, исключительно мужественной. Он весь в Логосе, в Логосе мыслил и учил, а не в мировой душе. И ему не передались трепет и тревога мировой души. Ограниченность его исключительно мужского сознания закрывала от него ту апокалиптическую жуть, которой наполнялась мировая душа в новую космическую эпоху, и ту апокалиптическую новь, которая в сознании новой эпохи зарождалась. В Хомякове нет никакой мистической чувствительности. Он был слишком упорным мужем и упорным барином. Он не хотел отдаваться никаким предчувствиям, не сладко ему было погружаться в бездны мировой души. Он знал мировую душу лишь со стороны охоты и сельского хозяйства, знал лишь землю, рождающую хлеб, и женщину, рождающую детей. Иной земли, иной женственности он не знает и не хочет знать. Мистика пола ему чужда и не нужна. Для него совершается таинство старого брака на старой земле. Он не томится и не тоскует по новому браку на новой земле.
Религиозное сознание Хомякова не устремлено к Граду Грядущему, и в его религиозной философии нет места для теократии. Православие никогда не смешивало Церкви с Градом. В этом огромное отличие православия от католичества, которое отождествило Церковь с Градом Божьим, с царством Христовым на земле. Для католического сознания Град Божий осуществлен уже в жизни Церкви, и потому сознание, устремлённое к Граду Грядущему, сознание апокалиптическое, нелегко зарождается на католической почве. Православные не чувствуют этой принадлежности к Граду осуществлённому, и потому легче на православной почве зарождается апокалиптическое искание Града Грядущего. Православие – более Иоанново христианство, католичество же – Петрово. Но в историческом православии нет хилиазма, нет апокалипсиса, есть святыня и священство, нет пророчества и царства. Хомяков исповедует православие историческое как религию священства, без пророчества о Граде. И знает он только один Град – святую Русь. Град этот освящён для него православием, и только об историческом русском теократическом царстве хочет он знать. Мы увидим, что идею святой Руси обосновывает Хомяков скорее национально-исторически, чем мистически. Хомяков видел соблазн католического смешения Церкви с Градом, с царством. Православие было для него безвластно, к царству в мире не стремилось, в этом видел он всё величие православия. Хомяков справедливо критиковал католичество, но несправедливо отрицал в христианстве всякое движение к Граду. Тут граница его староправославного сознания. Русское царство было для него царством православным, потому что то было царство православного русского народа. Через дух народный освящается это царство. Но святой плоти, святой телесности не было в этом царстве, не было мистического Града. Славянофилы очищали истину православия от всякой скверны, были идеальной вершиной православного сознания и тем расчищали путь для нового религиозного сознания. Новое религиозное сознание начинается тогда, когда Церковь Христова сознается как космическое царство. Святыня православия должна стать динамической силой истории. Славянофилы хотели навеки санкционировать православием безвластный, пассивный, неволевой характер русского народа. Церковь – свобода, Церковь – любовь, но Церковь – не власть. И русский народ не хочет власти, хочет лишь свободы и любви. Русский народ не хочет царства, хочет лишь Церкви. Пророчество о том, что Церковь станет Градом, было ещё закрыто для славянофильского сознания.
Глава IV. Хомяков как философ. Гносеология и метафизика
Хомяков и Иван Киреевский – основоположники славянофильской философии, которая может быть названа и национальной русской философией, отражающей всё своеобразие нашего национального мышления. Внезапная смерть помешала обоим славянофильским мыслителям разработать свою философию. Основатели славянофильства не оставили нам больших философских трактатов, не создали систему. Философия их осталась отрывочной, она передалась нам лишь в нескольких статьях, полных глубокими интуициями. Киреевский едва приступил к обоснованию и развитию славянофильской философии, как умер от холеры. Та же участь постигает и Хомякова, пожелавшего продолжить дело Киреевского. В этом было что-то провиденциальное. Быть может, такая философия и не должна быть системой. Славянофильская философия – конец отвлечённой философии и потому уже не может быть системой, подобной другим системам отвлечённой философии. То была философия цельной жизни духа, а не отсечённого интеллекта, не отвлечённого рассудка. Идея цельного знания, основанного на органической полноте жизни, – исходная идея славянофильской и русской философии. Вслед за Хомяковым и Киреевским самобытная, творческая философская мысль всегда ставила у нас себе задачу раскрытия не отвлечённой, интеллектуальной истины, а истины как пути и жизни. Это своеобразие русского философствования сказалось и в лагере противоположном, даже в нашем позитивизме, всегда жаждавшем соединить правду-истину с правдой-справедливостью. Русские не допускают, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным, рассудочным путем, что истина есть лишь суждение. И никакая гносеология, никакая методология не в силах, по-видимому, поколебать того дорационального убеждения русских, что постижение сущего даётся лишь цельной жизни духа, лишь полноте жизни. Даже наша quasi-западническая и quasi-позитивная философия стремилась к этой синтетической религиозной целостности, хотя беспомощна и бессильна была выразить эту русскую жажду. А наша творческая философская мысль, имевшая истоки славянофильские, сознательно ставила себе задачу утвердить против всякой рационалистической рассечённости органически целостную религиозную философию. Иван Киреевский, с которым Хомяков должен разделить славу основателя славянофильской философии, говорит: «Нам необходима философия: всё развитие нашего ума требует её. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может дать душу и целость нашим младенчествующим наукам, и самая жизнь наша, быть может, займет от неё изящество стройности. Но откуда придёт она? Где искать её? Конечно, первый шаг наш к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может, наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта».[62 - Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. II. С. 27.] Слова эти могут быть взяты эпиграфом ко всякому русскому философствованию. И. Киреевский и Хомяков не игнорировали германской философии, они прошли через неё и творчески преодолели её. Они преодолели германский идеализм и западную отвлечённую философию верой в то, что духовная жизнь России рождает из своих недр высшее постижение сущего, высшую, органическую форму философствования. Первые славянофилы убеждены были, что Россия осталась верна цельной истине христианской Церкви, и потому свободна от рационалистического рассечения духа. Русская философия должна быть продолжением философии святоотеческой. Первые интуиции этой философии родились в душе Киреевского. Хомяков же был самым сильным её диалектиком.
Самостоятельная русская философия началась с критики отвлечённого идеализма Гегеля и перешла к идеализму конкретному, оригинальному плоду русской мысли. Преодоление гегельянства, этой титанической гордыни и титанической мощи философии, – вот задача, поставленная Киреевским и Хомяковым. Преодоление гегельянства должно было быть вместе с тем преодолением всякой отвлечённой, рационалистической философии, вызовом всему духу западной культуры. По мысли Киреевского, у западных народов произошло «раздвоение в самом основном начале западного вероучения, из которого развилась сперва схоластическая философия внутри веры, потом реформация в вере и, наконец, философия вне веры. Первые рационалисты были схоластики; их потомство называется гегельянцами».[63 - Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. I. С. 226.] В Гегеле видел Хомяков дух кушитства, отвергающий свободное творчество. Гегельянство – вершина всего западного пути развития, последняя ступень, дальше – пустая бездна. Крушение гегелевской философии было кризисом философии вообще. Хомяков жил в духовной атмосфере классического германского идеализма и глубоко задумался над противоречиями этого идеализма и причинами роковых его неудач. «Сущее, – говорит Хомяков, – должно быть совершенно отстранено. Само понятие, в своей полнейшей отвлечённости, должно было всё возродить из собственных недр. Рационализм, или логическая рассудочность, должна была найти себе конечный венец и Божественное освящение в новом создании целого мира. Такова была огромная задача, которую задал себе германский ум в Гегеле, и нельзя не удивляться той смелости, с какой он приступил к её решению».[64 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 267.] «Логику Гегеля следует назвать воодухотворением отвлечённого бытия (Einvergeistigung des Seyns). Таково было её полнейшее, кажется, никогда ещё не высказанное определение. Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самовозрождающееся творение из недр отвлечённого понятия, не имеющего в себе никакой сущности. Самосильный переход из нагой возможности во всю разнообразную и разумную существенность мира».[65 - Там же. С. 268.] В Гегеле завершила свой цикл развития та «философия рассудка», которая «считала себя философией разума». Хомяков так формулирует предел, к которому пришло философское движение в Германии: «воссоздание цельного разума (то есть духа) из понятий рассудка. Как скоро задача определила себя таким образом (а собственно, таков смысл Гегелевой деятельности), путь должен был прекратиться: всякий шаг вперёд был невозможен».[66 - Там же. С. 291.] Общая ошибка всей школы, ещё неясно выдающаяся в её основателе – Канте и резко характеризующая её довершителя – Гегеля, состоит в том, что она постоянно принимает движение понятия в личном понимании за тождественное с движением самой действительности (всей реальности)».[67 - Там же. С. 296.] «Нельзя было начать развития с того субстрата или, лучше сказать, с того отсутствия субстрата, от которого отправлялся Гегель; от этого целый ряд ошибок, смешение личных законов с законами мировыми; от этого также постоянное смешение движений критического понятия с движением мира явлений, несмотря на их противоположность; от этого и разрушение всего титанского труда. Корень же общей ошибки Гегеля лежал в ошибке всей школы, принявшей рассудок за целость духа. Вся школа не заметила, что, принимая понятие за единственную основу всего мышления, разрушаешь мир: ибо понятие обращает всякую ему подлежащую действительность в чистую, отвлечённую возможность».[68 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 110.] Хомяков предвидит неизбежность перехода гегелевского отвлечённого идеализма в материализм. В поисках за субстратом ухватятся за материю: нельзя жить и мыслить в бессубстрактной, не сущей отвлечённости. Хомяков предсказывает даже появление диалектического материализма. «Критика сознала одно: полную несостоятельность гегельянства, силившегося создать мир без субстрата. Ученики его не поняли того, что в этом-то и состояла вся задача учителя, и очень простодушно вообразили себе, что только стоит ввести в систему этот недостающий субстрат, и дело будет слажено. Но откуда взять субстрат? Дух, очевидно, не годился, во-первых, потому, что сама задача Гегеля прямо выражала себя как искание процесса, созидающего дух; а во-вторых, и потому, что самый характер Гегелева рационализма, в высшей степени идеалистический, вовсе не был спиритуалистическим. И вот самое отвлечённое из человеческих отвлечённостей – гегельянство – прямо хватилось за вещество и перешло в чистейший и грубейший материализм. Вещество будет субстратом, а затем система Гегеля сохранится, то есть сохранится терминология, большая часть определений, мысленных переходов, логических приемов и т. д., сохранится, одним словом, то, что можно назвать фабричным процессом Гегелева ума. Не дожил великий мыслитель до такого посрамления; но, может быть, и не осмелились бы его ученики решиться на такое посрамление учителя, если бы гроб не скрыл его грозного лица».[69 - Там же. С. 302.] Гегель не дожил до диалектического материализма Маркса, хотя и породил его. Хомяков же предсказал появление марксизма, в котором сохранится «фабричный процесс Гегелева ума». Философский позор диалектического материализма был карой за грехи рационализма.
В западной философии лишь Ф. А. Тренделенбург дал критику Гегеля, родственную критике славянофильской, но не творческую, не созидающую. Приведу для сравнения две цитаты: «Без живого созерцания, – говорит он в своих „Логических исследованиях“, – логическому методу следовало бы ведь решительно всё покончить идеей – этим вечным единством субъективного и объективного. Но метод этого не делает, сознаваясь, что логический мир в отвлечённом элементе мысли есть лишь „царство теней“, не более. Ему, стало быть, известно, что есть иной, свежий и животрепетный мир, но известно – не из чистого мышления».[70 - См.: Тренделенбург Ф. А. Логические исследования. Ч. I. С. 81.] И ещё: «Диалектике предлежало доказать, что замкнутое в себе мышление действительно охватывает всецелость мира. Но доказательства этому не дано. Везде мнимозамкнутый круг растворяется украдкою, чтобы принять извне, чего недостает ему внутри. Закрытый глаз обыкновенно видит перед собой одну фантасмагорию. Человеческое мышление живет созерцанием и умирает с голоду, когда вынуждено питаться собственной утробой».[71 - Там же. С. 110.]
Киреевский и Хомяков поняли, что германская идеалистическая философия – продукт протестантизма, что Кант – один из моментов в развитии протестантского отщепенства, а Гегель – завершитель протестантского рационализма. Отпадение от церкви как живого организма, как онтологической реальности, привело к рассечению целостной жизни духа, к отпадению рассудочно-логического мышления от целостного разума. «Германия смутно сознавала в себе полное отсутствие религии и переносила мало-помалу в недра философии все требования, на которые до тех пор отвечала вера. Кант был прямым и необходимым продолжателем Лютера. Можно бы было показать в его двойственной критике чистого и практического разума характер вполне лютеранский».[72 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 300.] Грехи же протестантизма славянофилы выводили из грехов католичества. Уже католичество допустило господство отвлечённого рассудка в схоластической философии и теологии, там уже началось рассечение целостного духа и целостного разума. Нужно только сказать, что Хомяков слишком игнорирует западную мистику и её значение для философии. Ведь мистика Мейстера Экхарта была истоком протестантизма и германского философского идеализма. А, с другой стороны, мистика Якова Бёме повлияла на Фр. Баадера и Шеллинга – явления, родственные славянофильству. У Бёме и Баадера была духовная цельность, их философия была философией Логоса, а не рассудка. Была эта цельность и в католической мистике. По мысли же Хомякова и Киреевского, духовная цельность сохранилась лишь в восточной церкви, в православии лишь живет Разум-Логос. И с Востока лишь ждут они возрождения философии, победы над рационалистической пустотой, выхода из тупика. У восточных учителей церкви нужно искать новых начал для философии. Хомяков почуял меонизм европейской философии, торжество духа небытия. Бытие, сущее, упраздняется рационалистической, рассудочной, отвлечённой философией. Это яснее всего видно на гениальной и титанической попытке Гегеля воссоздать диалектическим путем сущее из отвлечённой идеи. Сущее дано лишь философии целостного духа, лишь разуму органическому, нерассечённому. Хомяков предвидел окончательное торжество меонизма и иллюзионизма в дальнейшем развитии европейской философии. В новейших формах трансцендентализма и имманентизма бытие упраздняется без остатка, превращается в содержание сознания и в формы экзистенциального суждения. Против торжествующего в рационалистической философии духа небытия Хомяков утверждает онтологизм. Для него гегелевский панлогизм не был подлинным онтологизмом. Отождествление логики с онтологией было лишь одной из форм оторванности рассудочно-логического мышления от живого бытия. Только в России, в сознании славянофилов, преодоление гегелевского отвлечённого идеализма породило конкретный идеализм, утверждающий конкретный и целостный дух как сущее. Славянофильская философия сознательно обратилась к религиозному питанию и там нашла субстрат, обрела сущее. Западная мысль после крушения гегельянства ищет сущее в материи, в чувственности, в положительной науке. Русская мысль ищет сущее в мистическом восприятии, в религиозном опыте.
Западническая философия у нас банальна и посредственна, она пересаживает на русскую почву западную мысль, преимущественно германскую, и мысль эта не в силах творить у нас самостоятельно, как творила на Западе. Только славянофильская философия у нас оригинальна, полна творческого духа. Оригинальна эта философия уже потому, что в основе её лежит религиозный опыт православного Востока: целостная жизнь духа, которую требуют славянофилы для философского исследования, и есть опыт православно-религиозный. Гносеология Хомякова прошла через германский идеализм, преодолела кантианство и гегельянство. Преодоление это совершилось не путем новой какой-нибудь философии западного образца, а путем философии целостной жизни духа. Гносеология Хомякова не разделяет субъект и объект и не рассекает дух. Хомяков принципиально утверждает зависимость философского познания от религиозной жизни, от религиозного опыта. Но это менее всего значит, что для Хомякова философия была прислужницей теологии. Славянофильская философия – не теологическая, а религиозная. Схоластическое понимание зависимости философии от теологии, католическое подчинение философской мысли церковному авторитету – всё это чуждо и противно славянофилам. Хомяков утверждает свободу философии, свободную философию, но философия свободно должна сознать, что религиозная полнота опыта и жизни духа есть источник познания сущего. Философский дух Хомякова очень глубоко отличается от философского традиционализма Жозефа де Местра, де Бональда и других французских католических мыслителей начала XIX века. Здесь, у славянофилов, была гениальность свободы, там, у традиционалистов, – гениальность авторитета. В германской философии XIX века на родственной точке зрения стоял Франц Баадер. Но Баадера славянофилы, по-видимому, не знали, и он никакого влияния на них не оказал. Хорошо знал Хомяков Шеллинга и очень его ценил. С Шеллингом славянофильская философия имеет точки соприкосновения, и там, и здесь – философия тождества. Но есть и принципиальное различие. Шеллинг был гностиком, чего нельзя сказать про Хомякова. Шеллинг философски утверждал тождество субъекта и объекта, философский момент в нём преобладал над религиозным. Хомяков религиозно утверждал тождество субъекта и объекта, религиозный момент был в нём сильнее философского. К последнему периоду философии Шеллинга Хомяков относился критически. «Примиритель внутреннего разногласия, – говорит Хомяков, – восстановитель разумных отношений между явлением и сознанием, следовательно, воссоздатель цельности духа, Шеллинг даёт разумное оправдание природе, признавая её отражением духа. Из рационализма он переходит в идеализм, а впоследствии он переходит в мистический спиритуализм. Последняя эпоха его имеет, впрочем, значение эпизодическое ещё более, чем философия практического разума у Канта, или далеко уступает ей в смысле гениальности. Первая же и действительно плодотворная половина Шеллинговой деятельности остается в важнейших своих выводах высшим и прекраснейшим явлением в истории философии до наших дней».[73 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 292.] Большой ошибкой было бы думать, что славянофильская философия была простым переложением на русский язык шеллинговской философии. Шеллинг так до конца и не обратился жизненно в христианскую веру, остался романтиком, и потому в философии его не мог быть настоящим образом использован религиозно-христианский опыт. А восточно-христианский опыт, на котором основывалось славянофильство, был ему чужд. Шеллингианцем был кн. В. Ф. Одоевский, а не Хомяков.
С славянофильской философией есть точки соприкосновения в современном прагматизме, в философии действия. Прежде всего уж то сходство есть, что и прагматизм исходит из жизни, утверждает познание как факт жизни, отрицает интеллектуалистические и рационалистические критерии истины. Славянофильская философия, по-своему, была философией действия, антиинтеллектуализмом. Для Хомякова истина открывается в действии, в религиозном опыте, в практике цельного духа. Ученик Бергсона и главный философ католического модернизма Леруа, применивший прагматическую точку зрения к догматам, настолько приближается к хомяковской точке зрения, что нам почти нечему у него учиться. Но прагматическая философия тем отличается от славянофильской, что она не знает положительного религиозного опыта,[74 - Говорю не о Леруа, а о Джемсе и Бергсоне.] не знает Логоса в действии, в практике жизни. Антиинтеллектуализм этой философии явился реакцией против интеллектуализма и потому принял форму алогизма, иррационализма. Хомяковская философия действия обретает Логос в целостной жизни духа, она исходит не просто из жизни и её нужд, а из жизни религиозной. Но антиинтеллектуализм, жизненный прагматизм, был уже в славянофильской философии. Философия эта искала критериев истины в целостной жизни духа, а не в интеллекте, не в отвлечённой логике, то есть искала критериев действенных. Динамический Логос – вот чем жива была эта философия.
Всё своеобразие гносеологии Хомякова в том, что он утверждает соборную, то есть церковную, гносеологию. Сущее дано лишь соборному, церковному сознанию. Индивидуальное сознание бессильно постигнуть истину. Самоутверждение индивидуального сознания всегда есть вместе с тем рассечение целостной жизни духа, отщепление субъекта от объекта. Целостный дух, который только и стяжает высший Разум, всегда связан с соборностью. «Все глубочайшие истины мысли, вся высшая правда вольного стремления доступны только разуму, внутри себя устроенному в полном нравственном согласии с всесущим разумом, и ему одному открыты невидимые тайны вещей Божеских и человеческих».[75 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. I. С. 282.] Только в религиозной жизни может быть источник истинной философии, так как лишь в религиозной жизни обретается соборное сознание. В религиозном же отщепенстве дух рассекается и торжествует индивидуальный рассудок – вместо разума соборного. Хомяков видит в любви, в церковном общении христиан источник и критерий познания. Это – мысль очень глубокая и смелая. В главе о Хомякове как богослове мы видели, как для него общение в любви является источником религиозного познания. Ту же идею он проводит и в своей философии. «Из всемирных законов водящего разума, или разумеющей воли, – говорит он, – первым, высшим, совершеннейшим является неискажённой душе закон любви. Следовательно, согласие с ним по преимуществу может укрепить и расширить наше мысленное зрение, и ему должны мы покорять, и по его строю настраивать упорное неустройство наших умственных сил. Только при совершении этого подвига можем мы надеяться на полнейшее развитие разума».[76 - Там же. С. 283.] И дальше: «Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без неё невозможно. Недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных: от латинства, стоящего на внешнем авторитете, и от протестантства, отрешающего личность до свободы в пустынях рассудочной отвлечённости».[77 - Там же. С. 283.]Особенно нужно настаивать на том, что соборность, общение в любви, не было для Хомякова философской идеей, заимствованной у западной мысли, а было религиозным фактом, взятым из живого опыта восточной Церкви. Только памятуя об этом, можно понять славянофильскую философию. Соборность ничего общего не имеет с «сознанием вообще», со «сверхиндивидуальным субъектом» и тому подобными кабинетными измышлениями философов, соборность взята из бытия, из жизни, а не из головы, не из книг. Соборное общение в любви и есть онтологическая предпосылка гносеологии Хомякова. Вся его гносеология покоится на этом факте бытия, а не на учении о бытии. Касание сущего, интуиция сущего возможны лишь в целостной жизни духа, в соборном общении. А это ведет к тому, что вера открывается в основе знания.
Вера первичнее, первороднее знания. В основе знания лежит вера. В первоначальном, нерационализированном сознании реальность воспринимается верой. Философия Хомякова приходит к тождеству знания и веры. «Я назвал верою ту способность разума, – говорит Хомяков, – которая воспринимает действительные (реальные) данные, передаваемые ею на разбор и сознание рассудка. В этой только области данные ещё носят в себе полноту своего характера и признаки своего начала. В этой области, предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознаёт человек, что принадлежит его умственному миру и что миру внешнему (курсив мой. – Н. Б.). Тут, на оселке воли, сказывается ему, что в его предметном (объективном) мире создано его творческою (субъективною) деятельностью и что независимо от неё. Время и пространство, или, лучше сказать, явления в этих двух категориях, сознаются тут независимыми от его субъективности или, по крайней мере, зависящими от неё в весьма малой мере».[78 - Там же. С. 327.] «Разум жив восприятием явления в вере».[79 - Там же. С. 279.] «Полнота разума или духа человеческого сознаёт все явления объективного мира своими, но идущими или от него самого, или не от него. В обоих случаях он принимает их ещё непосредственно, то есть верою… При всех возможных обстоятельствах предмет (или явление, или факт) есть веруемый, и только воздействием сознания обращается вполне в сознаваемого, и мера сознания никогда не переходит пределов или, лучше сказать, не изменяет характера, с которым принят первоначально предмет».[80 - Там же. С. 328.] Различие между реальным и иллюзорным, а также между субъективным и объективным устанавливается лишь актом веры, который предшествует логическому сознанию. Сущее воспринимается верою, оно дано до рационалистического рассечения целостной жизни духа. Торжество рационалистического сознания ведет к тому, что теряется различие между реальным и нереальным. Потому-то в современной философии и торжествует иллюзионизм и меонизм. Лишь в вере, предшествующей всякой рационализации, дано тождество субъекта и объекта и постигается сущее. «Полное разумение, – говорит Хомяков, – есть воссозидание, то есть обращение разумеваемого в факт нашей собственной жизни».[81 - Там же. С. 330.] То же почти, но иными словами, выразил Фр. Баадер, когда сказал, что познавать истину значит быть истинным. Лишь в вере человек становится истинным, обращает разумеваемое в факт собственной жизни. Вера же есть, прежде всего, функция воли как ядра нашего целостного духовного существа. Учение о воле, о волящем разуме и разумной воле составляет центр гносеологии и метафизики Хомякова. Хомяков был своеобразным волюнтаристом, был им задолго до того времени, когда волюнтаризм стал популярен в европейской философии. Но волюнтаризм Хомякова принципиально отличается от всех почти форм последующего волюнтаризма европейской философии. Его волюнтаризм соединяется с логизмом, то есть с признанием разумности воли, Логоса бытия, в то время как современный философский волюнтаризм алогичен, отрицает Логос, со времен Шопенгауэра имеет уклон к признанию воли иррациональной, слепой, безумной. Волюнтаризм Хомякова не был отвлечённым началом, воля не была отсечена от целостного, разумного духа. Хомяков возвышается над современной противоположностью волюнтаризма и рационализма.
Хомяков – волюнтарист не только в метафизике, но и в гносеологии. Философия его есть философия свободно волящего духа, она противоположна всякому детерминизму, всякой власти необходимости. Но ещё раз подчеркиваю, что его метафизический и гносеологический волюнтаризм ничего общего не имеет с алогизмом и иррационализмом Шопенгауэра или Гартмана, также отличается он от современного волюнтаризма Джемса и Бергсона, Вундта и Паульсена, Виндельбанда и Риккерта. Волюнтаризм современной европейской философии есть результат утери Логоса. Это – беспомощная борьба с рационализмом и интеллектуализмом сознания алогического. Не то у Хомякова. Хомяков исходит из целостного духа, в котором воля и разум не рассечены. Разум для него – волящий, воля – разумна. В германской рационалистической философии, в Гегеле не находит Хомяков воли, не находит и свободы. Там нет динамического разума, есть лишь разум статический. Для Хомякова «свобода в положительном проявлении силы есть воля».[82 - Там же. С. 276.] «Вся великая школа немецкого рационализма, так же как и её слабый переродок, материализм, заключала в себе бессознательно идею безвольности (нецессарианизма)».[83 - Там же. С. 313.] «Воля для человека принадлежит области до-предметной. Между тем философия до сих пор ведала только отражение предмета в рассудочном знании, и, если от неё ускользала самая действительность предмета, не переходящая в это знание, тем более была ей вовсе недоступна область сил, не переходящих в предметный образ; следовательно, недоступна была и воля. Оттого-то её и следов не находишь в германской философии».[84 - Там же. С. 276.] Только воля, только разум волящий, а не безвольный, полагает различие между я и не-я, между внутренним и внешним. «Воля в здоровом состоянии отделяет самозданный предмет от внешнего мира».[85 - Там же. С. 277.] «Воля определяет иные, как я и от меня, другие, как я, но не от меня, обличая различия первоначал, от которых истекает существование или изменение самих познаваемых предметов».[86 - Там же. С. 278.] Насколько Хомяков был чужд слепого алогического волюнтаризма, видно из следующего места: «Из всемирных законов волящего разума, или разумеющей воли (ибо таково определение самого духа), первым, высшим, совершеннейшим является неискажённой душе закон любви». Ведь Логос – Смысл мира – и есть Любовь. Начало явления Хомяков видит в «мысли свободной, то есть воле разума». «Воля – это последнее слово для сознания, так же, как оно первое для действительности. Воля разума, и прибавлю: разума в его полноте, ибо изменение явлений есть изменение в сознаваемом, но сознаваемое, как таковое, уже предполагает, или, лучше сказать, заключает в себе уже присущее существование допредметного сознания, той первой ступени мысленного бытия, которая не переходит и не может перейти в явление, всегда предшествуя ему. Итак, самое изменение явлений, совершаемое в сознаваемом, ставит уже полноту мысленного существа, и поэтому только в полноте разума находим мы начало явления и его изменений, то есть силы».[87 - Там же. С. 340.] «Никто в своей воле не сомневается, потому что он понятие о ней не мог получить из внешнего мира, мира необходимостей; потому что на сознании воли основаны целые категории понятий, потому что в ней, как я уже сказал, лежит различие между предметами мира существенного и мира воображаемого; потому, наконец, что разум точно так же не может сомневаться в своей творческой деятельности – воле, как и в своей отражательной восприимчивости – вере, или окончательном сознании – рассудке».[88 - Там же. С. 343.] Для Хомякова «необходимость есть только чужая воля», «необходимость есть проявленная воля».[89 - Там же. С. 344.] «Откуда бы мы ни шли, от своей ли личной субъективности и сознания, от анализа ли явлений в их мировой общности, одно выступает в конечном выводе – воля в её тождестве с разумом (курсив мой. – Н. Б.), как его деятельная сила, не отделимая ни от понятия об нём, ни от понятия об субъективности. Она ставит всё сущее, выделяя его из возможного, или, иначе, выделяя мышленное из мыслимого свободою своего творчества. Она, по существу своему, разумна, ибо разумно всё, что мыслимо, а она – разум в его деятельности, так же как сознание есть разум в его отражательности или страдательности, или, если угодно, восприимчивости. Обе эти степени, с посредствующею объективностью, или предметностью, где воля ставит себя предметом для сознания, присущи разуму и составляют его полноту, целость его внутреннего расклубления».[90 - Там же. С. 345.] В воле видел Хомяков сущее, но в воле разумной, в воле, тождественной разуму. В волящем разуме, в разумной воле дано тождество мышления и бытия. Воле принадлежит центральное место в гносеологии Хомякова, но гносеология его – онтологическая. Воля у Хомякова не есть понятие психологическое. Его метафизика и гносеология не может быть истолкована как психологизм. Психологизм всегда есть порождение оторванной, уединенной индивидуальной души. Соборность же противоположна всякому психологизму. Философия Хомякова может быть названа конкретным спиритуализмом, именно конкретным, а не отвлечённым. Спиритуализм его – не традиционно дуалистический. Идея свободно творящего духа – основная идея всей русской философии; её можно найти не только у философов, примыкающих к славянофильству, но и у философов, со славянофильством непосредственно не связанных. Так, например, философия Лопатина вся проникнута идеей свободно творящего духа, вся противится нецессарианизму, безвольности. В этом и Лопатин родствен Хомякову и верен основной онтологической традиции русской философии. То же можно сказать и про Козлова.
Хомякова вместе с Киреевским нужно признать основоположниками самобытной традиции в русской философии. Русская философия имеет характер онтологический по преимуществу; в ней гносеология всегда занимает подчиненное место, а проблемы логические не разрабатываются специально. Конкретное сущее – вот к чему устремляется славянофильская и русская философия. Но может ли существовать национальная философия, не должна ли философия стремиться к тому, чтобы быть истинной, а не национальной? Конечно, к истине должна стремиться философия, в любви к мудрости пафос её. Но истина не бесплотно и не бескровно раскрывается в человечестве. В великом деле раскрытия истины, всегда единой, могут быть разные миссии и назначения. Разным нациям в разные эпохи поручено раскрывать разные стороны истины. Это связано с умопостигаемой волей нации, с основным устремлением её духа. Умопостигаемая воля русского народа, целость духа его направлена на раскрытие тайны сущего, ставит русской мысли задачи онтологические. Религиозная природа русского народа ставит перед русским сознанием задачу создания синтетической религиозной философии, примирения знания и веры, в эту сторону направляет творческую мощь нашу. Онтологическое и религиозное устремление русской философии не есть подчинение истины национальности, а есть раскрытие нашей национальностью онтологической и религиозной стороны истины.
Хомяков угадал путь творческой русской философии, положил основание традиции. Но гносеология и метафизика Хомякова так же мало была разработана, как и у Киреевского, осталась отрывочной. Совсем не развита у Хомякова космологическая сторона метафизики. У него космология почти отсутствует, нет натурфилософии. Это связано с тем, что и в религиозном сознании Хомякова космология почти отсутствовала. У него нет учения о мировой душе. Отсутствие космологии – главный пробел славянофильской философии. В этом славянофильство было ниже, а не выше Шеллинга, который так выдвинул проблемы натурфилософии и космологии. Великую идею соборности Хомяков не сумел связать с учением о душе мира. Его религиозно-философское сознание слишком отталкивалось от неумирающей правды язычества, правды о земле. Она, матерь-земля, вечная женственность, почти отсутствует и в философском и в религиозном сознании Хомякова. А с ней лишь связана космологическая сторона религиозной философии. Христианская космология и есть учение о душе мира, о вечной женственности, о матери земле, это мост, связующий христианство с язычеством. В язычестве дана была женственно-земляная основа Церкви, та она, с которой соединился Логос. Отсутствие космологии в сознании Хомякова вело к спиритуалистическому уклону; преобладает у него психология над космологией. Русская философия, религиозная по духу, в дальнейшем своем развитии, в лице Вл. Соловьёва, выдвинула проблему космологическую, учение о душе мира. И то был большой шаг вперёд. Славянофильская философия, хотя и ограничилась отрывками, хотя ни Хомяков, ни другие славянофилы не оставили больших философских трактатов, но она всё же дала в истории русской мысли зрелые плоды. Образовалась русская философская традиция, наметилась возможность своеобразной философской школы. Прямыми продолжателями славянофильской традиции в философии были величайший русский философ Вл. Соловьёв, а затем кн. С. Трубецкой. Два главные философские трактата Вл. Соловьёва, «Критика отвлечённых начал» и «Философские начала цельного знания», проникнуты славянофильским духом. Идею критики отвлечённых начал и идею утверждения цельного знания Вл. Соловьёв получил от Хомякова, хотя сам недостаточно признавал это. Уже Хомяков преодолевал всякий отвлечённый рационализм и всякую отвлечённость в философии цельного знания, знания цельного духа. Хомяков утверждал цельный органический разум. Отрывочные мысли Хомякова Соловьёв привел в систему. Но на самом методе философствования Вл. Соловьёва отпечатлелись непосредственные следы гегельянства. Быть может, потому Соловьёву сравнительно легче было придать славянофильской философии форму системы. Хомяков был свободнее от гегельянства. Но я не хочу сказать, что философия Соловьёва была простым повторением славянофильских идей. У Вл. Соловьёва был большой творческий ум, и он творчески претворял все влияния. Всё-таки критика отвлечённых начал не была осуществлена Хомяковым, а лишь намечена. Соловьёв блестяще провел эту критику. У Соловьёва был философский размах и универсальная ширь, которых нет у Хомякова. Он был единственный у нас творец универсальной философской системы, по образцу великих систем Запада, главным образом Германии. Это его вклад в русскую культуру. Хомяков оставил лишь философские отрывки; Соловьёв оставил философские трактаты. Но и он, как человек русский, был слишком обуреваем духом жизни и потому не мог отдать себя исключительно кабинетным философским изысканиям. Нужно подчеркнуть оттенок, отличающий Вл. Соловьёва от Хомякова. Дух философствования Хомякова более волюнтаристический и прагматический, дух философствования Соловьёва более интеллектуалистический и логистический. И в этом Хомяков ближе нам, чем Соловьёв. После Соловьёва славянофильскую традицию в философии продолжал кн. С. Трубецкой. Его замечательная работа «О природе сознания» проникнута славянофильским духом и развивает славянофильскую идею соборности в гносеологическом её аспекте. Вся творческая русская философия борется с индивидуализмом, с падшим разумом за соборность сознания, за стяжание Логоса. В России преодолевается философия как отвлечённое начало и потому дан путь к выходу из тупика, в который зашла современная европейская философия, дана возможность преодолеть кризис философии.
Русские призваны создать религиозную философию, философию цельного духа. За это говорит весь национальный склад наш, коренное и исконное устремление нашей умопостигаемой воли. Воля ставит задачи мысли, и нашей мысли наша воля всегда ставит задачи целостного постижения смысла бытия и жизни. Наша творческая мысль не направлена на разрешение специальных проблем гносеологии и логики; роднее нам и нужнее нам решать проблемы религиозной онтологии, философии истории, этики. Это факт, с которым нельзя не считаться. Хомяков потому и может быть признан основателем русской философии, что он проник в интимнейшие интересы русской мысли, философствовал о том, что мучило русский дух. В России начинают философствовать не с того конца, с которого начинают философствовать в Германии. И это, прежде всего, различие жизненное, а не логическое, это разные мироощущения. Россия не может отказаться от своего особого мироощущения и в нём ищет источника своей философии. Мы начинаем философствовать с жизни и философствуем для жизни; в этом смысле мы прирожденные прагматисты до всякого «прагматизма». Но прагматизм наш не релятивистический и не скептический, так как связан с религиозным опытом, в котором дана абсолютная жизнь.
Даже безрелигиозная, атеистическая русская интеллигенция, исповедовавшая разные формы искажённого позитивизма, бессознательно стремилась к философии цельного духа и лишь по роковому своему отщепенству была враждебна философии славянофильской. Но особенно важно установить связь русской философии с русской литературой. Русский национальный дух нашёл своё совершенное выражение в творчестве великих русских писателей. Наша литература – самая метафизическая и самая религиозная в мире. Достаточно вспомнить одного Достоевского, чтобы почувствовать, какая философия может и должна быть в России. Русская метафизика переводит на философский язык Достоевского. Так же по Рихарду Вагнеру можно разгадать дух философии германской. Русская философия дорожит своей связью с русской литературой. И связь эта, всегда свидетельствующая об органической принадлежности к душе и телу России, не может быть разорвана никакой гносеологией, логикой и методологией. Отвлечённая логика бессильна победить дух жизни, который имеет свою органическую логику. Хомяков допрашивал дух жизни, прежде всего другого допрашивал, и в этом всё его значение. Исходная точка зрения хомяковской философии, которая является исходной точкой зрения и всей русской философии, не требует и не допускает «гносеологического» обоснования в смысле кантовской критической философии. Эта философия изначально не признает примата такой гносеологии, она онтологична в исходном, она начинает с жизни, с бытия, с данности, не даёт воли отщепенскому рассудку и его притязаниям. Гносеологизм есть философия отвлечённого рассудка, онтологизм есть философия цельного разума. Цельный же разум обретает не отвлечённые категории, а конкретные реальности. Поэтому спор критических гносеологов против славянофильской философии представляется им спором логическим, научным, культурным, сторонники же славянофильской философии понимают, что это спор жизненный, волевой, религиозный. Путь славянофильской, русской философии предполагает избрание, Эрос, напряжение всего духовного существа. В этом путь этот родствен лучшим философским традициям Греции, традициям философии Эроса.
Во времена Хомякова творческая мысль стояла перед задачей преодоления Канта и Гегеля. Ныне творческая мысль стоит перед задачей преодоления неокантианства и неогегельянства, богов меньшей величины, но не менее властных. Весь круг германского идеализма вновь проходится в модернизированной форме, с прибавлением «нео-». Хомякову и славянофилам приходилось бороться с идеализмом классическим. Ныне приходится бороться с идеализмом эпигонским. То вооружение, которое выковывалось в борьбе с классическим германским идеализмом, с вершинами западной философии, может пригодиться и для борьбы с идеализмом модернизированным. Новую мысль не может уже удовлетворить философия Хомякова – в ней много архаического, с тех времен слишком многое безмерно усложнилось. Но sub specie aeternitatis есть в философии Хомякова что-то пребывающее и неизменное. Идея философии целостного духа задана нам навеки. И навеки обнаружено саморазложение отвлечённого рассудка, падшего разума. Падший разум должен подняться, восстановить свою утерянную целостность, органичность. Тогда лишь станет возможна философия сущего, а только философия сущего есть существенная философия. Но я указывал уже на то, что в философии Хомякова почти совершенно отсутствует космология и натурфилософия. Философия, верная заветам духа славянофильского, должна прежде всего разрабатывать космологию. Это отчасти сделано Вл. Соловьёвым, но слишком диалектическим методом. Тот факт, что натурфилософский мотив не сделался основным для Хомякова, ещё раз подтверждает, что славянофильская философия не была шеллингианством на русской почве, а была явлением оригинальным и самобытным. Это явление, родственное по духу Фр. Баадеру, но и от него вполне независимое, так как питалось оно не мистикой Якова Бёме, которого Хомяков, по собственному признанию, совсем не знал, а мистикой восточного христианства. Ещё раз подчеркиваю, что философия Хомякова по духу своему – философия церковная и иначе не может быть понята. Эта философия верна истине Церкви, питается мистическим восприятием конкретных реальностей, обладает разумом не отвлечённым, а органическим. Лишь верность основной традиции философии Хомякова и Киреевского, лишь сознание своего отчества приведет к философскому возрождению России. Творческая культура невозможна без традиции, без преемственности, без своеобразия. Лишь национальной своей культурой служит каждый народ культуре мировой, делает в национальной плоти и крови вселенское дело. Это глубоко понимал Хомяков и указывал русскому сознанию путь, на котором оно может послужить делу мирового возрождения. Мы, конечно, всегда должны философски учиться у Запада, любить западную культуру, по примеру Киреевского, но мы должны, наконец, вернуть наш долг западной мысли, которой многим обязаны. Ныне вступаем мы в эпоху, когда русская философия может и должна вывести из тупика философию западную, спасти её от меонизма и иллюзионизма. Теперь переходим к самой развитой части философии Хомякова – к его философии истории.
Глава V. Философия истории Хомякова
В философии Хомякова больше всего места отведено философии истории. Проблемы философии истории особенно занимали славянофильское сознание. Кроме ряда статей, имеющих философско-историческое значение, три тома сочинений Хомякова посвящены его «Запискам о всемирной истории». Философия истории – наиболее разработанная часть философии Хомякова и всего мировоззрения славянофилов. Это объясняется исключительным интересом к проблеме истории как проблеме будущего России. Философия цельной жизни духа и должна была заинтересоваться проблемой смысла истории. В славянофильстве совершался акт национального самосознания, и уже потому судьбы истории, судьбы Востока и Запада должны были вызывать к себе исключительный интерес. Национальное самосознание всегда находит своё философское оформление в построении философии истории. Тот же интерес к философии истории был в Германии в конце XVIII и начале XIX века. Но и тут, в области философии истории, ни Хомяков, ни кто-либо другой из славянофилов не создали системы, не могли её создать и не должны были создать. Для этого их отношение к истории было слишком живое, их созерцание истории было слишком конкретное. «Записки о всемирной истории» – необработанные заметки. Это – записная книжка, дневник мыслителя. Заметки эти так и остались черновиком, они даже в таком виде не предназначались к печати. По ним можно было бы составить настоящую книгу для чтения, но в таком сыром виде записки эти неудобочитаемы, не могут быть названы, в строгом смысле слова, литературным произведением. Читают эти записки лишь специалисты. В бессистемной куче сырого материала разбросаны драгоценные мысли, блестящие интуиции, тонкие критические замечания по самым разнообразным вопросам. Хомяков ведь всегда писал разом обо всём, не дифференцируя материал, не фиксируясь на определённом предмете. У него всегда было очень определённое устремление, излюбленная мысль, которую он высказывал по всем поводам. В одной статье, как я уже указывал, он разом говорит и о Максе Штирнере, и о древнем русском обществе, и о Петре Великом, и о ничтожестве русской науки, и о личности в художестве, и об иконе, и о мирских сходках; по всем этим поводам он высказывает одну излюбленную мысль. Внешняя хаотичность изложения связана у него с огромной внутренней концентрацией мысли. «Записки о всемирной истории» с внешней стороны представляют совершенный хаос, груду сырья, неряшливый черновик. Но внутренно записки объединены одной идеей, всюду последовательно проведенной. Хомяков не любил научных исследований, он всего менее ученый. Он делает иногда фактические промахи. Цитирует он всегда по памяти, которая была у него изумительной, никогда не делает выписок. Все его «Записки о всемирной истории» написаны по памяти, без справок с книгами, и изобилуют фактами. Фактического материала даже слишком много у него для работы по философии истории. Обилие исторических фактов, чисто конкретного материала, делает «Записки» особенно устаревшими для нашего времени, не соответствующими уровню современной исторической науки. Но «Записки о всемирной истории» следует рассматривать не как историю, а как философию истории. Перед судом исторической науки «Записки» Хомякова не выдерживают критики, но они не потеряли своего интереса и значения как опыт своеобразной философии истории. Философия истории никогда не может так устареть, как история, как научное историческое исследование. Может быть, сам Хомяков не проводил достаточно ясно методологической границы между философией истории и исторической наукой, но для нас это не так важно. Его философия истории остаётся памятником нашей национальной мысли. Проблема Востока и Запада – вот центральный интерес всего славянофильского мышления; вокруг этой проблемы создавалась славянофильская философия истории. Проблема Востока и Запада – основная не только для русской философии истории, но и для русской истории, основная задача нашей истории.
Философия истории Хомякова выросла в атмосфере мирового романтического духа начала XIX века. Нельзя отрицать влияния романтического историзма на славянофилов, и этим влиянием нисколько не умаляется оригинальность славянофильства как «романтизма» чисто русского. Для рационализма XVIII века не существовало ничего исторического, органического, иррационального, облечённого в плоть и кровь. Лишь в недрах романтического движения зародился интерес к «историческому». Была поставлена проблема истории, было признано органическое, национальное, иррациональное. Почувствовали ценность традиционного, связанного с народной жизнью. Тогда же зародилась идея развития и идея органического понимания истории. Это романтическое движение, которое, как я говорил уже, было не только «романтическим», но и «реалистическим», носило мировой характер. В недрах этого движения зародилась и философия истории, и настоящая историческая наука. Историческая школа не могла возникнуть до романтической встречи с духом истории, с духом национальным. Хомяков не был романтической натурой, это достаточно выяснено в главе, посвящённой характеристике его личности. Но в его философии истории есть целый ряд романтических мотивов. Есть у него и романтическая идеализация прошлого, и признание важности художественной интуиции для истории, и органическое понимание процесса истории. В самом начале «Записок» Хомяков говорит: «В науке есть уже поэзия, потому что наука сдружилась с истиной».[91 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 6.] А дальше говорит: «Нужна поэзия, чтобы узнать историю; нужно чувство художественной, то есть чисто человеческой истины, чтоб угадать могущество односторонней энергии, одушевлявшей миллионы людей».[92 - Там же. С. 71.] История была для Хомякова развитием живого, конкретного организма. В его отношении к истории было глубокое признание отца и матери, кровной связи прошлого, настоящего и будущего. «Всё настоящее имеет свои корни в старине».[93 - Там же. С. 22.] Рационалистическое отрицание заветов отцов, заветов истории было ему глубоко чуждо и противно. Он признавал неизбежность консервативного элемента в историческом развитии, требовал благородного отношения к отчеству. Всякое отщепенство было невыносимо для него. Мы видели уже его органическую любовь к английскому торизму. Любовь к «историческому», как к отчеству, очень характерна для Хомякова. Он прежде всего хочет быть верен своей земле, своей почве, и, побуждаемый этим чувством верности, он строит свою философию истории. В сущности, Хомяков по научному своему направлению сам принадлежит к исторической школе, хотя с отдельными представителями этой школы он полемизировал. Он признаёт закономерность органического развития в истории. Он хочет быть не только религиозным мыслителем, но и ученым-историком.
Философия истории Хомякова смешивает две точки зрения: религиозно-мистическую и научно-позитивную. Трудно решить, откуда получились основные положения хомяковской философии истории – из источника научного или источника религиозного. Большая часть философско-исторических утверждений Хомякова имеет двоящийся смысл, не то научный, не то религиозный. В этом коренной порок философии истории Хомякова. У него нет сколько-нибудь ясной методологии исторического познания. В основании его философии истории лежат две идеи: во-первых, та идея, что движущим началом исторической жизни народов является вера, во-вторых, идея противоборства двух начал в истории человечества – свободы и необходимости, духовности и вещественности. Обе идеи добыты Хомяковым религиозно-философским, а не научно-философским путем. За исторической наукой Хомякова скрыта идея религиозная: признание веры таинственной первоосновой истории народов и свободного духа как творческого начала истории. Хомяков глубоко презирает предрассудки ученых-историков, их безжизненность, их формализм и схоластику. «Из-под вольного неба, от жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей, книжники гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам существенности и правды».[94 - Там же. С. 42.] Свои «Записки о всемирной истории» Хомяков начинает со слов: «Человек, царь и раб земной природы, признаёт в себе высшую, духовную жизнь. Он сочувствует с миром, стремится к источнику всякого события и всякой правды, возвышается до мысли о божестве и в нём находит венец всего своего существования. Темно ли, ясно ли его понятие, вечной ли истине или мимолетному призраку приносит он своё поклонение, – во всяком случае, вера составляет предел его внутреннему развитию. Из её круга он выйти уже не может, потому что вера есть высшая точка всех его помыслов, тайное условие его желаний и действий, крайняя черта его знаний. В ней его будущность, личная и общественная, в ней окончательный вывод всей полноты его существования, разумного и всемирного».[95 - Там же. С. 8.] Дальше он говорит о том же: «Вера есть совершеннейший плод народного образования, крайний и высший предел его развития. Ложная или истинная, она в себе заключает весь мир помыслов и чувств человеческих».[96 - Там же. С. 168.] Хомяков устанавливает религиозно-философские предпосылки своей философии истории. Но вместе с тем его философия истории претендует на научность, в ней много места занимает этнография и лингвистика, большое значение придаётся моменту расовому. Основной интерес хомяковской философии истории – обоснование славянского и русского мессианизма. И вот мессианизм этот он хочет обосновать научно, этнографически, лингвистически, а не религиозно-пророчески и мистически. Веру и творчество свободного духа он берет как эмпирические факты истории и эмпирически хочет показать великие преимущества славянства и России. Таким образом, наука легко фальсифицируется, создаются фантастические теории об особом значении славянского языка и славянства, англичане признаются славянами и т. п. Славянофильской науки не может быть, и нельзя ставить русский мессианизм в зависимости от такой сомнительной науки. Нельзя обосновать никакого мессианизма на вере как историческом и этнографическом факте, то есть на вере как объекте исторического познания; мессианизм можно обосновывать лишь на вере как факте внутреннего откровения и прозрения, на вере как субъекте познания.
Хомяков ставит пророческую проблему Востока и Запада как основную в русской философии истории и русской истории, но решает её не в духе пророческом. У него нет пророческого истолкования истории и нередко встречается морализирование над историей. В его философии истории этика преобладает над мистикой. В ней есть религиозно-нравственная оценка, но нет религиозно-мистических прозрений. Нет у Хомякова мистических прозрений времен и сроков всемирной истории, нет эсхатологии в его философии истории, нет идеи конца. Нет апокалипсиса в его христианской философии истории; а лишь в апокалипсисе дана пророческая мистика истории. Славянофилы были бытовики, и дух бытовой проникает всю их философию истории. Поэтому нет катастрофичности в хомяковской концепции истории, нет трепета и жути перед таинственными историческими судьбами; много бытового благодушия. Философия истории Хомякова потому уже не может быть названа последовательной и выдержанной в духе религиозно-мистическом, что нет в ней катастрофического конца, нет трагической борьбы духа Христова с духом Антихристовым. Силы духа Антихристова в истории Хомяков не чувствовал: слишком уютно жилось ему в русском быте, в помещичьей усадьбе, в семье. И вся история представлялась ему окрашенной в этот бытовой, семейственный, усадебный цвет, всего же более история русская, история славянская. Философия русской истории Хомякова и славянофилов немало в себе заключает благодушия и благополучия. И Хомяков выводит русский мессианизм из русской истории как бытового факта, как эмпирии. И нет в этом мессианизме задачи, вверенной человеческой свободе, и нет трагизма, с свободой связанного. Мистика истории, мессианские пророчества стоят у Хомякова в слишком большой зависимости от науки, от лингвистики, этнографии и т. п., от эмпирического быта. Но мистика так же не может зависеть от науки, как наука не должна зависеть от мистики. Всё-таки Хомяков пишет свои записки о всемирной истории так, как будто история не подвергается непрерывному воздействию Промысла Божьего, не есть осуществление пророчеств, и нет в ней трагического столкновения творческой свободы с судьбинами Божьими. Для мистика история есть откровение. Морализирование же над историей заключает в себе опасность уклона к деизму. Борьба свободы с необходимостью, духа с вещественностью, которую Хомяков повсюду видит в истории, может совершаться в пределах тварности и не вести к столкновению с Божьим Промыслом. Остаётся неясным, был ли для Хомякова исторический процесс откровением и осуществлением пророчеств? Неясно из его философии истории, какую роль в историческом процессе играет Церковь как онтологическая реальность. В истории он как бы не чувствует жизни мировой души. Для него как бы существует лишь откровение в индивидуальных душах, а не в душе мира. Нет для него великой тайны соотношения мужественного и женственного в истории (не в человеке, а в человечестве).
Философия истории Чаадаева была более последовательно религиозной, чем философия истории Хомякова; у Чаадаева меньше было притязаний на научное обоснование религиозного смысла истории. В католичестве была традиционная философия истории, было учение о провиденциальном плане истории, о действии промысла Божьего в истории. Философия истории есть у Бл. Августина, у Боссюэ, у французской теократической школы начала XIX века. Православной философии истории не существовало. Католический уклон Чаадаева помог ему утверждать религиозную философию истории. Исключительная же православность Хомякова затрудняла создание религиозной философии истории. В православии не было того активного отношения к истории, которое было в католичестве. Поэтому или совсем не может быть православной философии истории или может быть апокалиптическая философия истории, с резкой постановкой проблемы эсхатологической. Католическая же философия истории существует и вне апокалиптических перспектив. Но мы видели, что апокалипсиса у Хомякова нет, что эсхатологическая проблема им не поставлена. Поэтому его философия истории не может быть точно названа православной и религиозной, в ней есть религиозно-нравственные предпосылки, но нет провиденциального плана истории. У Чаадаева есть провиденциальный план истории, и его философия истории может быть названа религиозной, но в духе католическом. Философско-историческую проблему Востока и Запада Хомяков решает на риск собственного разума, а не разума церковного, и в его решении религиозный момент незаметно смешивается с научным и позитивно-бытовым. У Вл. Соловьёва философия истории определяется более религиозно и мистично, чем у Хомякова, и это объясняется пророческим духом Соловьёва. В его «Истории и будущности христианской теократии» есть гениальные мистические прозрения, есть удивительное понимание пророчеств. Вл. Соловьёв признавал мистический субъект истории – мировую душу и проникал в тайну её всемирно-исторической судьбы. Он стоит на грани новой мировой эпохи, когда апокалиптическое сознание зарождалось в России. Для Хомякова не существует ни мировой души, ни апокалиптического сознания, в этом его границы, его замкнутость. Слабые стороны хомяковской философии истории дальше развивали такие эпигоны славянофильства, как, например, Данилевский. Философия истории Данилевского совсем уже не религиозная и не мистическая, это quasi-научная и quasi-позитивная философия истории. «Славянофильская наука» вырождается в какой-то недопустимый натурализм. Данилевский откровенно-натуралистически обосновывает великое призвание России, славянофильство его оправдывается не религиозно, а естественнонаучно, этнографически, лингвистически, учением о расах и типах развития. Это натуралистическое славянофильство есть и у Константина Леонтьева, в котором ложный натурализм сочетается с мистицизмом и с религиозным ужасом. В славянофильской философии истории допущены были элементы языческого натурализма, и они-то и привели к вырождению и одичанию национализма совсем уж не религиозного. У Хомякова натурализм сочетался с морализмом, потом натурализм освободился от всякой морали; но оба момента препятствовали созданию религиозной философии истории. Все эти недостатки не мешают нам признать философию истории Хомякова опытом замечательным, местами почти гениальным.
Самая замечательная, наиболее приближающаяся к гениальности идея Хомякова, положенная в основу его «Записок о всемирной истории», – это его деление действующих в истории сил на кушитство и иранство. Из стихии кушитства выходит религия необходимости, власти естества, магизма. Из стихии иранства выходит религия свободы, творящего духа. Во всех почти языческих религиях видит Хомяков торжествующую стихию кушитства. Дух иранский всего более выражен в религии еврейской. Христианство же есть окончательное торжество иранства, религии свободы, религии творческого духа, победившего все религии необходимости, – религии магии естества. «Первый и главный предмет, на который должно обратиться внимание исторического критика, есть народная вера… Мера просвещения, характер просвещения и источники его определяются мерою, характером и источником веры. В мифах её живет предание о стародавних движениях племен, в легендах – самая картина их нравственного и общественного быта, в таинствах – полный мир их умственного развития. Вера первобытных народов определяла их историческую судьбу; история обратилась в религиозный миф и только в нём сохранилась для нас. Таково общее правило, от которого должны отправляться все исследователи древности».[97 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 131.] Что мифология и есть древняя история, что история религии и есть содержание первобытной истории, – эту мысль Хомяков разделяет с Шеллингом.[98 - См.: Schelling’s Werke. Dritter Band, 1907. С. 588.] Поэтому философия первобытной религии и есть для Хомякова начало философии истории. Взгляды Хомякова на языческую мифологию очень устарели, но основное его деление на кушитство и иранство заключает в себе мысль религиозно-философского характера и потому возвышается над развитием исторической науки о религии. Отпадение привело к утере свободы, подчинению необходимости, к овеществлению. Иранство основано на предании о свободе, кушитство – на торжестве необходимости. В иранской религии дано знание о свободе, в кушитстве – знание о необходимости. «Все древние веры делятся на два разряда: на поклонение духу как творящей свободе и на поклонение жизни как вечно необходимому факту. Наружным признаком их нашли мы обоготворение змеи или ненависть к ней».[99 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 324.] «Сравнение вер и просвещения, которое зависит единственно от веры и в ней заключается, приводит нас к двум коренным началам: к иранскому, то есть духовному поклонению свободно творящему духу, или к первобытному высокому единобожию, и к кушитскому – признанию вечной органической необходимости, производящей в силу логических неизбежных законов. Кушитство распадается на два раздела: на шиваизм – поклонение царствующему веществу, и буддизм – поклонение рабствующему духу, находящему свою свободу только в самоуничтожении. Эти два начала, иранское и кушитское, в своих беспрестанных столкновениях и смешениях, произвели то бесконечное разнообразие религий, которое бесчестило род человеческий до христианства, и особенно художественное и сказочное человекообразие. Но, несмотря ни на какое смешение, коренная основа веры выражается общим характером просвещения, то есть образованностью словесной, письменностью гласовою, простотою общинного быта, духовною молитвою и презрением к телу, выраженным через сожжение или предание трупа на снедь животным в иранстве, и образованностью художественною, письменностью символическою, условным строением государства, заклинательною молитвою и почтением к телу, выраженным или бальзамировкой, или съедением мертвых, или другими подобными обрядами, в кушитстве».[100 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 530-531.] У гностиков Хомяков видит торжество кушитского начала, для которого характерен символ змеи. «Вражда между началом еврейским и кушитским выражалась во всем развитии жизни израильской. И после падения самого Израиля, много времени после падения Египта, она выразилась ещё живее в учении гностиков и именно гностиков-офитов, прямых и бесспорных наследников египетской и финикийской мысли. Хотя они уже стыдились прежних грубых понятий, хотя они отчасти отвергли двойственность органическую, слишком нагло оскорбляющую чувство человеческое, но прежний владыка народа израильского (Саваоф) всё-таки представляется им как начало злое, и злое именно потому, что оно творящее-свободное, и потому, что оно призывает своё творение к свободной духовной жизни. Оттого-то для них змей, призвавший людей к жизни вещественной, к покорности законам мира необходимости, змей есть посланник высшего, доброго начала. Гнозис есть знание, но не знание свободы, а знание необходимости. Происхождение его из египетско-финикийской системы доказывать не нужно: оно ясно и неоспоримо; но в нём особенно замечателен символ змеи. Во всех религиях чисто иранских змея представляет зло, в кушитских – добро».[101 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. V. С. 219.] Иранство ведет к теизму, утверждает свободное творчество Личного Духа, кушитство ведет к пантеизму и к учению об эманации. Иранство выразило себя в слове, это религия слова; кушитство выразило себя в зодчестве, в памятниках вещественных, это религия бессловесная. «Ключ развития кушитского, коренное направление его – чисто вещественное, воздвигнувшее столько гигантских памятников в зодчестве и ваянии и не завещавшее нам ни одного слова, вдохновенного поэзиею и проникнутого животворною мыслью. Буддизм достигает высокой духовности, но только в смысле отвлечённости от вещества. В этой духовности нет самобытного и живого двигателя; она есть не что иное, как отрицание, возведенное до религиозного значения… Учение буддистов было и есть служение небытию… Оно скрыло грубую вещественность, из которой оно родилось, и заменило призраком эманации ясную форму рождения… Тип первоначальный сохранился упорно и неизгладимо. Буддизм точно так же подчинен необходимости, точно так же лишен нравственного двигателя, как и шиваизм; но то, что являлось в веществе под призраком жизни, обличило свою безжизненность, когда перешло в область духа творческого и не приняло в себя начала свободно творящего».[102 - Там же. С. 224.] Торжество кушитского начала необходимости и вещественности Хомяков прослеживает и на дальнейшей судьбе философии. «Те самые явления, которые встретились нам при изучении кушитского вещественного служения, должны повториться и действительно повторяются во всех философиях, исторически и логически возникших из материализма или из воззрения на неизменную последовательность видимой природы или познающего ума, который есть не что иное, как зеркало познаваемого мира. Тайное учение о необходимости проглядывало и пребывало во всех изменениях философической формы, будь она скепсисом или догмою, анализом или синтезом. Система опровергаемая возникла снова в системе опровергающей, по закону прямого антагонизма; и после бесконечных толков о сущности, бытии, знаемом, знающем и знании все усилия самого смелого разума могли дойти только до вывода отрицательного, до самоуничтожения необходимости в сознании. Но так как отрицание не удовлетворяло всем требованиям ума, свобода отрицательная объявила мнимые права на достоинство воли и назвала себя свободным сознанием необходимости – бедная логическая увертка, выведенная упорным трудом германского мышления из логических, то есть необходимых, законов вещественно-умственного мира. Правая или неправая, эта философия получила своё полное и законное развитие; но самолюбивое умствование нашего времени не должно пренебрегать глубоким смыслом обрядности веков доисторических. Кушитство, в своем отвлечённом направлении, должно было уже издревле переходить в совершенную безличность, в пантеизм».[103 - Там же. С. 225.] Одно и то же кушитское начало Хомяков видит и в финикийской религии, и в буддизме, и в материализме, и в Гегеле. «Иран основал своё верование на предании о свободе или на внутреннем сознании её. Кушитов мы должны угадывать; иранцы сами себя высказывают. Первое место между их показаниями по древности, определённости и простоте занимают писания народа израильского; второе, бесспорно, принадлежит брахманизму, несмотря на бессмысленную примесь других религий; наконец, третье, ясно выраженное понятие о свободе нравственной, заключается в книгах, приписанных Зердушту. Области же, в которых оно утратилось в бесхарактерном синкретизме, Вавилон, Ассирия, Финикия и Эллада, доставляют критике только немногие намеки на первоначальные верования, но не содержат в себе ничего истинно органического. Шиваизм стихийный был изображен дуализмом производящим, символом грубой необходимости; буддизм созерцательный принял форму эманации непроизвольной, следственно, необходимой. Ясно и решительно отправляясь от начала, совершенно чуждого системе кушитской, иранская религия возводит все видимое и частно живущее к вечно сущему духу, давая ему разные названия, смотря по местности, характеру языка и направлению младенческой мысли человека. Бог, в значении Творца, есть основная характеристическая черта иранства. Свобода положена началом, благонравственное – высокою целью всякого дробного бытия».[104 - Там же. С. 230.] Фактически в истории языческих религий произошло синкретическое смешение иранства, хранившего божественное предание о свободе и творчестве личного духа, с кушитством, подчинившимся необходимости и веществу. На почве этого смешения и была создана система эманации, в которой искажена была идея божественного творчества. «Свободная сила духа не терпит никаких ограничений, она не может разделить область мировую с другим началом, она просит власти, а не свободы. Мир чужд ей, и она чужда миру, если мир имеет в себе какую-нибудь самостоятельность, какой-нибудь зародыш независимости и не признан за проявление свободного проявляющегося духа. Малейший угол мира, не зависимый от духа, достаточен для необходимости. Как скоро её права сохранены, как скоро в ней признана какая-нибудь самобытность, с неё довольно: от этой легкой примеси воля духовная обратится в бессмысленный произвол и утомится в бесплодной борьбе против непокорного вещества. Необходимость есть факт и не что иное, как факт. Независимость факта есть торжество необходимости. Дух борется и страдает; факт живет без смысла, без сознания, без страданий».[105 - Там же. С. 322.] «Во времена исторические иранское учение принадлежит уже одним евреям».[106 - Там же. С. 323.] «Ирану свято было всё, даже вещественное, в чем проявлялся дух свободный и творящий; свят был звук слова, облекающего мысль, и свято было письмо, условный образ, данный этому звуку. Кушу свято было вещество грубое, стихийное и бессмысленное, свято было художество, естественный образ его бытия, и гиероглиф, полуестественный образ его действия».[107 - Там же. С. 368.] Иранство создало мировую литературу, поэзию, священные письмена, слово. В иранстве есть Логос. Кушитство создало громадные вещественные памятники, архитектуру и скульптуру. В кушитстве нет Логоса. Это коренная мысль Хомякова.
Взгляды Хомякова на античность, на греческую религию очень устарели. После Ницше, Роде, Вяч. Иванова нельзя так говорить о Греции, как говорит Хомяков. Только теперь открылась в Греции, в язычестве, мировая душа и совершавшаяся в ней трагедия, уготовлявшая пришествие Христа. Хомяков недооценивал великое значение язычества для христианства. Язычество дало основу Церкви – землю, душу мира. В язычестве, всего более в Греции, раскрывалась мировая душа для восприятия Логоса. В еврействе, в Ветхом Завете, было лишь откровение Бога. Этого откровения мировой души в язычестве Хомяков не чувствует, не знает он, что в душе Греции трепетала душа мира и шла ко Христу: Хомяков слабо чувствовал вечно женственную основу Церкви, матерь-землю, Матерь Божью. Традиционно-богословское, семинарское отношение к язычеству отравляет и по сию пору христианский мир, закрывает великие тайны, и оно должно быть преодолено в интересах церковного возрождения. Хомяков был свободен от семинарского богословия. Но у него не было прозрения правды язычества, он не чувствовал мистической Греции и потому сбивался на взгляд традиционно-богословский. А ведь не только история Греции, но и вся мировая история должна быть пересмотрена, в ней должен быть по-новому раскрыт религиозный смысл, религиозный, а не богословский. Вот что говорит Хомяков о Греции и Риме: «Если Рим когда-нибудь выказал хоть темное предчувствие богопознания, если творческая мысль эллинов угадала бытие Верховного Духа или отражение его в душе человеческой, то в этих поздних явлениях можно видеть только влияние Востока иранского или пробуждение собственного сознания просвещённого философа. Никогда ни в Элладе, ни в Риме философское умозрение не возвышалось до религии. Оно всегда оставалось на низшей ступени логического вывода, или инстинктивной догадки, или школьного тезиса, чуждого жизни и неспособного к проявлению наружному. Мы видели, что таинства элевсинские и другие могли содержать в себе слабые отзывы живого богопознания иранского; мы можем смело сказать, что кушитское поклонение стихийной неволе сохранилось в таинствах Диониса».[108 - Там же. С. 331.] Мистическая Греция не была ещё открыта во времена Хомякова и не была дана ему в личных прозрениях. Религиозное сознание Хомякова не было обращено к женственной стихии как вечному и самостоятельному началу, без которого нет Церкви и не было бы явления Христа в мир. «Иранство» Хомякова и есть начало исключительно мужественное, а «кушитство» – начало женственное. Исключительное утверждение иранского духа и есть исключительное утверждение религии мужественной, религии солнечной. Но ведь христианство есть религия мужественно-женственная, религия соединения двух начал, соединения Логоса с Мировой Душой, Светоносного Мужа с Женственной Землей. Кушитская стихия была источником рабства и хаоса, но в ней жила женственность, способная к просветлению. В этом принижении женственности как стихийной, земляной основы христианской Церкви – главный недостаток всего учения Хомякова об иранстве и кушитстве. Торжество правды представлялось Хомякову исключительным торжеством иранской мужественности. «Дух восторжествовал над веществом, и племя иранское овладело миром. Прошли века, и его власть не слабеет, и в его руках судьба человечества. Потомки пожинают плод заслуг своих предков, заслуг, высказанных и засвидетельствованных неизменностью слова. Величие Ирана не дело случая и условных обстоятельств. Оно есть необходимое и прямое проявление духовных сил, живших в нём искони, и награда за то, что из всех семей человеческих он долее всех сохранял чувство человеческого достоинства и человеческого братства, чувство, к несчастью, утраченное иранцами в упоении их побед и вызванное снова, но уже не собственною силою их разума».[109 - Там же. С. 528-529.] Хомякову чужда была мистика мировой души, и нет её в его концепции мировой истории. Недостаточно он сознавал, что в христианстве хранится тайна богоматериализма. Иранство было исключительным «духопоклонением», христианство же есть также освящение плоти, преображение земли. У Хомякова был ещё тот традиционно-богословский взгляд, по которому откровение было дано лишь Израилю, у других же народов иранства хранится лишь память о первоначальной судьбе человека, рассказанной в Библии. Взгляд этот не выдерживает научной критики и носит на себе печать религиозной ограниченности. Характерны слова Хомякова: «Высокое значение творческого духа проявляется во многих, особенно в богах, почти никогда в богинях, в которых (так как они совершенно чужды Ирану) кушитское начало преобладает».[110 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VI. С. 40.] Вот уж кого вечно женственное не притягивало, так это Хомякова.
Деление на иранство и кушитство лежит в основе хомяковской философии истории. С этим делением связано и решение основной проблемы философии истории, проблемы Востока и Запада. С первых же слов своей философии истории, когда Хомяков говорит об иранских и кушитских религиях, он подготовляет почву для обоснования миссии православного Востока, славянства и России. На Западе, в европейской культуре, в католичестве, очевидно, должно восторжествовать кушитство и исказить христианство. Там – дурной магизм, власть вещественной необходимости, господство логически-рационалистического начала в сознании. В католичество перешёл кушитский дух Древнего Рима. На Востоке, в православии, в русской культуре должно торжествовать иранство, чистое христианство, цельность духа и свободное его творчество. Лишь православная Россия хранит, по Хомякову, предание о свободе духа, в ней наиболее чисто выразился дух иранства. Поэтому православная Россия придаёт так мало значения всему внешнему, вещественному, формальному, юридическому; для неё главное – дух жизни. Борьба христианского Востока и христианского Запада и есть борьба иранской и кушитской стихии внутри христианского мира, борьба духовной свободы и вещественной необходимости, нравственного и магического. О Риме Хомяков говорит: «Из необходимости возникали и крепли личная свобода, законность и одностороннее напряжение ума, которое обращало каждого римлянина в законодателя и законоведца, убивая в то же время в душе его все стремления свободы духовной, все высокие желанья мысли и всю существенность внутренней жизни. Такое развитие личной свободы и семейственности, хотя уже искажённой, чувства внешней правды и обоготворение самого государства, которого польза была высшим из всех законов, дало Риму силу необоримую, неутомимое постоянство, гордое сознание своего превосходства перед всеми другими, менее стройными обществами и несомненную победу во всех борьбах с иными племенами и державами. Но односторонность развития чисто внешнего готовила Риму гибель в самом его торжестве, отняв все духовные основы нравственности, заменив все начала естественные началами условными и произвольными и уничтожив возможность жизни религиозной и мирной».[111 - Там же. С. 359.] «Рим дал западному миру новую религию, религию общественного договора, возведенного в степень безусловной святыни, не требующей никакого утверждения извне, религию права, и перед этой новой святыней, лишенною всяких высоких требований, но обеспечивающей вещественный быт во всех его развитиях, смирился мир, утративший всякую другую, благороднейшую или лучшую веру».[112 - Там же. С. 402.] Тот же дух Древнего Рима Хомяков чувствует в римском католичестве и с ним связанной европейской культуре. Дух Рима есть прежде всего дух государственный, дух вещественной необходимости, это – дух кушитский. «Соединение людей в искусственную форму государства, форму чисто внешнюю, это соединение было чуждо иранскому духу. Оно было принято как необходимость внешняя, как средство отпора против совокупности сил кушитских».[113 - Там же. С. 36.] Так подготовляет Хомяков обоснование безгосударственного характера славян и русских – носителей стихии иранской.
Нелюбовь к Риму – движущий мотив всей философии истории Хомякова. Византии он отдаёт явное предпочтение, хотя и к Византии относится критически. Подлинный дух иранский он видит лишь в славянстве, лишь в русском народе. «В победе над религиею, государственною и внешнею, оно (христианство) приняло характер религии побежденной, характер внешний и государственный. Оно требовало не любви, а покорности, не веры, а обряда. Единство истинное, живое, единство духа, высказывающееся в единстве видимых форм, заменилось единством вещественной нормы, а понятие об этой норме перешло мало-помалу в понятие о власти, ставящей норму, в понятие о касте, заведующей духовным делом, о духовенстве, признанном за церковь по преимуществу и, наконец, об одном епископе, епископе Древнего Рима, выражающем и полное единство учения, и полное единство духовной власти, и её безусловную непогрешительность. Идея права лежала в основе римской жизни, и римская жизнь, передающая новое начало просвещения германским завоевателям, передала им идею строго логического права, не только в быте государственном, условном и, следовательно, невозможном без подчинения праву логическому, но и в жизни духовной и религиозной. Кушитское начало логической необходимости проникло в учение, завещанное иранскою Иудеею, и придало отношениям человека к Богу значение вечной тяжбы, молитве и таинству – смысл заклинания, любящей вере – характер принудительного закона».[114 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VII. С. 43.] «Для римлянина, создавшего самое могучее из всех государств и науку права, доведенную до возможнейшего совершенства логической последовательности, вера была законом, а Церковь – явлением земным, общественным и государственным, подчиненным высшей воле невидимого мира и главы его Христа, но в то же время требующим единства условного и видимых символов этого правительственного единства. Символ единства и постоянное выражение его законной власти должен был находиться в римском епископе как пастыре всемирной столицы».[115 - Там же. С. 197.] «Древний Рим налагал свою печать на новое христианство Запада. Гордость прежней власти и прежнего утраченного величия была наследством, от которого не могли отказаться ни римляне позднейшей эпохи, ни их духовные пастыри».[116 - Там же. С. 198.] «Императорство было, очевидно, неспособно обнять все приложение древнеримской идеи правомерного государства к новой христианской эпохе: оно не содержало в себе начала самоосвящения, которого требовала мысль христианская; ибо Запад не понимал ещё невозможности совмещения понятий христианских и понятий о государстве, то есть воплощения христианства в государственную форму (курсив мой. – Н. Б.)».[117 - Там же. С. 424.] «Христианство было продолжением и конечным заключением предания о свободно-творящем духе и свободе духовной. Его торжество нанесло, по-видимому, решительный удар кушитским религиям – поклонению органической необходимости, в какой бы форме она ни являлась, и всем религиям, основанным на условном умствовании или условной символизации. Но трудно было сохранить неприкосновенной его первоначальную строгость и чистоту в волнениях жизни государственной, утвержденной на условиях вольных или невольных, и в движениях мысли, черпающей материалы своих познаний из наук, выработанных миром, вполне принадлежащим системе кушитской. Западные народы, поняв самую Церковь как государство веры, ввели прежние начала в самые недра учения, которое приняли от первых проповедников христианства. Цельность свободного духа была разбита рационализмом, но рационализмом, скрытым под формою юридическою… Христиане являлись как подданные, покорные решениям этой власти. Представители церкви отделились, естественно, от её подданных и должны были получить название, соответствующее своему новому значению – церковников, в отличие от народа».[118 - Там же. С. 448.] Католическая церковь была для Хомякова imperium romanum, созданием духа кушитского. Он не видел в римской церкви свободы и любви. И всё западное христианство представлялось ему не подлинным, поддельным. Он отрицал, что в основе западноевропейской культуры лежит христианство, видел лишь язычество, кушитское и римское. В этом коренная ошибка всей хомяковской философии истории.
Отношение Хомякова к Византии запутанное. Он понимал, что «жизнь политическая Византии не соответствовала величию её духовной жизни».[119 - Хомяков А. С. Собр. соч. Т. VI. С. 50.] Он видел коренной дуализм Византии, которая хранила догматическую правду христианства и не осуществляла общественной правды христианства. В Византии «признавалась просветительная сила христианства, но не сознавалась его строительная сила». По мнению Хомякова, Византия от Рима получила преклонение перед государством, абсолютизм государства. И остаётся непонятным, почему для него Византия лучше Рима. Христианский Рим никогда не доходил до такого холопства перед государственной властью, до какого дошла Византия. Хомяков прекрасно понимал, что православие русское очень отличается от православия византийского. Для славянства государственность никогда не была таким идолом, как для Византии. И всё же Хомяков восхваляет Византию в ущерб Риму. Справедливо он видит в восточном православии дух соборности и противополагает его духу абсолютизма в римском католичестве. На Востоке соборы были выражением общего мнения церковного народа. Но Византия тут ни при чем. Дух Византии – дух государственного абсолютизма. В Византии произошло какое-то роковое омертвение христианства, динамика остановилась, дух жизни угас и остались лишь иконы, лишь темные лики, лишь статика. Второй Рим должен был пасть, он бессилен был выполнить своё христианское призвание. У Хомякова было слишком мягкое отношение к иконоборчеству, он боялся, что иконопочитание может перейти в идолопоклонство – уклон, характерный для византийского духа. Но недостаточно он сознавал, что дух иконоборческий заключает уже в себе рационалистическую отвлечённость.
Хомяков не любил романских народов и романской культуры, и эта нелюбовь искажала его философию истории. Не чувствовал он пластической красоты романского и латинского духа. Не понимал он того, насколько кровь романских народов глубоко христианская. Хомяков любил Англию, верил в Англию, ждал от неё великого будущего. Англия – его слабость и прихоть. Протестантскую культуру англосаксонцев и германцев он ставит выше католической культуры романских народов. Мы видели уже, что протестантизм он предпочитал католичеству, протестантизм считал неизбежной карой за грехи католичества. Хомяков не замечал, насколько пангерманизм глубоко враждебен панславизму, не чувствовал он всемирно-исторического германского движения в направлении германизации славян. Англия и Германия по крови своей всегда были недостаточно христианскими, и потому в странах этих разыгралась трагедия протестантизма. Германский дух, создавший великую культуру, – всё же недостаточно христианский дух по кровно-расовым своим предрасположениям. Это видно по пантеистической мистике Экхарта, характерной для всего направления германской культуры. Это ясно видно и на национальном гении Германии XIX века, Рихарде Вагнере, который хотел обратиться в христианство, но остался скорее буддистом, скорее верным духу Индии, чем христианином.