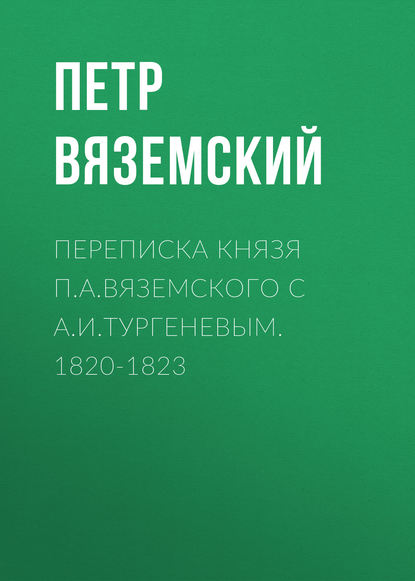По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1820-1823
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Апраксин. Правда ли, что папа умер?
– Говорят, так.
Апраксин. Кого назначат на его место?
– Неизвестно!
Апраксин. Верно, военного.
Сделай милость, пришли циркуляр губернаторам и все тому подобное. В. С. Новосильцов опять писал Николаю Николаевичу о губернаторском месте, уверяя, что Приест неминуемо будет проситься прочь: Николай Николаевич, который уже раз за него обжегся, неохотно попытается в другой; замолви стороною Кочубею или через племянника его, которого я видал у Карамзиных: Николай Николаевич будет тебе благодарен. Я ему сказал, что поручу тебе это дело партикулярно.
17-го августа.
Это письмо лежит у меня с отъезда эстафеты, которую, Бог весть как, прозевал. Государь приехал 15-го вечером; ничего еще не делается.
В Париже открыт заговор против королевской фамилии. Правительство уже с некоторого времени о нем знало и хотело ему дать созреть, чтобы нанести удар решительнейший и полнейший. Парижские войска в нем участвовали, даже частью и королевская гвардия. Ночью захватили 32 заговорщика, которые пришли в казармы и хотели вести полки овладеть замком Vincennes, а оттуда – Тюллерийским, все перерезать и провозгласить сына Наполеона, а Евгения Богарне правителем. Впрочем, по отъезде курьера, который прилетел сюда в восьмой день, в Париже все было покойно.
Каждый приезд государя наносит мне флюс, и я нынешнюю ночь страдал, как мученик. Вырванный зуб и пиявицы облегчили меня немного. прости, более сказать нечего, некогда и нет сил.
Скажи Гречу, что надеюсь доставлять ему журнал предстоящего сейма. Сколько мог бы он мне отделять листов на то в каждой своей книжке? Отвечай на это скорее.
292. Тургенев князю Вяземскому.
18-го августа. [Петербург].
Письмо твое от 6-го августа получил и другое, перелюстровав, к Жуковскому отправил. Доставлю мои замечания на прелестные «Воспоминания», но вперед прошу присылать ко мне, а не к нему, ибо кто старое помянет, тому глаз вон. Пиши вспоминания, но не помни то, что убивает поэзию души, следовательно и жизни.
Я получил от одного из моих чиновников известие с Кавказа о Пушкине. Он там с Раевским. Дело Скибицкого ко мне не поступало. Уведомь, где оно? Писать совершенно некогда. Помешал Закревский. Тургенев.
Булгаков уезжает в пятницу.
293. Князь Вяземский Тургеневу.
20-го августа. [Варшава].
То ли дело, как дурь с себя откинешь! И письмо, как письмо, и ты, как ты, и я, как я: говорю о одиннадцатом августа. Ничего. нового, кроме того, что еще один зуб я себе вырвал, а великий князь еще воевал какие-то белые шляпы краковских студентов: при себе велел их окроить и выслал за город. И это в присутствии царя, и это перед открытием сейма! Вчера должен был быть смотр войск, но дождь заставил отложить до завтра.
Я послал к тебе с курьером письмо из Царьграда при своем и благодарю за доставление другого. Мало по малу свита съехалась. Чернышев постарел, похудел и пожелтел чрезвычайно. Ожидаем с нетерпением встречи его с женою, которая здесь и намерена показываться. Я еще ничего не знаю о его подвигах и о возмущении казаков.
Нельзя ли как-нибудь взять список с записок Храповицкого или купить? Я охотно заплатил бы за них.
Едва ли не придется воротиться на старое: будущее как-то туго становится. Над нами носится какой-то дипломатический пар. Обстоятельства европейские важны, прямодушие дельцов несомненно, но сильны ли головы их? Ясны ли их взоры? Нет ли чего-то тут облачного? Изо всех концов мира съезжаются курьеры, канцелярия день и ночь работает. Что из всего этого будет? Конечно, насильственные меры народов нехороши, но что же делать, когда правительства кривят душою и путаются. Я говорю этим господам: «Ведь не бесовское же навождение ставит вверх дном Европу.» Смятение – людское: не ищите причин ему в мире метафизики заоблачной, а здесь, на земле. Человек мечется. Вы говорите: «Он испорчен», и начнете читать ему проповеди. Нет, он болен; он требует помощи. Пища, которую вы ему даете, нездорова; ноши, которые вы ему на плечи кладете, несносны и прочее, и прочее. Истребите причины неудовольствия его в самом корне, очистите душную атмосферу, которая тягчит больного, и тогда скажите больному: «Смирись!» Что вы сделали с падения Наполеона? Перекрошили Европу в угоду каких-то исторических преданий, отложивши все наличные требования до другого времени. Вот вам и пришлось за пожданье. Наполеон приучил людей к исполинским явлениям, к решительным и всеразрешающим последствиям. «Все или ничего» – вот девиз настоящего. Умеренность – не нашего поля ягода. А правители, между тем, справиться не могут с надлежащими орудиями, которых величина не по их силам. Оттого то они и стараются здесь подрезать, там поутончить, а Алкиды между тем бесятся, и того и смотри, что взбесятся, и Бог знает, чем это кончится. Войной? Какой войной? Кто против кого? Все общепринятые речения манифестов уже изверились. И сам Шишков не придумал бы теперь, как устроить предисловие войне против французов или гишпанцев, или итальянцев. Одно нам предстоит: запереть накрепко все европейские сообщения, поставить некоторые столбы, за которые запретить Европе перешагнуть под страхом нового северного наводнения, и засесть дома, но не с пустыми руками, а за работу. Иначе мы никогда ничего не сделаем. Станем все стеречь чужие дома; при первом крике метаться то в ту, то в другую сторону, а свой дом останется век недостроенным и развалится непокрытый. Что нам за слава быть страшилищем Европы и у всех сидеть, как муха на посу? Конечно, силачу всего легче протянуть кулак свой над головами; но что от того ему пользы, когда никто его не забижает! Нелепое хвастовство, неосновательное подражание! Наполеон держал свой кулак, но при случае и опускал его, куда следовало; но и ему эта жизнь вчуже не была впрок. Пришлось дела делать дома – все пошло к чорту. Его народ знал по газетам; он его знал на поле битвы. Столкнулись они дома – друг друга не поняли. Он торчит на скале, тот лежит под брюхом Бурбона, а мы за них должны отдуваться.
У нас здесь троица певиц: Campi, урожденная полька, в большой милости у здешнего патриотизма, но, впрочем, и с дарованием, хотя старым; Сесси, которую еще не слыхали, и её величество Каталани, которую еще не видал.
Обещают нам Потоцких. Государь обласкал их на дороге до крайности. Витт здесь, в Александровской; также и Чернышев.
С княгинею Lowicz государь по-братски: с самого приезда они каждый день обедают втроем – то у него, то у них. Впрочем, все так тихо, что прослышишь полет мухи, и царя как бы не было, кроме для нас, потому что он несколько раз в день мимо нас ездит; но еще ни разу не видал. Я себе, кажется, на время сейма работу пригрел: русский журнал о прениях палат. Подавал о том предложение, Ник[олаем] Ник[олаевичем] одобренное; но не будут ли перечить в исполнении? Мне здесь суше, чем когда-нибудь, то-есть, душевно. Жизни нет нигде: все это формы жизни.
21-го.
Не знаю, как делаю, а вечно прогуливаю эстафет. Скажи Карамзиным, что мы живы. Сбирался, было, писать к ним, но некогда.
Еще слово: граф Аракчеев приехал сегодня в ночь, и погода из красной сделалась пасмурной. Отошли письмо к Карамзиным. Прощай! Более сказать нечего.
294. Князь Вяземский Тургеневу.
[Конец августа. Варшава].
Спасибо за строки 18-го августа. Погода пасмурная и дождливая. Вчера было затмение светлое на земле.
Кто и говорил тебе, что дело Скибицкого у тебя? Дело в том, чтобы узнать, не поступило ли оно куда-нибудь, и в таком случае – за что и за кого приняться. Вероятно, если от тех будет просьба, то в Сенат или Министерство юстиции.
Приближается день великий открытия сейма, а в Александров день будет бал у Заиончека в новых покоях, убранных с роскошью, удивившею Париж, который ходил смотреть мёбли, обои и украшения. Французские листы говорили о том: всего около на тридцать тысяч червонных. Левые морщатся на эти издержки и, может быть, заговорят на сейме. По крайней мере заказать было бы в Петербурге. Но здесь этого не понимают и говорят, начиная с княгини Заиончековой: «Не все ли равно для нас, если деньгам не оставаться в Варшаве, что в Париж, что в Петербург им пойти». Все еще как-то народное братство не клеится: разве родство запечатлеется кровью на поле битвы, общею системою свободы политической или общею невзгодою, а иначе Ник[олай] Ник[олаевич] и великий князь худые крестные отцы и сваты. Связь их с нами – оковы железные для них: мы не имеем иного союза.
Из Парижа после того ничего не слышно; в Лондоне продолжается постыдный суд. Свидетели уже доносили, как любовника видели, выходящего из спальной королевы в рубашке и с подушкою под мышкою. По последнему известию, не знаю в какое-то число, когда королева пришла в залу судилища и начали перекличку свидетелей-обвинителей, она, при имени одного, вскричала: «И ты тоже против меня», вскочила со стула и убежала, в большому удивлению и неудовольствию приверженцев своих. В «Монитере» есть уже повеление короля, определяющее сознание перов и предание суду лиц, задержанных по заговору.
Что ты мне не говоришь о размолвке Плещеева с Тюфякиным? Правда ли, что он опять ссорился с St.-Fеlix? С курьером, отправленным в Неаполь, писал я к Пипиньке-Пепе. Он, говорят, скучает и глупою работою замучен. Вот газетный вызов: где русские начальники, умеющие ценить своих подчиненных? Право, без хвастовства сказать, мы все, сколько нас ни есть, – бисер в ногах свиней. Когда все поставится у нас вверх дном? Стихии все, как надобно быть, но разбери только: вода под грязью, огонь в гнилушке. Скажи, владыко, великое слово: «Да будет свет», и будет.
Дождь, сырость так с неба и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуще неволи. Кто сказывал Гречу, что и обещал украшать их журнал своими превосходными стихотворениями. Сказал ли ты ему мое поручение? Писать более некогда. Аминь! Целую от души.
295. Тургенев князю Вяземскому.
27-го августа. [Петербург].
Письмо твое от 15-го и 17-го получил. То, на которое ты мне отвечаешь, не послал бы я, если бы прочел, что написал. Но при всем том в нем, право, было более дружбы, нежели в твоем. Полно о прошедшем.
Спасибо за известие о Париже. Здесь хотя и было оно чрез французского чиновника Берлинской миссии, но не с теми подробностями. Уведомляй о ваших происшествиях. Посылаю тебе в оригинале ответ Греча на твой запрос. Каким образом можешь ты исполнить его требование и доставлять оффициальное позволение печатать? Разве чрез Новосильцова один раз навсегда предпишется помещать известия о сейме? Кажется, в прошедший сейм здесь не позволялось говорить о том, что у вас делали, и я не берусь хлопотать, ибо не надеюсь успеха. Ценсура становится час-от-часу не строже, но произвольнее, ибо, пропуская введение к песням поэмы Пушкина, она запрещает осуждать стихи действительного тайного советника Хераскова. Разве языческие боги за нас вступятся, ибо и мифология, как наука, также запрещена, и позволяется только упоминать о ней в истории, так что если нечаянно встретится Юпитер или Сатурн, то при сей верной оказии можно сказать о них, что Юпитер – громовержец а Сатурн ел детей своих. Товарищ мой убеждал меня собственным примером в превосходстве сей методы, и я поверил ему.
Крейтон привез мне две запрещенные книги из Парижа; одна, «Portraits pittoresques des dеputеs», забавляет меня, а Кологривов, увидя портреты их, узнал многих. Это pendant к «Маленькому лексикону великих людей».
Кстати о твоем участии в журнале Греча. Вот что И. И. Дмитриев пишет ко мне: «Если Греч будет журнал свой издавать на прежних правилах, то не пособит ему ни Воейков, ни прочие. Одни хорошие стихи, сколько ни напихай их в тетрадку, еще не составят журнала. Журналист не есть дрягиль, чтобы не сказать хуже, который обязан только сваливать с спины своей в типографию чужие тюки. Он должен и сам мыслить, должен быть патриотом, наблюдателем, литератором, умеющим писать легко и приятно, строгим оценщиком в словесности и беспристрастным посредником в авторских тяжбах, а не деспотом, как Каченовский, который сам бранит и глупит, сколько хочет, а возражений не принимает. Досадно, что Вяземский пустился по двум дорогам и сам себе мешает. Вот мой герой! Он один только у нас мог бы подавать журнал, похожий на европейский!»
Если хочешь, то скажи Новосильцову, а если нет, то знай про себя, что на сих днях постараюсь я побывать у графа Кочубея и дать ему почувствовать, сколько бы приятно было Николаю Николаевичу, если бы взял в губернаторы на место St.-Priest Василья Сергеевича. Теперь Кочубей в Царском Селе, и мне нет времени отлучаться, но в понедельник он будет сюда, или я к нему поеду. Свадьба их еще отложена на неделю, а может быть и более. Николаю Михайловичу лучше. Вчера получил я от него письмо, первое, писанное больною рукою.
Пиши иногда в брату Сергею. Он никакой отрады не имеет в тюрьме своей, кроме наших писем. Бог знает, когда можно будет его оттуда выручить. Кланяйся дипломатам вашим. Уведомляй о сейме:
Дай весть услышать о свободе!
Брат Николай тебе кланяется. Об увольнении его из Министерства финансов, по его желанию, послано представление к вам в Варшаву. Вряд ли это не отдаленное следствие общего близкого нам дела. Прости! Тургенев.
Не делай явного употребления из письма ко мне Греча.
296. Князь Вяземский Тургеневу.
30-го августа. [Варшава].
Что сказать тебе? Кривцов все скажет. А мы все умеем как-нибудь да досадить. Избрали в маршалы сейма Рембелинского, префекта здешнего воеводства, человека на казенном жалованье, не пользующагося ни доверенностью, ни уважением. Все на этот выбор рощпут. Зачем гласно и торжественно объявлять, что людей независимых боишься? Чего бояться? Малого жужжания? Пусть жужжат: это жужжит, тот не кусает. Государя, как на зло, набивают превратными понятиями о людях и вещах. Когда будет на нашей улице праздник, то-есть, на улице прямодушных и пряморазсудных людей?
– Говорят, так.
Апраксин. Кого назначат на его место?
– Неизвестно!
Апраксин. Верно, военного.
Сделай милость, пришли циркуляр губернаторам и все тому подобное. В. С. Новосильцов опять писал Николаю Николаевичу о губернаторском месте, уверяя, что Приест неминуемо будет проситься прочь: Николай Николаевич, который уже раз за него обжегся, неохотно попытается в другой; замолви стороною Кочубею или через племянника его, которого я видал у Карамзиных: Николай Николаевич будет тебе благодарен. Я ему сказал, что поручу тебе это дело партикулярно.
17-го августа.
Это письмо лежит у меня с отъезда эстафеты, которую, Бог весть как, прозевал. Государь приехал 15-го вечером; ничего еще не делается.
В Париже открыт заговор против королевской фамилии. Правительство уже с некоторого времени о нем знало и хотело ему дать созреть, чтобы нанести удар решительнейший и полнейший. Парижские войска в нем участвовали, даже частью и королевская гвардия. Ночью захватили 32 заговорщика, которые пришли в казармы и хотели вести полки овладеть замком Vincennes, а оттуда – Тюллерийским, все перерезать и провозгласить сына Наполеона, а Евгения Богарне правителем. Впрочем, по отъезде курьера, который прилетел сюда в восьмой день, в Париже все было покойно.
Каждый приезд государя наносит мне флюс, и я нынешнюю ночь страдал, как мученик. Вырванный зуб и пиявицы облегчили меня немного. прости, более сказать нечего, некогда и нет сил.
Скажи Гречу, что надеюсь доставлять ему журнал предстоящего сейма. Сколько мог бы он мне отделять листов на то в каждой своей книжке? Отвечай на это скорее.
292. Тургенев князю Вяземскому.
18-го августа. [Петербург].
Письмо твое от 6-го августа получил и другое, перелюстровав, к Жуковскому отправил. Доставлю мои замечания на прелестные «Воспоминания», но вперед прошу присылать ко мне, а не к нему, ибо кто старое помянет, тому глаз вон. Пиши вспоминания, но не помни то, что убивает поэзию души, следовательно и жизни.
Я получил от одного из моих чиновников известие с Кавказа о Пушкине. Он там с Раевским. Дело Скибицкого ко мне не поступало. Уведомь, где оно? Писать совершенно некогда. Помешал Закревский. Тургенев.
Булгаков уезжает в пятницу.
293. Князь Вяземский Тургеневу.
20-го августа. [Варшава].
То ли дело, как дурь с себя откинешь! И письмо, как письмо, и ты, как ты, и я, как я: говорю о одиннадцатом августа. Ничего. нового, кроме того, что еще один зуб я себе вырвал, а великий князь еще воевал какие-то белые шляпы краковских студентов: при себе велел их окроить и выслал за город. И это в присутствии царя, и это перед открытием сейма! Вчера должен был быть смотр войск, но дождь заставил отложить до завтра.
Я послал к тебе с курьером письмо из Царьграда при своем и благодарю за доставление другого. Мало по малу свита съехалась. Чернышев постарел, похудел и пожелтел чрезвычайно. Ожидаем с нетерпением встречи его с женою, которая здесь и намерена показываться. Я еще ничего не знаю о его подвигах и о возмущении казаков.
Нельзя ли как-нибудь взять список с записок Храповицкого или купить? Я охотно заплатил бы за них.
Едва ли не придется воротиться на старое: будущее как-то туго становится. Над нами носится какой-то дипломатический пар. Обстоятельства европейские важны, прямодушие дельцов несомненно, но сильны ли головы их? Ясны ли их взоры? Нет ли чего-то тут облачного? Изо всех концов мира съезжаются курьеры, канцелярия день и ночь работает. Что из всего этого будет? Конечно, насильственные меры народов нехороши, но что же делать, когда правительства кривят душою и путаются. Я говорю этим господам: «Ведь не бесовское же навождение ставит вверх дном Европу.» Смятение – людское: не ищите причин ему в мире метафизики заоблачной, а здесь, на земле. Человек мечется. Вы говорите: «Он испорчен», и начнете читать ему проповеди. Нет, он болен; он требует помощи. Пища, которую вы ему даете, нездорова; ноши, которые вы ему на плечи кладете, несносны и прочее, и прочее. Истребите причины неудовольствия его в самом корне, очистите душную атмосферу, которая тягчит больного, и тогда скажите больному: «Смирись!» Что вы сделали с падения Наполеона? Перекрошили Европу в угоду каких-то исторических преданий, отложивши все наличные требования до другого времени. Вот вам и пришлось за пожданье. Наполеон приучил людей к исполинским явлениям, к решительным и всеразрешающим последствиям. «Все или ничего» – вот девиз настоящего. Умеренность – не нашего поля ягода. А правители, между тем, справиться не могут с надлежащими орудиями, которых величина не по их силам. Оттого то они и стараются здесь подрезать, там поутончить, а Алкиды между тем бесятся, и того и смотри, что взбесятся, и Бог знает, чем это кончится. Войной? Какой войной? Кто против кого? Все общепринятые речения манифестов уже изверились. И сам Шишков не придумал бы теперь, как устроить предисловие войне против французов или гишпанцев, или итальянцев. Одно нам предстоит: запереть накрепко все европейские сообщения, поставить некоторые столбы, за которые запретить Европе перешагнуть под страхом нового северного наводнения, и засесть дома, но не с пустыми руками, а за работу. Иначе мы никогда ничего не сделаем. Станем все стеречь чужие дома; при первом крике метаться то в ту, то в другую сторону, а свой дом останется век недостроенным и развалится непокрытый. Что нам за слава быть страшилищем Европы и у всех сидеть, как муха на посу? Конечно, силачу всего легче протянуть кулак свой над головами; но что от того ему пользы, когда никто его не забижает! Нелепое хвастовство, неосновательное подражание! Наполеон держал свой кулак, но при случае и опускал его, куда следовало; но и ему эта жизнь вчуже не была впрок. Пришлось дела делать дома – все пошло к чорту. Его народ знал по газетам; он его знал на поле битвы. Столкнулись они дома – друг друга не поняли. Он торчит на скале, тот лежит под брюхом Бурбона, а мы за них должны отдуваться.
У нас здесь троица певиц: Campi, урожденная полька, в большой милости у здешнего патриотизма, но, впрочем, и с дарованием, хотя старым; Сесси, которую еще не слыхали, и её величество Каталани, которую еще не видал.
Обещают нам Потоцких. Государь обласкал их на дороге до крайности. Витт здесь, в Александровской; также и Чернышев.
С княгинею Lowicz государь по-братски: с самого приезда они каждый день обедают втроем – то у него, то у них. Впрочем, все так тихо, что прослышишь полет мухи, и царя как бы не было, кроме для нас, потому что он несколько раз в день мимо нас ездит; но еще ни разу не видал. Я себе, кажется, на время сейма работу пригрел: русский журнал о прениях палат. Подавал о том предложение, Ник[олаем] Ник[олаевичем] одобренное; но не будут ли перечить в исполнении? Мне здесь суше, чем когда-нибудь, то-есть, душевно. Жизни нет нигде: все это формы жизни.
21-го.
Не знаю, как делаю, а вечно прогуливаю эстафет. Скажи Карамзиным, что мы живы. Сбирался, было, писать к ним, но некогда.
Еще слово: граф Аракчеев приехал сегодня в ночь, и погода из красной сделалась пасмурной. Отошли письмо к Карамзиным. Прощай! Более сказать нечего.
294. Князь Вяземский Тургеневу.
[Конец августа. Варшава].
Спасибо за строки 18-го августа. Погода пасмурная и дождливая. Вчера было затмение светлое на земле.
Кто и говорил тебе, что дело Скибицкого у тебя? Дело в том, чтобы узнать, не поступило ли оно куда-нибудь, и в таком случае – за что и за кого приняться. Вероятно, если от тех будет просьба, то в Сенат или Министерство юстиции.
Приближается день великий открытия сейма, а в Александров день будет бал у Заиончека в новых покоях, убранных с роскошью, удивившею Париж, который ходил смотреть мёбли, обои и украшения. Французские листы говорили о том: всего около на тридцать тысяч червонных. Левые морщатся на эти издержки и, может быть, заговорят на сейме. По крайней мере заказать было бы в Петербурге. Но здесь этого не понимают и говорят, начиная с княгини Заиончековой: «Не все ли равно для нас, если деньгам не оставаться в Варшаве, что в Париж, что в Петербург им пойти». Все еще как-то народное братство не клеится: разве родство запечатлеется кровью на поле битвы, общею системою свободы политической или общею невзгодою, а иначе Ник[олай] Ник[олаевич] и великий князь худые крестные отцы и сваты. Связь их с нами – оковы железные для них: мы не имеем иного союза.
Из Парижа после того ничего не слышно; в Лондоне продолжается постыдный суд. Свидетели уже доносили, как любовника видели, выходящего из спальной королевы в рубашке и с подушкою под мышкою. По последнему известию, не знаю в какое-то число, когда королева пришла в залу судилища и начали перекличку свидетелей-обвинителей, она, при имени одного, вскричала: «И ты тоже против меня», вскочила со стула и убежала, в большому удивлению и неудовольствию приверженцев своих. В «Монитере» есть уже повеление короля, определяющее сознание перов и предание суду лиц, задержанных по заговору.
Что ты мне не говоришь о размолвке Плещеева с Тюфякиным? Правда ли, что он опять ссорился с St.-Fеlix? С курьером, отправленным в Неаполь, писал я к Пипиньке-Пепе. Он, говорят, скучает и глупою работою замучен. Вот газетный вызов: где русские начальники, умеющие ценить своих подчиненных? Право, без хвастовства сказать, мы все, сколько нас ни есть, – бисер в ногах свиней. Когда все поставится у нас вверх дном? Стихии все, как надобно быть, но разбери только: вода под грязью, огонь в гнилушке. Скажи, владыко, великое слово: «Да будет свет», и будет.
Дождь, сырость так с неба и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуще неволи. Кто сказывал Гречу, что и обещал украшать их журнал своими превосходными стихотворениями. Сказал ли ты ему мое поручение? Писать более некогда. Аминь! Целую от души.
295. Тургенев князю Вяземскому.
27-го августа. [Петербург].
Письмо твое от 15-го и 17-го получил. То, на которое ты мне отвечаешь, не послал бы я, если бы прочел, что написал. Но при всем том в нем, право, было более дружбы, нежели в твоем. Полно о прошедшем.
Спасибо за известие о Париже. Здесь хотя и было оно чрез французского чиновника Берлинской миссии, но не с теми подробностями. Уведомляй о ваших происшествиях. Посылаю тебе в оригинале ответ Греча на твой запрос. Каким образом можешь ты исполнить его требование и доставлять оффициальное позволение печатать? Разве чрез Новосильцова один раз навсегда предпишется помещать известия о сейме? Кажется, в прошедший сейм здесь не позволялось говорить о том, что у вас делали, и я не берусь хлопотать, ибо не надеюсь успеха. Ценсура становится час-от-часу не строже, но произвольнее, ибо, пропуская введение к песням поэмы Пушкина, она запрещает осуждать стихи действительного тайного советника Хераскова. Разве языческие боги за нас вступятся, ибо и мифология, как наука, также запрещена, и позволяется только упоминать о ней в истории, так что если нечаянно встретится Юпитер или Сатурн, то при сей верной оказии можно сказать о них, что Юпитер – громовержец а Сатурн ел детей своих. Товарищ мой убеждал меня собственным примером в превосходстве сей методы, и я поверил ему.
Крейтон привез мне две запрещенные книги из Парижа; одна, «Portraits pittoresques des dеputеs», забавляет меня, а Кологривов, увидя портреты их, узнал многих. Это pendant к «Маленькому лексикону великих людей».
Кстати о твоем участии в журнале Греча. Вот что И. И. Дмитриев пишет ко мне: «Если Греч будет журнал свой издавать на прежних правилах, то не пособит ему ни Воейков, ни прочие. Одни хорошие стихи, сколько ни напихай их в тетрадку, еще не составят журнала. Журналист не есть дрягиль, чтобы не сказать хуже, который обязан только сваливать с спины своей в типографию чужие тюки. Он должен и сам мыслить, должен быть патриотом, наблюдателем, литератором, умеющим писать легко и приятно, строгим оценщиком в словесности и беспристрастным посредником в авторских тяжбах, а не деспотом, как Каченовский, который сам бранит и глупит, сколько хочет, а возражений не принимает. Досадно, что Вяземский пустился по двум дорогам и сам себе мешает. Вот мой герой! Он один только у нас мог бы подавать журнал, похожий на европейский!»
Если хочешь, то скажи Новосильцову, а если нет, то знай про себя, что на сих днях постараюсь я побывать у графа Кочубея и дать ему почувствовать, сколько бы приятно было Николаю Николаевичу, если бы взял в губернаторы на место St.-Priest Василья Сергеевича. Теперь Кочубей в Царском Селе, и мне нет времени отлучаться, но в понедельник он будет сюда, или я к нему поеду. Свадьба их еще отложена на неделю, а может быть и более. Николаю Михайловичу лучше. Вчера получил я от него письмо, первое, писанное больною рукою.
Пиши иногда в брату Сергею. Он никакой отрады не имеет в тюрьме своей, кроме наших писем. Бог знает, когда можно будет его оттуда выручить. Кланяйся дипломатам вашим. Уведомляй о сейме:
Дай весть услышать о свободе!
Брат Николай тебе кланяется. Об увольнении его из Министерства финансов, по его желанию, послано представление к вам в Варшаву. Вряд ли это не отдаленное следствие общего близкого нам дела. Прости! Тургенев.
Не делай явного употребления из письма ко мне Греча.
296. Князь Вяземский Тургеневу.
30-го августа. [Варшава].
Что сказать тебе? Кривцов все скажет. А мы все умеем как-нибудь да досадить. Избрали в маршалы сейма Рембелинского, префекта здешнего воеводства, человека на казенном жалованье, не пользующагося ни доверенностью, ни уважением. Все на этот выбор рощпут. Зачем гласно и торжественно объявлять, что людей независимых боишься? Чего бояться? Малого жужжания? Пусть жужжат: это жужжит, тот не кусает. Государя, как на зло, набивают превратными понятиями о людях и вещах. Когда будет на нашей улице праздник, то-есть, на улице прямодушных и пряморазсудных людей?