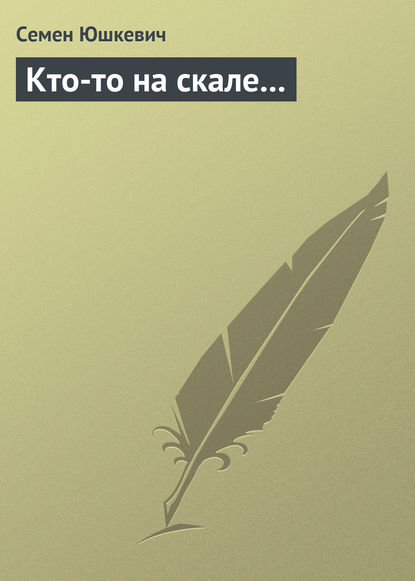По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кто-то на скале…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кто-то на скале…
Семен Соломонович Юшкевич
«Жестокое наказание, которому мы подверглись, было скоро забыто. И я, и Коля после примирения простили отцу, Стёпе и даже злому мельнику – и опять зажили прежней жизнью, полной для нас интереса даже в трудные минуты. Совершенному забвению помогло ещё то обстоятельство, что отец прохворал несколько дней после происшедшего с нами, и страх матери, не отходившей от него, заразительно подействовал и на нас. В эти дни мы гораздо реже выходили из дома и, подчинившись общему настроению, разговаривали шёпотом, ходили на цыпочках и больше просиживали в своей комнате, со страхом спрашивая себя, – чем всё это кончится…»
Семен Соломонович Юшкевич
Кто-то на скале…
Жестокое наказание, которому мы подверглись, было скоро забыто. И я, и Коля после примирения простили отцу, Стёпе и даже злому мельнику – и опять зажили прежней жизнью, полной для нас интереса даже в трудные минуты. Совершенному забвению помогло ещё то обстоятельство, что отец прохворал несколько дней после происшедшего с нами, и страх матери, не отходившей от него, заразительно подействовал и на нас. В эти дни мы гораздо реже выходили из дома и, подчинившись общему настроению, разговаривали шёпотом, ходили на цыпочках и больше просиживали в своей комнате, со страхом спрашивая себя, – чем всё это кончится. Мать осунулась, побледнела, и когда сомнения за исход болезни особенно осаждали и тревожили её, она приходила к нам с бабушкой, усаживалась на кровать и долго плакала. Бабушка утешала её словами, такими душевными, что вырастала, как святая, и обе они плакали, а мы сидели ни живы, ни мёртвы, испуганные их слезами и почему-то считали себя виновными в несчастье. И в эти несколько ночей страха о неизвестном грядущем, рисуя себе живо осунувшееся лицо отца, которое выплывало предо мной из темноты таким добрым и дорогим, я страстно каялся в том, что некогда желал ему зла. Исчез весь ужас, который он наводил на нас в свои злые минуты, и осталось одно только гнетущее чувство, что хорошее, бывшее в нём, которым он окружал нас, может навсегда исчезнуть. Вот тогда-то и получил моё и Колино прощение злой старый мельник, который в порыве наших покаянных и великодушных чувств превратился в доброго старого мельника, и были моменты, когда ночью же хотелось побежать к нему, рассказать то, что в нашей душе, целовать его… Но в одно счастливое утро этому кошмарному гнёту наступил конец. Доктор, приезжавший ежедневно, сделал свой последний визит; в комнате папы в первый раз раздался смех и в один миг не стало, тронулось и пропало очарование страха. Раскрылись окна, двери; в комнаты ворвался живой воздух, – живые, горячие лучи солнца; затопали, завозились, застучали на кухне, и хозяйственная машина, приостановленная на время, опять завертелась по-старому. Как приятно было чувствовать пробуждение жизни кругом себя! Ничего для себя не хотелось: хотелось только наблюдать, как быстро оживали смелые звуки в этих, мёртвых ещё вчера от нашего отчаяния, комнатах, задушевную улыбку на губах бабушки, спокойную, уверенную радость матери… Всё было запущено в доме и теперь она важно, как бы отвоевав чуть не ускользнувшее из рук царство, приводила владения свои в порядок. Нас пустили к папе, и как радостно забилось моё сердце, когда я бросился ему па шею, хотя едва узнал его: так сильно изменилось его лицо.
– Ну, ничего, дорогие мои, – бормотал он в ответ на наши ласки. – Напугал я вас, а вот и успокоил.
Он засмеялся добрым хорошим смехом, и я перестал себе верить, что когда-то боялся его.
– То был другой папа, – подумал я, – а этот другой, и этого я люблю.
Коля сидел подле него и держал его за руку.
– Милые мои, – произнёс отец опять, – я знаю, как вы тревожились. – Он осмотрел нас любовно. – Мама мне обо всём рассказала. Ну, спасибо, спасибо, защитники мои. И я своих стариков так любил…
Он сказал это задумчиво, но как-то особенно радостно.
– Я, дети, своего отца и мать свою зову стариками, – откровенно заявил он нам, – и меня вы, когда вырастете, тоже стариком будете звать. Очень приятно мне называть их стариками. Они были для меня самыми дорогими и лучшими стариками в мире. Простые они были… и ничего этого не было у них.
Тут он указал на всё, что было в комнате дорогого и ценного.
– Вы, папа, совсем выздоровели? – спросил я.
– Слава Богу, Павел, – он любил называть меня Павлом, когда был расположен, – совсем выздоровел. Ну, полежу немного, отдохну, – а там опять в жизнь, в жизнь!
Удивительно радостно произнёс он это «в жизнь». Будто ему вырвали крылья, а теперь они подросли, и он только ждал, чтобы они заострились.
– Вот что, дети, – произнёс он после молчания, – как только выдастся свободное воскресенье, возьму вас на Волнорез. Всё время, что лежал, думал об этом. Там мы отпразднуем моё выздоровление. Наловим рыбы, выкупаемся, и отлично проведём вместе денёк. Мало, ведь, я с вами бываю, дорогие мои. Что, Николай? Возьмём маму, провизию – и марш на весь день.
Тут уже мы разом все заговорили и подняли такой шум, что привлекли мать. Она вошла с нахмуренными бровями, но в глазах её играло сияние счастья. Она стала упрекать отца, что он себя вести не умеет, что он себя губит, но всё с таким прелестным выражением в глазах, что папа не осмелился возмутиться против этого нежного тиранства. Нас же она выгнала и мы, выбежав с шумом, на пороге три раза прокричали:
– Мы поедем на Волнорез!.. Мы поедем на Волнорез!..
Во дворе мы не остались и с гиком побежали на гору. Потом крикнули Стёпу и полной рукой взяли все радости чистого воздуха, беззаботной игры и охоты на горных зверей. Приятно потекло время.
Дни, между тем, стали уже очень жаркими, сухими и ослепительными. Земля вся во дворе и на горе растрескалась, запылилась; запылились и травы, посерели и стали увядать; душистый запах их пропал. Воздух сделался горячим и неприятным. В нём носилась жгучая пыль, и даже в тени теперь трудно было дышать. Небо же было высокое, пустынное, и в нём сверкали и переливались нестерпимые для глаз лучи. В доме у нас царил полный порядок. Отец, оправившись, стал выезжать, и надзор за нами опять ослабел. Мама, страдавшая от жары и никогда не выносившая её, просиживала по целым дням в своей комнате, где было чуть прохладно от сделанной темноты; она только по вечерам открывала ставни и окна – и все приказания по хозяйству отдавались здесь же в темноте. Приходила кухарка, и мать, не видя её, казалось, рассовывала по углам свои слова, которые уже сами, как будто чудом каким-то, доходили до ушей кухарки. Кухарка, в свою очередь, не видя матери, говорила глухим голосом, как в трубу, а в кухне жаловалась на то, что во тьме не может держаться на ногах и когда-нибудь этак свалится там. Туда же приходил старик Андрей и держал руки по швам, выслушивая приказания, – он очень почитал маму. Этот никогда не переспрашивал, не перечил и только отвечал, поднимая, неизвестно почему, голову: «Точно так, барыня моя» или: «Слушаю, барыня моя».
С Машей же всегда случалось несчастье во время этих переговоров. С каким-то упорством, способным привести в отчаяние, она каждый раз, когда входила в тёмную комнату матери, как нарочно, натыкалась на мебель, непременно опрокидывала её, и грохот казался вдесятеро сильнейшим оттого, что падение происходило в темноте. Мама же неизменно бросалась к ближайшему окну, быстро раскрывала ставни и бедная девушка, ослеплённая вдруг залившим её светом, закрыв лицо руками, выбегала из комнаты и, спрятавшись в каком-нибудь углу, начинала плакать. Обыкновенно мама тотчас же пускалась на поиски, находила её, утешала – и дело хозяйственное вновь шло своим порядком. Но после такой истории мать обыкновенно расстраивалась, окончательно пряталась в своей чёрной комнате, – как мы её звали, – и до вечера уже не выходила оттуда, боясь показаться там, где носились сухие и горячие солнечные лучи, и никого не беспокоила. Когда отец приезжал домой, то обыкновенно раньше всего шёл здороваться с мамой, Но жара на время изменила и этот порядок, и теперь, когда он приезжал, то перво-наперво, не снимая даже шляпы, прямо шёл в ванную комнату, где уже Андрей, охладивши льдом воду, поджидал его. Отец долго оставался там. Плескание, громкий и удовлетворённый голос его неслись по всему дому, так что купался, казалось, не один человек, а несколько. В ожидании его мать начинала хлопотать в столовой, а Маша отправлялась на поиски за нами.
И только мы да ещё бабушка равнодушно переносили эту колючую жару и как бы насмехались над нею. Бабушка, по своему обыкновению с чулком в руках, просиживала весь день в беседке и нарочно подставляла спину лучам, прищуривая глаза от наслаждения, когда её особенно припекало, будто вместе с лучами в её тело входили и свежесть, и здоровье, и жизнь. Часто она засыпала в этой позе, с выставленной спиной лучам, и на желтоватом лице её блуждала довольная улыбка. Тогда подстерегавший этот момент любимец её, старый, серый, в пятнах кот, устраивался на её коленях, забирал в свои передние лапы клубок ниток, и все трое, – бабушка, кот на ней и клубок у кота, – мирно спали и солнце своими жгучими белыми пятнами тихо ползло по ним, с кота на клубок, с клубка на бабушку…
Что касается нас, мы продолжали пропадать на горе, занятые постройкой подземных печей, где жарили па железных листах иногда хлеб, иногда бабочек и лягушек, или прорывали туннели, строили из жёлтой глины дома, лепили из неё же головы людей, птиц, и только чаще бежали к нашему «ключу» или к морю и совсем почернели от загара.
Но вот засуха прервалась… Это было часа в четыре дня. С моря вдруг быстро потянулись к нам толстые, пышные, как бы разбухшие от воды, тучи; в вершинах старых акаций зазвенел ветер, а ласточки взвились так высоко, что стали казаться не больше обыкновенных комнатных мух. Посреди двора винтом закружилась пыль. Ветер поминутно рвал и разносил в воздухе всё, что попадалось ему: бумажки, засохшие листья. В моменты затишья нам слышны были встревоженные голоса соседей. Захлопывались окна, ставни. Голуби спрятались в голубятне и с любопытством выглядывали из своих окошечек.
Большая длинная туча всё быстрее шла к нам, и освещённый край её казался прекрасным густым снегом. По ту сторону моря, на белый домик уже падал дождь косым рядом струй, и я, глядя на него, радовался, что этим туча опорожнится и нас минет гроза. Но темнело. Вверху поминутно трещали отрывистые сухие звуки грома. Пахучий, мокрый ветер, вдруг прилетевший, опьянял меня. Грудь великолепно дышала. Встревоженные голоса взрослых теперь, когда был день, вызывали во мне сумасшедшую энергию. Я уже подпрыгивал на одной ноге, вертелся, дрался с ветром и пел: «Дождик, дождик, перестань»…
Ко мне долетали слова этой детской песни, теперь нёсшейся изо всех дворов, и чувство близости со всем миром товарищей вливало излишек энергии в мою взволнованную душу. Хрипловатый и насмешливый голос Стёпы, будто перебрасываемый кем-то через невысокую ограду, отделявшую наш дом от того, где он жил, как магнит притягивал меня к себе. Это было безумно хорошо.
– Коля, Павка! – раздался вдруг крик бабушки, – ступайте в комнаты, гроза собирается…
Ещё потемнело. Загудел и задрожал воздух. Опять зашумел ветер и отнёс её слова от меня. В окне показалась мать и голосом и знаками стала звать нас. Сверкнула молния, и мама, отшатнувшись, закрыла лицо руками. Грянул гром. Задорно закричали над нашими головами ласточки, как бы зовя нас к себе, и мне страстно захотелось взвиться, лететь и петь. Вдруг где-то с силой хлопнула форточка, зазвенело разбитое стекло и вслед за этим раздался жалобный плаксивый голос хромой Дарьи, жены столяра Петра:
– Ах ты, Господи, Боже мой!.. вот и заработала. Стекло-те вставить теперь, вынь 20 копеек и отдай. Чтоб-те разорвало, – ругнулась она, неизвестно к кому обращаясь.
– Коля! – кричала мама, – Павка!
– Сейчас, сейчас! – нетерпеливо откликнулся Коля. – «Вот любит кричать, – проворчал он, – сейчас же и бабушка заноет», – и дерзко крикнул:
– Теперь, бабушка, зовите вы: Коля, Павка!
Он так чудно завизжал, что и я взвыл от восторга. Мама пригрозила ему из окна пальцем.
– Всё это папе будет известно, – расслышали мы, – зададут тебе опять порку.
– Мне не привыкать, – равнодушно ответил он, оглядывая небо.
– Ты опять принимаешься за дерзости! – вспылила мать.
– Вот странно, – шепнул мне Коля, – она мне говорит дерзости и меня же обвиняет. – Я вас не трогаю, – продолжал он переговоры, – а вы мне мешаете. Даже на небо нельзя смотреть, – и опять шепнул, – сейчас бабушка крикнет: «Коля, Бога ты не боишься».
– Коля! – крикнула бабушка, – Бога побойся!
Я опять рассмеялся, а Коля весело прибавил:
– Видишь, я говорил, – и бросил насмешливо, – боюсь, бабушка, ужасно боюсь, оттого и на небо смотрю.
В окне смешно метался грозивший нам палец. Вдруг грянул оглушительный гром и, как будто подле нас, упал. Казалось, что небо раскололось надвое. Мы запрыгали от восторга. Но внезапно и нежданно подле нас очутилась мама, схватила каждого за руки и потащила за собой, крича:
– Сегодня же всё будет известно папе, – никаких у меня сил нет с вами!..
– А почему не завтра? – шалил Коля, делая вид, что хочет вырваться из её рук.
– Иди, мальчишка, иди, – выходила мать из себя.
– А почему не сегодня? – с холодным равнодушием дразнил Коля.
Наконец, нас втащили в комнаты. Все двери и ставни как бы по волшебству закрылись, и мы остались словно под арестом, прислушиваясь, как разыгрывалась гроза. Коля скомандовал: «в детскую» – и через минуту мы уже были в своей комнате и с завистью выглядывали из окна во двор. Всё больше темнело в нашей комнате и на языке так и вертелось сказать: «Небо нахмурилось и детская нахмурилась».
Справа на горе трава бессильно прилегла и от ветра вся трепетала, точно он бил её, а она пыталась вырваться и не умела. Гудели стёкла в рамах. Андрей торопливо перебежал двор с ломом и лопатой в руках. На крыльце на миг появилась Маша и резким голосом прокричала что-то Андрею. Тот, не останавливаясь, махнул рукою, а Маша ещё громче закричала и скрылась в комнаты, хлопнув дверьми так, что в коридоре окна зазвенели. Сверкнула молния. Я бросился в сторону. Коля осветился зелёным светом. Запахло странным чем-то, и я задрожал от непонятного волнения. Грянул гром, но теперь уже над самым двором, и точно чей-то сухой, короткий смех раздался вслед за ним. Сейчас же ударил дождь, сильный, жестокий, кричащий, и в струях его, как угри, короткие и вертлявые, извивались молнии. Я сидел, как пришибленный; и руки, и ноги у меня дрожали. И каждый раз, когда молния, лизнув заднюю стену, освещала комнату страшным светом своим, я вздрагивал и закрывал лицо руками. Коля совсем упёрся лицом о стекло и, не отрываясь, смотрел во двор. С горы бежала мутная грязная вода и по устроенному стоку направлялась к воротам, откуда уходила на улицу. Опять торопливо пробежал Андрей с мешком в виде башлыка на голове: теперь он был босой и ноги его были оголены выше колен. Что-то, видно, не ладилось у ворот, и он бежал с лопатой в руке дать выход воде, которая уже начала подниматься и угрожать нашей квартире. Прошло томительное мгновение… Мать с зонтиком в руке, поддерживаемая Машей, показалась перед нашими окнами. Андрей скрылся. И вот в это самое мгновение, когда казалось, что никогда дождь не прекратится, что всегда было и будет так и что больше не появится солнце на небе, в это самое мгновение я услышал грохот от въезжавшей в наш двор повозки. Я вскочил от изумления, подбежал к окну, прилип к нему и во все глаза стал глядеть. Мама повернула назад, в комнату. Появился и Андрей. Действительно, во двор въезжала повозка. Подле неё шёл извозчик, который жестоко бил лошадь; она тяжело и не спеша передвигалась, будто удары не трогали её, и от неё шёл густой пар. Она вязла в грязи и вместе с ней вязли колёса, и всё это так, должно быть, злило извозчика, что он колотил кнутом и лошадь и землю, и самого себя по голове руками. Сзади, сторожа добро своё, шла женщина, закутанная в шаль так, что не видно было её лица. Несколько подальше, еле передвигая ноги, шёл старик, постукивая палкой впереди себя; его под руку вёл мальчик.
– Кто это? – спросил я Колю, заинтересованный.
– Новые жильцы, – ответил он. – Должно быть, бедные, – прибавил Коля, провожая глазами повозку и людей.
Семен Соломонович Юшкевич
«Жестокое наказание, которому мы подверглись, было скоро забыто. И я, и Коля после примирения простили отцу, Стёпе и даже злому мельнику – и опять зажили прежней жизнью, полной для нас интереса даже в трудные минуты. Совершенному забвению помогло ещё то обстоятельство, что отец прохворал несколько дней после происшедшего с нами, и страх матери, не отходившей от него, заразительно подействовал и на нас. В эти дни мы гораздо реже выходили из дома и, подчинившись общему настроению, разговаривали шёпотом, ходили на цыпочках и больше просиживали в своей комнате, со страхом спрашивая себя, – чем всё это кончится…»
Семен Соломонович Юшкевич
Кто-то на скале…
Жестокое наказание, которому мы подверглись, было скоро забыто. И я, и Коля после примирения простили отцу, Стёпе и даже злому мельнику – и опять зажили прежней жизнью, полной для нас интереса даже в трудные минуты. Совершенному забвению помогло ещё то обстоятельство, что отец прохворал несколько дней после происшедшего с нами, и страх матери, не отходившей от него, заразительно подействовал и на нас. В эти дни мы гораздо реже выходили из дома и, подчинившись общему настроению, разговаривали шёпотом, ходили на цыпочках и больше просиживали в своей комнате, со страхом спрашивая себя, – чем всё это кончится. Мать осунулась, побледнела, и когда сомнения за исход болезни особенно осаждали и тревожили её, она приходила к нам с бабушкой, усаживалась на кровать и долго плакала. Бабушка утешала её словами, такими душевными, что вырастала, как святая, и обе они плакали, а мы сидели ни живы, ни мёртвы, испуганные их слезами и почему-то считали себя виновными в несчастье. И в эти несколько ночей страха о неизвестном грядущем, рисуя себе живо осунувшееся лицо отца, которое выплывало предо мной из темноты таким добрым и дорогим, я страстно каялся в том, что некогда желал ему зла. Исчез весь ужас, который он наводил на нас в свои злые минуты, и осталось одно только гнетущее чувство, что хорошее, бывшее в нём, которым он окружал нас, может навсегда исчезнуть. Вот тогда-то и получил моё и Колино прощение злой старый мельник, который в порыве наших покаянных и великодушных чувств превратился в доброго старого мельника, и были моменты, когда ночью же хотелось побежать к нему, рассказать то, что в нашей душе, целовать его… Но в одно счастливое утро этому кошмарному гнёту наступил конец. Доктор, приезжавший ежедневно, сделал свой последний визит; в комнате папы в первый раз раздался смех и в один миг не стало, тронулось и пропало очарование страха. Раскрылись окна, двери; в комнаты ворвался живой воздух, – живые, горячие лучи солнца; затопали, завозились, застучали на кухне, и хозяйственная машина, приостановленная на время, опять завертелась по-старому. Как приятно было чувствовать пробуждение жизни кругом себя! Ничего для себя не хотелось: хотелось только наблюдать, как быстро оживали смелые звуки в этих, мёртвых ещё вчера от нашего отчаяния, комнатах, задушевную улыбку на губах бабушки, спокойную, уверенную радость матери… Всё было запущено в доме и теперь она важно, как бы отвоевав чуть не ускользнувшее из рук царство, приводила владения свои в порядок. Нас пустили к папе, и как радостно забилось моё сердце, когда я бросился ему па шею, хотя едва узнал его: так сильно изменилось его лицо.
– Ну, ничего, дорогие мои, – бормотал он в ответ на наши ласки. – Напугал я вас, а вот и успокоил.
Он засмеялся добрым хорошим смехом, и я перестал себе верить, что когда-то боялся его.
– То был другой папа, – подумал я, – а этот другой, и этого я люблю.
Коля сидел подле него и держал его за руку.
– Милые мои, – произнёс отец опять, – я знаю, как вы тревожились. – Он осмотрел нас любовно. – Мама мне обо всём рассказала. Ну, спасибо, спасибо, защитники мои. И я своих стариков так любил…
Он сказал это задумчиво, но как-то особенно радостно.
– Я, дети, своего отца и мать свою зову стариками, – откровенно заявил он нам, – и меня вы, когда вырастете, тоже стариком будете звать. Очень приятно мне называть их стариками. Они были для меня самыми дорогими и лучшими стариками в мире. Простые они были… и ничего этого не было у них.
Тут он указал на всё, что было в комнате дорогого и ценного.
– Вы, папа, совсем выздоровели? – спросил я.
– Слава Богу, Павел, – он любил называть меня Павлом, когда был расположен, – совсем выздоровел. Ну, полежу немного, отдохну, – а там опять в жизнь, в жизнь!
Удивительно радостно произнёс он это «в жизнь». Будто ему вырвали крылья, а теперь они подросли, и он только ждал, чтобы они заострились.
– Вот что, дети, – произнёс он после молчания, – как только выдастся свободное воскресенье, возьму вас на Волнорез. Всё время, что лежал, думал об этом. Там мы отпразднуем моё выздоровление. Наловим рыбы, выкупаемся, и отлично проведём вместе денёк. Мало, ведь, я с вами бываю, дорогие мои. Что, Николай? Возьмём маму, провизию – и марш на весь день.
Тут уже мы разом все заговорили и подняли такой шум, что привлекли мать. Она вошла с нахмуренными бровями, но в глазах её играло сияние счастья. Она стала упрекать отца, что он себя вести не умеет, что он себя губит, но всё с таким прелестным выражением в глазах, что папа не осмелился возмутиться против этого нежного тиранства. Нас же она выгнала и мы, выбежав с шумом, на пороге три раза прокричали:
– Мы поедем на Волнорез!.. Мы поедем на Волнорез!..
Во дворе мы не остались и с гиком побежали на гору. Потом крикнули Стёпу и полной рукой взяли все радости чистого воздуха, беззаботной игры и охоты на горных зверей. Приятно потекло время.
Дни, между тем, стали уже очень жаркими, сухими и ослепительными. Земля вся во дворе и на горе растрескалась, запылилась; запылились и травы, посерели и стали увядать; душистый запах их пропал. Воздух сделался горячим и неприятным. В нём носилась жгучая пыль, и даже в тени теперь трудно было дышать. Небо же было высокое, пустынное, и в нём сверкали и переливались нестерпимые для глаз лучи. В доме у нас царил полный порядок. Отец, оправившись, стал выезжать, и надзор за нами опять ослабел. Мама, страдавшая от жары и никогда не выносившая её, просиживала по целым дням в своей комнате, где было чуть прохладно от сделанной темноты; она только по вечерам открывала ставни и окна – и все приказания по хозяйству отдавались здесь же в темноте. Приходила кухарка, и мать, не видя её, казалось, рассовывала по углам свои слова, которые уже сами, как будто чудом каким-то, доходили до ушей кухарки. Кухарка, в свою очередь, не видя матери, говорила глухим голосом, как в трубу, а в кухне жаловалась на то, что во тьме не может держаться на ногах и когда-нибудь этак свалится там. Туда же приходил старик Андрей и держал руки по швам, выслушивая приказания, – он очень почитал маму. Этот никогда не переспрашивал, не перечил и только отвечал, поднимая, неизвестно почему, голову: «Точно так, барыня моя» или: «Слушаю, барыня моя».
С Машей же всегда случалось несчастье во время этих переговоров. С каким-то упорством, способным привести в отчаяние, она каждый раз, когда входила в тёмную комнату матери, как нарочно, натыкалась на мебель, непременно опрокидывала её, и грохот казался вдесятеро сильнейшим оттого, что падение происходило в темноте. Мама же неизменно бросалась к ближайшему окну, быстро раскрывала ставни и бедная девушка, ослеплённая вдруг залившим её светом, закрыв лицо руками, выбегала из комнаты и, спрятавшись в каком-нибудь углу, начинала плакать. Обыкновенно мама тотчас же пускалась на поиски, находила её, утешала – и дело хозяйственное вновь шло своим порядком. Но после такой истории мать обыкновенно расстраивалась, окончательно пряталась в своей чёрной комнате, – как мы её звали, – и до вечера уже не выходила оттуда, боясь показаться там, где носились сухие и горячие солнечные лучи, и никого не беспокоила. Когда отец приезжал домой, то обыкновенно раньше всего шёл здороваться с мамой, Но жара на время изменила и этот порядок, и теперь, когда он приезжал, то перво-наперво, не снимая даже шляпы, прямо шёл в ванную комнату, где уже Андрей, охладивши льдом воду, поджидал его. Отец долго оставался там. Плескание, громкий и удовлетворённый голос его неслись по всему дому, так что купался, казалось, не один человек, а несколько. В ожидании его мать начинала хлопотать в столовой, а Маша отправлялась на поиски за нами.
И только мы да ещё бабушка равнодушно переносили эту колючую жару и как бы насмехались над нею. Бабушка, по своему обыкновению с чулком в руках, просиживала весь день в беседке и нарочно подставляла спину лучам, прищуривая глаза от наслаждения, когда её особенно припекало, будто вместе с лучами в её тело входили и свежесть, и здоровье, и жизнь. Часто она засыпала в этой позе, с выставленной спиной лучам, и на желтоватом лице её блуждала довольная улыбка. Тогда подстерегавший этот момент любимец её, старый, серый, в пятнах кот, устраивался на её коленях, забирал в свои передние лапы клубок ниток, и все трое, – бабушка, кот на ней и клубок у кота, – мирно спали и солнце своими жгучими белыми пятнами тихо ползло по ним, с кота на клубок, с клубка на бабушку…
Что касается нас, мы продолжали пропадать на горе, занятые постройкой подземных печей, где жарили па железных листах иногда хлеб, иногда бабочек и лягушек, или прорывали туннели, строили из жёлтой глины дома, лепили из неё же головы людей, птиц, и только чаще бежали к нашему «ключу» или к морю и совсем почернели от загара.
Но вот засуха прервалась… Это было часа в четыре дня. С моря вдруг быстро потянулись к нам толстые, пышные, как бы разбухшие от воды, тучи; в вершинах старых акаций зазвенел ветер, а ласточки взвились так высоко, что стали казаться не больше обыкновенных комнатных мух. Посреди двора винтом закружилась пыль. Ветер поминутно рвал и разносил в воздухе всё, что попадалось ему: бумажки, засохшие листья. В моменты затишья нам слышны были встревоженные голоса соседей. Захлопывались окна, ставни. Голуби спрятались в голубятне и с любопытством выглядывали из своих окошечек.
Большая длинная туча всё быстрее шла к нам, и освещённый край её казался прекрасным густым снегом. По ту сторону моря, на белый домик уже падал дождь косым рядом струй, и я, глядя на него, радовался, что этим туча опорожнится и нас минет гроза. Но темнело. Вверху поминутно трещали отрывистые сухие звуки грома. Пахучий, мокрый ветер, вдруг прилетевший, опьянял меня. Грудь великолепно дышала. Встревоженные голоса взрослых теперь, когда был день, вызывали во мне сумасшедшую энергию. Я уже подпрыгивал на одной ноге, вертелся, дрался с ветром и пел: «Дождик, дождик, перестань»…
Ко мне долетали слова этой детской песни, теперь нёсшейся изо всех дворов, и чувство близости со всем миром товарищей вливало излишек энергии в мою взволнованную душу. Хрипловатый и насмешливый голос Стёпы, будто перебрасываемый кем-то через невысокую ограду, отделявшую наш дом от того, где он жил, как магнит притягивал меня к себе. Это было безумно хорошо.
– Коля, Павка! – раздался вдруг крик бабушки, – ступайте в комнаты, гроза собирается…
Ещё потемнело. Загудел и задрожал воздух. Опять зашумел ветер и отнёс её слова от меня. В окне показалась мать и голосом и знаками стала звать нас. Сверкнула молния, и мама, отшатнувшись, закрыла лицо руками. Грянул гром. Задорно закричали над нашими головами ласточки, как бы зовя нас к себе, и мне страстно захотелось взвиться, лететь и петь. Вдруг где-то с силой хлопнула форточка, зазвенело разбитое стекло и вслед за этим раздался жалобный плаксивый голос хромой Дарьи, жены столяра Петра:
– Ах ты, Господи, Боже мой!.. вот и заработала. Стекло-те вставить теперь, вынь 20 копеек и отдай. Чтоб-те разорвало, – ругнулась она, неизвестно к кому обращаясь.
– Коля! – кричала мама, – Павка!
– Сейчас, сейчас! – нетерпеливо откликнулся Коля. – «Вот любит кричать, – проворчал он, – сейчас же и бабушка заноет», – и дерзко крикнул:
– Теперь, бабушка, зовите вы: Коля, Павка!
Он так чудно завизжал, что и я взвыл от восторга. Мама пригрозила ему из окна пальцем.
– Всё это папе будет известно, – расслышали мы, – зададут тебе опять порку.
– Мне не привыкать, – равнодушно ответил он, оглядывая небо.
– Ты опять принимаешься за дерзости! – вспылила мать.
– Вот странно, – шепнул мне Коля, – она мне говорит дерзости и меня же обвиняет. – Я вас не трогаю, – продолжал он переговоры, – а вы мне мешаете. Даже на небо нельзя смотреть, – и опять шепнул, – сейчас бабушка крикнет: «Коля, Бога ты не боишься».
– Коля! – крикнула бабушка, – Бога побойся!
Я опять рассмеялся, а Коля весело прибавил:
– Видишь, я говорил, – и бросил насмешливо, – боюсь, бабушка, ужасно боюсь, оттого и на небо смотрю.
В окне смешно метался грозивший нам палец. Вдруг грянул оглушительный гром и, как будто подле нас, упал. Казалось, что небо раскололось надвое. Мы запрыгали от восторга. Но внезапно и нежданно подле нас очутилась мама, схватила каждого за руки и потащила за собой, крича:
– Сегодня же всё будет известно папе, – никаких у меня сил нет с вами!..
– А почему не завтра? – шалил Коля, делая вид, что хочет вырваться из её рук.
– Иди, мальчишка, иди, – выходила мать из себя.
– А почему не сегодня? – с холодным равнодушием дразнил Коля.
Наконец, нас втащили в комнаты. Все двери и ставни как бы по волшебству закрылись, и мы остались словно под арестом, прислушиваясь, как разыгрывалась гроза. Коля скомандовал: «в детскую» – и через минуту мы уже были в своей комнате и с завистью выглядывали из окна во двор. Всё больше темнело в нашей комнате и на языке так и вертелось сказать: «Небо нахмурилось и детская нахмурилась».
Справа на горе трава бессильно прилегла и от ветра вся трепетала, точно он бил её, а она пыталась вырваться и не умела. Гудели стёкла в рамах. Андрей торопливо перебежал двор с ломом и лопатой в руках. На крыльце на миг появилась Маша и резким голосом прокричала что-то Андрею. Тот, не останавливаясь, махнул рукою, а Маша ещё громче закричала и скрылась в комнаты, хлопнув дверьми так, что в коридоре окна зазвенели. Сверкнула молния. Я бросился в сторону. Коля осветился зелёным светом. Запахло странным чем-то, и я задрожал от непонятного волнения. Грянул гром, но теперь уже над самым двором, и точно чей-то сухой, короткий смех раздался вслед за ним. Сейчас же ударил дождь, сильный, жестокий, кричащий, и в струях его, как угри, короткие и вертлявые, извивались молнии. Я сидел, как пришибленный; и руки, и ноги у меня дрожали. И каждый раз, когда молния, лизнув заднюю стену, освещала комнату страшным светом своим, я вздрагивал и закрывал лицо руками. Коля совсем упёрся лицом о стекло и, не отрываясь, смотрел во двор. С горы бежала мутная грязная вода и по устроенному стоку направлялась к воротам, откуда уходила на улицу. Опять торопливо пробежал Андрей с мешком в виде башлыка на голове: теперь он был босой и ноги его были оголены выше колен. Что-то, видно, не ладилось у ворот, и он бежал с лопатой в руке дать выход воде, которая уже начала подниматься и угрожать нашей квартире. Прошло томительное мгновение… Мать с зонтиком в руке, поддерживаемая Машей, показалась перед нашими окнами. Андрей скрылся. И вот в это самое мгновение, когда казалось, что никогда дождь не прекратится, что всегда было и будет так и что больше не появится солнце на небе, в это самое мгновение я услышал грохот от въезжавшей в наш двор повозки. Я вскочил от изумления, подбежал к окну, прилип к нему и во все глаза стал глядеть. Мама повернула назад, в комнату. Появился и Андрей. Действительно, во двор въезжала повозка. Подле неё шёл извозчик, который жестоко бил лошадь; она тяжело и не спеша передвигалась, будто удары не трогали её, и от неё шёл густой пар. Она вязла в грязи и вместе с ней вязли колёса, и всё это так, должно быть, злило извозчика, что он колотил кнутом и лошадь и землю, и самого себя по голове руками. Сзади, сторожа добро своё, шла женщина, закутанная в шаль так, что не видно было её лица. Несколько подальше, еле передвигая ноги, шёл старик, постукивая палкой впереди себя; его под руку вёл мальчик.
– Кто это? – спросил я Колю, заинтересованный.
– Новые жильцы, – ответил он. – Должно быть, бедные, – прибавил Коля, провожая глазами повозку и людей.