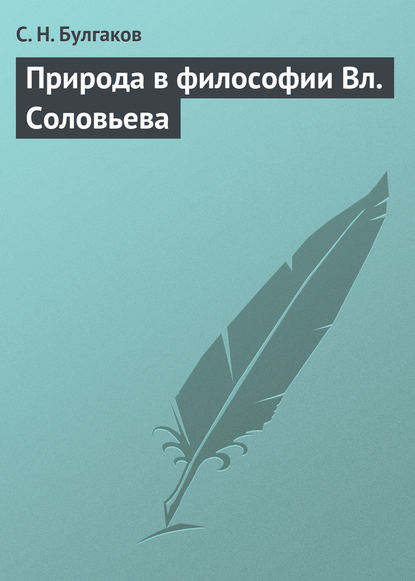По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Природа в философии Вл. Соловьева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Природа в философии Вл. Соловьева
Сергей Николаевич Булгаков
«М‹илостивые› г‹осудари›! Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…»
С. Н. Булгаков
Природа в философии Вл. Соловьева
М‹илостивые› г‹осудари›!
Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах. Взамен высокомерно-пренебрежительного незамечания – из Назарета может ли что произойти! – полного почти игнорирования его философского творчества мы замечаем жадное всасывание, органическое усвоение основных начал его философии. Я не преувеличиваю, и посейчас все это остается еще слишком слабо и недостаточно. Но я помню хорошо, что было 10 лет тому назад, когда философии Соловьева просто почти не знали и интересовались только его публицистикой. Теперь уже и философское творчество Соловьева постепенно становится неотъемлемой принадлежностью русской культуры и русского самосознания, как поэзия Пушкина и Лермонтова, как романы Достоевского и Толстого, как творчество Тургенева и Чехова. Растет число лиц, сознающих, насколько Соловьев нужен для современности, а также и тех, кому он существенно помог в критические моменты духовного роста, кто чтит его как одного из своих учителей и утешителей. Благодаря многомотивности его философии имя Соловьева объединяет людей с разным духовным прошлым и настоящим – философов и поэтов, социологов и естествоведов, марксистов и декадентов, священников и мирян, правых и левых. Каждый находит свою к нему дорогу, получает от него ответы на свои вопросы, выделяет свой излюбленный мотив из полнозвучного аккорда. Мне тоже хочется сегодня выделить один из жизненных мотивов философии Соловьева, именно поставить пред вашим духовным взором лик природы, как видел его Вл. Соловьев.
Два кошмара угнетают современное сознание в философии природы: механический материализм и идеалистический субъективизм. Первый превращает мир в бездушную машину, в мертвый механизм, второй – в гносеологическую схему, в голую возможность познания, лишенную собственной жизни. Оба эти направления мысли, философия чистого объекта и философия чистого субъекта, материализм и субъективный идеализм, практически объединяются, однако, в механическом мировоззрении: для обоих нет живой природы, а есть лишь механизм, проецируемый или в объекте, или в субъекте. Между этими двумя полюсами и мечется смущенный дух. Материализм есть, в известных пределах, естественная и неустранимая форма человеческого самочувствия в его наивной непосредственности, и этого практического материализма не в состоянии уничтожить никакой идеалистический гипноз. Человек чувствует себя природным существом, чрез свое тело связанным со всем природным миром. Эта связь есть слишком элементарный и несомненный факт жизни, чтобы можно было надолго о нем забывать, и разные материалистические теории – философский материализм, экономический материализм, новейший «монизм» – представляют собою лишь попытки философски посчитаться с этой непосредственной данностью, ее истолковать. Этот естественный уклон мысли в сторону материализма, как бы ни были неудовлетворительны материалистические теории, не может быть побежден просто идеалистическим отрицанием материи. Легко диалектически разрешать материю в наше представление или в иллюзию, как бы в сон, лишая ее всякой теплоты и красочности, но эта идеалистическая критика, сильная в тиши замкнутого кабинета, не обладает, однако, жизненной убедительностью и безмолствует пред лицом голода, болезни, рождения, смерти. Кроме того, это идеалистическое пренебрежение к материи должно считаться и с ее способностью к просветлению в созданиях искусства, в красоте природы, в возможном благородстве и красоте человеческого тела. Проникновенно говорит об этом У. Джемс: «Для человека, когда-либо смотревшего на лицо своего мертвого ребенка или отца, один тот факт, что материя сумела на время принять эту драгоценную форму, должен был бы сделать материю навсегда священной. Каков бы ни был принцип жизни – материальный ли он или нематериальный, – но материя во всяком случае помогает ему и подчиняется всем целям жизни. Эта дорогая нам телесная оболочка находилась в числе возможных для материи воплощений»[1 - Джемс У. Прагматизм. ‹СПб., 1910.› С. 62–63.]. Отсюда понятно, что сухой, механический материализм у душ поэтических и нежных принимает форму религиозно окрашенного гилозоизма, последнее время с налетом гетевской пантеистической мистики. Тем не менее последовательный материализм неизбежно разлагается от внутренних противоречий. Сознание и познание, волю и действие, вообще всю жизнь духа с его запросами, идеалами, с его свободой не в силах объяснить материализм.
Однако тот, для кого материализм становится хотя и пережитым, но еще внутренне не превзойденным мировоззрением, кто, расставшись с ним, все же сохраняет в себе неизгладимую память об этом интимном переживании, найдет ли он успокоение в господствующих идеалистических учениях, чуждых всякого материализма, но именно поэтому бессильных его окончательно преодолеть? Ибо отвести глаза от предмета не значит еще его устранить и рассматривать мир из окна кабинета, откуда он представляется не живым, а лишь нарисованным, не значит еще возвыситься над ним. Идеализм, как он есть в господствующих течениях кантианства, фихтеанства и неокантианства, спасает духовную личность от материализма, но ценою обескровления мира, а вместе с ним и человека. Последний превращается в гомункула, замкнутого в реторте и наглухо отделенного от других людей и от мира. Этому гомункулу соответствует и «мир в карманном формате», как метко и зло выразился Шеллинг по адресу Фихте по поводу этого идеалистического мира. Возможно ли мировоззрение, стоя на почве которого можно было бы быть и материалистом, т. е. мыслить себя в реальном единстве с природою и человеческим родом, но вместе с тем утверждать и самобытность человеческого духа с его запросами, с его постулатами о сверхприродном, божественном бытии, освещающем и осмысливающем собою природную жизнь? Таков вопрос, который глубоко затаен в душе у многих и многих людей нашего времени. Именно этой потребности современного духа и идет навстречу учение Вл. Соловьева о природе, к которому он сам применил однажды характерное название «религиозного материализма» и которое, в более строгом философском стиле, можно определить как конкретный натурфилософский спиритуализм или панпсихизм. Что же такое представляет собою этот религиозный материализм, не есть ли это явно противоречивое соединение несоединимых понятий? Напротив, он притязает быть их синтетическим единством. Религиозный материализм, вместе с материализмом, признает субстанциональность материи, метафизическую реальность природы. Он считает человека не духом, заключенным в футляр материи, но духовно-телесным, природным существом, метафизические судьбы которого неразрывно связаны с природным миром. Но в то же время, в противоположность материализму, он видит в материи не один только мертвый механизм атомов или сил с эпифеноменом жизни. В противоположность этой метафизике всеобщей смерти, абсолютного механизма он отстаивает первичность и всеобщность жизни, развивающейся в целемеханизме природы, и для него различие между живым и неживым остается не качественным, но количественным. «Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или она есть во всякой природе, различаясь только по степеням и формам. Ибо нет никакой возможности, оставаясь на научной почве, отделить человека в этом отношении от остального мира… весь видимый мир… есть продолжающееся развитие или рост единого живого существа»[2 - Собр. соч. В. С. Соловьева. Т. VI. С. 468.]:
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит…
Но кто делает подобное утверждение, будь ли то Шеллинг или Вл. Соловьев, не имеет ли против себя все научное естествознание? Не изучает ли оно природу только как механизм и не увенчивается ли это изучение колоссальным успехом? Однако что же дает право естествознанию его условное, методологическое отношение к природе, его рабочие гипотезы, которых притом столько же, сколько отдельных наук, превращать в общее учение о природе, утверждать, что природа в целом выглядит так же, как видит ее физика, химия, кристаллография, механика, что природа есть только механизм, а не целемеханизм, т. е. универсальный механизм? Не значит ли это смешивать гербарий и музей с храмом природы или лежащий на анатомическом столе труп приравнивать живому человеку? Не совершается ли при этом бессознательное природоубийство? Смотреть на природу непосредственно, наивно открытыми, детскими глазами теперь составляет двусмысленную привилегию поэтов. Беклину можно писать своих наяд и сказочных сатиров, и сами фанатики механистической философии не прочь на них полюбоваться в виде отдыха. Но всерьез принимать это оживотворение природы предоставляется только поэтам да детям. Что же, замечает по этому поводу Соловьев, «может быть, существуют две истины: одна для поэзии, другая для науки? Но наука тут не при чем; она не отвечает за ложные выводы, которые делаются из ее достоверных данных в силу одностороннего направления мысли, возобладавшего в известную эпоху. Наука никогда не доказывала – да, по существу дела, и не может доказывать, – что мир есть только механизм, что природа есть только мертвое существо. Различные науки исследуют природу по частям и находят между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая исследовала бы вселенную в ее единстве и целости, вовсе не существует, а логика, обязательная и для наук, не позволяет от анализа частей и их внешней частичной связи делать окончательное заключение о всеобщем характере или смысле целого. Ведь и в теле живого человека все его части и частицы связаны между собой механически, – это не мешает ему, однако, быть одушевленным существом… Точно так же и механизм всей природы есть только слаженная совокупность для проявления и развития всемирной жизни». Ведь «и для микроскопических глаз мухи вовсе не существует целое гармоническое очертание человека или человеческого лица с его выражением, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическом исследовании в бесформенную массу грубых тканей и клеток, механически нагроможденных без всякой законченности и единства»[3 - Там же. С. 466–467.]. Но этот лик природы, невидимый в микроскоп, открывается просветленному созерцанию святого и творческой интуиции мыслителя и поэта.
Механический монизм философии естествознания опирается на одну общую и априорную предпосылку, которая не может быть доказана в науке, ибо сама ее обосновывает; это именно предположение непрерывной закономерности, проникающей собою всю вселенную, или единого космического механизма.
Исторически это убеждение зарождается в иудейско-христианском монотеизме, связано с верою в Единого Творца и Вседержителя единого мира. Эти религиозные корни науки иногда вскрываются и теперь. Так, например, Кристоф Зигварт прямо утверждает, что лишь монотеизм иудейской и христианской религии был почвой для идеи всеобъемлющей, исследующей единые законы науки[4 - «Политеизм, видящий в мире лишь раздельные области независимых друг от друга сил, по своей природе чужд стремящейся к единству науке. Наоборот, монотеизм иудейской и христианской религии дал плодотворную почву для идеи всеобъемлющей, исследующей единые законы вселенской науки. Иначе в какой же другой форме могла впервые явиться идея, что небо и земля объемлются единой мыслью и что человек призван понять эту мысль, если не в вере в Единого Творца, создавшего небо и землю и сотворившего людей по образу Своему? В какой форме можно было выразить энергичнее, что нет ничего случайного и что вещи не кое-как переплетаются в своих запутанных путях, как не в мысли о Провидении, без воли которого не падает на землю воробей?.. Достаточно взглянуть на истинных основателей великих основоположений современного исследования, на Галилея и Кеплера, чтобы увидеть, чем была для них христианская идея о Боге. Исследование законов, в которых все определяется мерою и весом, имеет для Галилея смысл, лишь если мы верим в постоянство и непрерывную всеобщность законов природы, а эта вера имеет своим основанием веру во всемогущего и мудрого Творца, устроившего мир по определенным целям; равным образом суждения и вычисления Кеплера исходят из мысли, что в мире можно найти гармонию, которая должна быть делом бесконечного интеллекта». Christoph Sigwart. Kleine Schriften. Zweite Reihe. 2-te Ausg. Freiburg i. В., 1889. ?ber die sittlichen Grundlagen der Wissenschaft. 13–14.].
Античный мир, если не считать отдельных философских течений, остается чужд этому универсальному механизированию жизни; тогда все было «полно богов», силы природы мыслились как боги; и он изнемогал от своего политеизма, становившегося полидемонизмом. Мир был как бы разделен на обособленные сферы, находящиеся в ведении отдельных демонов, и сам великий Пан, всебог, был только одним из многих.
Нужно было освободиться от этого полидемонизма, для того чтобы человечество могло вступить на путь систематического и последовательного овладения природой, и этот экзорцизм, изгнание демонов, совершен был христианством. Однако, изгоняя демонов, христианство не превратило мир в бездушный механизм; вместе с великим Паном еще не умерла природа, напротив, она приобщилась – через воплощение Слова и таинства Церкви – к новой, благодатной жизни, взамен прежней одержимости она получила обетования обожения и грядущего прославления. Христианство в своем цельном подлинном учении необходимо содержит в себе то, что Соловьев назвал религиозным материализмом и что утрачено в современном философском сознании. Но в этой утрате сказались уже влияния новейшей философии, так называемого рационализма, имеющего два образа: материализма и субъективного (трансцендентального) идеализма. Эта двойственность рационализма выразилась уже в изначальном противопоставлении отца этой философии Декарта: res cogitans, мир познания, и res extans, мир вещей. Произошел незримый, но ощутительный разрыв человека с природным миром, породивший это расщепление субъекта и объекта. Философия перестала рассматривать человека в природе и жизнь как она есть в реальной, нерассеченной действительности, она предстала лишь как мир отношений, а не сущностей, как механизм причин и следствий.
Рационализм не мог, конечно, совершенно уничтожить более жизненной философии, достаточно назвать имена Лейбница с его монадологией, Гете, Шеллинга, Фехнера, Фр. ф. Баадера и даже Шопенгауэра и Гартмана, Лотце и Вундта, однако на стороне его стоит не только научный позитивизм и материализм, но и современная «научная» философия, т. е. гносеологический идеализм. Строго говоря, это есть не рационализм, не поклонение ratio, разуму, но рассудочность, построение философии по схемам научного разума, т. е. рассудка. В смешении этих глубоко различных понятий разума и рассудка повинен и сам отец критицизма Кант, который под именем критики чистого разума дал критику чистого рассудка. Различая и противопоставляя разум и рассудок, я вижу в них разные употребления мыслительной силы, присущего нам космического логоса. Но единство корня не устраняет между ними возможных и даже неизбежных столкновений; истины умозрения, необходимые для разума, могут казаться совершенно неприемлемы для рассудка, и те, кто отождествляет разум с рассудком, объявляют все противорассудочные истины противоразумными (таково, напр‹имер›, распространенное отношение к учению ‹о› триипостасности Единого Божества). Рассудок ориентирует нас в действительности на основе закона причинности как универсального начала, не терпящего ограничений. Мир для рассудка есть самозамкнутый механизм, который может быть выражен в идеальном пределе как единая математическая формула, символизирующая мировую закономерность. Таким же механизмом, или машиной, является для рассудка и человек. Поэтому мировой механизм – это и есть сам рассудок, предписывающий, как сказано в кантовских «Пролегоменах», свои законы природе. Рассудочна в этом смысле вся наука; научное постижение мира всецело основывается на этих предположениях рассудка, и выяснение этого a priori[5 - a priori (лат.) – до и вне всякого опыта.] составляет бессмертную заслугу критики чистого разума у Канта. Но при этом неизбежно возникает и дальнейший вопрос – о пределах рассудочности вообще. Есть ли она единственное правомерное употребление разума, и прав ли Кант, ограничивая законную, плодотворную деятельность разума рассудочностью? Возможно ли правомерное употребление разума поверх рассудочности и глубже ее? Иначе этот же вопрос можно выразить так: справедливо ли придается здесь основоположениям рассудка исчерпывающее онтологическое значение? являются ли рамки рассудочной гносеологии вообще границами постигаемого бытия? есть ли рассудочное, или научное, постижение мира и окончательное, или последняя истина о мире? На все эти вопросы давались и даются различные и даже противоположные ответы, и философски бесспорного здесь нет ничего.
Научное постижение ориентирует нас в мире как совокупности вещей, нами созерцаемых и имеющих сделаться предметом нашего активного воздействия. Пассивность, вещность, чистая объектность и потому безжизненность этого мира составляют его неотъемлемое свойство. Рассудок знает лишь вещи, для него нет ничего живого, т. е. невещного. Даже явления жизни существуют для него только как эпифеномены механизма, но не как самостоятельные, несводимые к вещам начала бытия. Потому чисто рассудочная или, что то же, научная философия необходимо безжизненна, весь мир она опрыскивает мертвой водой. Поэтому же у живых существ нет и не может быть до конца последовательной рассудочной философии: ненавистный «психологизм» оказывается в ней неистребим, даже Спиноза из мертвой пустыни своего вещного детерминизма спасается в amor Dei intellectualis[6 - amor Dei intellectualis (лат.) – интеллектуальная любовь к Богу.], т. е. все-таки живое, ибо любовное, постижение мира, который оказывается поэтому substantia sive natura, sive Deus[7 - substantia siva natura, siva Deus (лат.) – сущность или природа, или Бог.].
И Кант спасается из царства чистой рассудочности в практический, т. е. живой, разум, ценою внутреннего дуализма спасая личность. И наиболее радикальные представители философии рассудочности неизбежно оставляют возможность «практически» устраиваться вне зависимости от нее.
Рассудочная ориентировка в жизни (идеал «чистого трансцендентализма», с исключением всякого «психологизма») мыслима только при полном упразднении живого человеческого существа в его конкретной целостности, т. е. предполагает такую действительность, которая по отношению к нашей теперешней действительности оказывается совершенно трансцендентной, иноприродной. Рассудочность, применяемая как онтология, есть поэтому самая радикальная метафизика трансцендентного, как бы ревниво она себя от этого ни оберегала. Человек все-таки не превращается в то бескровное, безличное единство чистой апперцепции, или гносеологический субъект, какого только и признает рассудочная философия. Он все-таки есть живой субъект, конкретное я, совершенно неразложимое и непостижимое как механизм схемами рассудка. Можно объявить это живое я несущественным «психологизмом», или пучком представлений, разлагающихся в механизм, рефлексом физико-химических процессов и т. д., и т. д.; но спрашивается, кто же это объявляет, как не то же самое живое, конкретное я, и как может я усомниться в я? Это невыполнимо даже в отвлечении и абсолютно невозможно – истина, почувствованная в философии Фихте. Поэтому Декарт в своей формуле: cogito, ergo sum, т. е. я пользуюсь рассудком и, следовательно, существую, уже выразил всю ограниченность и условность рассудочной философии, которая рассудком хочет обосновывать жизнь и бытие, между тем как сам он есть порождение жизни. Формула Декарта должна быть представалена: sum, ergo cogito, ergo dubito, ergo ago, ergo laboro[8 - sum, ergo cogito, ergo dubito, ergo ago, ergo laboro (лат.) – существую, следовательно мыслю, следовательно сомневаюсь, следовательно говорю, следовательно действую.]. Можно принять метафизическую формулу: amo, ergo sum[9 - amo, ergo sum (лат.) – люблю, следовательно существую.], ибо в любви – высшее проявление жизни, но нельзя рассудочностью обосновывать бытие.
Поэтому рассудочная философия пред лицом великого, основного и непосредственного факта – жизни в ее конкретности – всегда останется отвлеченностью, о которой справедливо скажет Мефистофель:
Grau, theurer Freund, ist jede Theorie
Und gr?n des Lebens goldner Baum[10 - Теория, мой друг, суха,Но зеленеет жизни древо(Гете. «Фауст»; пер. Б. Пастернака // Гете И. В. Избранные произведения: В 2 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 80).].
Действительность, как мы ее знаем, не исчерпывается рассудочными категориями, а только их терпит, допускает. Она глубиннее, нежели рисуется в схематических проекциях и чертежах рассудочности. Она содержит в себе сверхрассудочный и в этом смысле совершенно иррациональный остаток или, точнее, основу, которая не поддается ни под микроскоп, ни под анатомический нож, ни под схемы рассудочности. Действительность гораздо глубже, богаче, таинственнее, нежели ее рисует нам рассудочность. По глубокомысленному сравнению Бергсона рассудок относится к жизни синематографически: то, что существует как единый и слитный акт жизни, он разлагает на бесконечное множество причинно связанных между собою моментов. При движении синематографической ленты они опять сливаются в цельное изображение, однако мы имеем уже отнюдь не живое единство, но лишь безжизненный синематограф.
Жизнь не потому только не исчерпывается рассудочным сознанием, что оно имеет дело лишь с обезжизненным содержанием, но и потому, что в ней осуществляется конкретное нераздельное единство воли, чувства и разума. Я существует не в раздельном виде как гносеологический субъект, по ведомству департамента гносеологии, или волящий – департамента этики, или чувствующий – эстетики, таковая триипостасность я, введенная Кантом и унаследованная от него неокантианством, есть условная фикция. Та действительность, которая нам непосредственно дана во внутреннем опыте, обладает основным качеством жизни, все обезжизненное и не-живое нами познается только в отношениях к жизни, в терминах жизни; механизм вещей в непосредственном опыте нам неведом. Живое я непосредственно находит себя в таинственном и загадочном единстве с не-я, или с природой, для него есть другое я, т. е. ты, оно способно чувствовать как мы и противопоставляет себе вы. В я дано не-я, ты, мы и вы, целый мир, живой и трепетный. Для рассудочно-механического, обезжизнивающего понимания он недоступен, живое для него не существует в своей самобытности и автономности; оно допустимо лишь как атрибут механизма, коему предоставлено влачить жалкое беспаспортное существование на правах психологизма и субъективизма за пределами orbis terrarum[11 - за пределами orbis terrarum (лат.) – за пределами круга земного…] познания.
Ввиду явной недостаточности рассудочной философии, ее неадекватности жизненному опыту вопросы о том, что лежит за пределами рассудочности, т. е. вопросы метафизики, неизбежно возникают силою вещей, обладают неистребимой живучестью. Конечно, возможна и сейчас является наиболее распространенной чисто негативная метафизика, истолковывающая смысл метафизических вопросов по-кантовски, как паралогизмы, или недоразумения, или же вечные задачи разума. Но и отрицание метафизики или ее «разъяснение» представляет собою уже одно из метафизических учений, и кто же отважится утверждать, кроме фанатиков рассудочности, что оно есть единственно возможное. По крайней мере, не история философии, которая на кантовское нет ответила величественным да метафизики Шеллинга и Гегеля, Шопенгауэра и Гартмана, и все говорит, что и теперь назревает новая творческая эпоха в метафизической мысли.
Разум познает сущее только в его отношениях, но не в существе; действительность является одновременно и разумной, причастной разуму, доступной ему как различение и связь, и запредельной, трансцендентной для разума, как воля, как чувство, как любовь. Граница мысли есть мысль, всякая философия рационалистична, мыслит в понятиях разума, но разум знает не глубину действительности, а только ее грани. Этим невыразимым и недомыслимым сущностям разум может дать только символическое выражение в понятиях и не должен никогда забывать об этом символизме. Но в отличие от рассудочности метафизика не уничтожает, не обходит, как опасных препятствий, этих явным образом алогичных областей, но, символизируя их в понятиях, стремится построить систему разума как схему этой действительности, живой и конкретной. Разум стремится дать философию жизни, рассудок знает лишь механизм. Для первой существует живой человек в живой природе, для второго – заводная машина в безжизненном механизме, «вертящийся вертел», «летящая стрела», мнящие себя свободными. Основное понятие философии есть, по моему убеждению, не cogito, a vivo[12 - не cogito, a vivo (лат.) – не мыслить, а жить.].
Бог есть Бог живых, а не мертвых.
Разум сталкивается с рассудком. Возникает вопрос о размежевании их компетенции; разум должен очертить область рассудка, обосновать возможность рассудочного, научно-опытного знания. Вопреки притязанию рассудочности подчинить философию науке, выражающемуся в идеале научной философии, необходимо философски объяснить факт науки, а не «ориентировать на нем» философию. Это есть проблема философии науки, философского наукословия, потребность в котором вновь заметно назревает в современной мысли (Бутру, Бергсон, Пуанкаре, прагматисты). И все отчетливее обрисовывается «прагматический» характер науки. Становясь по отношению к миру в научную позу, надевая на себя ледяную личину рассудка, решаясь «не плакать, не смеяться, но понимать», человек вырывает у природы если не ее тайны, закрытые холодному рассудку, то ее секреты, полезные для жизни. Рассудочность имеет глубокие корни в утилитарно-прагматическом отношении к природе. И современный прагматизм только разгласил тайну рационализма, сделав своим боевым принципом то, что молча, потихоньку делала и делает европейская мысль в новейшую эпоху. И если уж искать истинного родоначальника прагматизма, а вместе и наиболее тонкого ее представителя, то это был Кант, обосновавший условность и относительность, антропоморфизм всего человеческого опыта, а вместе с тем пытавшийся замкнуть мысль в этой ограде субъективизма. И Шиллер с протагоровским «человек есть мера вещей» лишь договаривает не договоренное Кантом; но это же самое делается теперь и в неокантианстве. Однако, если прагматизм как научная практика представляет собой нечто естественное, необходимое и законное, то провозглашенный в качестве философии, он есть самоубийство рассудочности, как и всякий радикальный скептицизм. И неудивительно поэтому, что он вызывал против себя наибольшую враждебность именно среди тех, чью тайну он так прямодушно разгласил.
Тем не менее наука или вообще рассудочная мысль при всей относительности и условности своих истин и понятий есть прежде всего факт, требующий своего объяснения. И это объяснение может быть дано только на основании онтологического предположения, совершенно выводящего за пределы рассудочной философии, именно что логическая связь вещей, устанавливаемая в разных ракурсах деятельностью разума и рассудка, не субъективна только, но объективна, принадлежит природе вещей, и познание возможно только в силу причастности нашего разума к разуму вещей. Наше познание возможно лишь постольку, поскольку логична сама действительность и поскольку мы реально приобщаемся в нем к Логосу. Другими словами, наука обосновывается в метафизике.
На основании сказанного о характере рассудочной философии легко заключить, чем является в ней природа. Говоря словами Шеллинга, «общий недостаток всей новоевропейской философии начиная с Декарта в том, что для нее не существует природы, что у нее нет живой основы»[13 - Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы. ‹СПб., 1908.›, 24.]. Природа есть лишь возможность явлений, основа опыта, некоторое вполне неопределенное нечто, оформляемое познавательными категориями рассудка. Это тот иррациональный толчок, которым не-я стучится в я в системе Фихте и в некоторых доктринах современного неокантианства. Причем это понятие диалектически разлагается на две противоположности, представленные в двух основных направлениях рассудочной философии: идеализме и материализме. Природа в рассудочной философии познается только как механизм, сплошная цепь причин и следствий. «В природе можно без удивления видеть (говорит Кант в первом издании „Критики чистого разума“) одну лишь коренную способность всего нашего познания, именно трансцендентальную апперцепцию, то единство, только благодаря которому она и может быть названа объектом всего возможного опыта, т. е. природой, и именно поэтому можно необходимо познать это единство a priori». Следовательно, природа есть лишь зеркало нашей познавательной субъективности, нечто «метеорическое». В такой призрак превращается природа у Канта, а еще больше у Фихте и в новейшем неокантианстве радикально-идеалистического направления. С другой стороны, рассудочная философия, не искушенная критицизмом, впадает неизбежно в механический материализм. Она прямо рассматривает природу как связную, хорошо слаженную машину, как систему атомов или сил. В качестве рабочей гипотезы естествознания, по справедливому замечанию Ланге (в «Истории материализма»), эта точка зрения оказалась весьма пригодной, но отнюдь не в философии. В стороне от этого торного пути европейской мысли стоит лишь Шеллинг с его натурфилософией, генеалогия которой восходит не только к Канту, но и к мистической философии Бёме, Баадера и восточного христианского умозрения, да еще Фехнер, оказавший влияние на Вундта, и Гартман. Природа умирает в новой философии, и это несмотря на рост пантеистических настроений. Если видеть в механическом мировоззрении философскую истину, тогда придется сказать, что рассудочная философия совершила огромнейшее историческое дело, открыла действительно новую эру в истории сознания. И, наоборот, если видеть в его торжестве лишь аберрацию мысли, тогда необходимо признать, что в нем философия сделала шаг назад по сравнению с античной и средневековой мыслью или, выразимся точнее, перебаливает какой-то своей специфической болезнью, неведомой прежним эпохам. Природа, которая некогда была живою для человека, теперь для него омертвела, произошло как будто новое изгнание Адама из рая. Природа открыла свои секреты, но затаила свою тайну. Античный человек находит в природе целый сонм живых существ. В шелесте Додонского дуба он слышит божественный оракул, и ручей шепчет ему свою сказку. Также и философская спекуляция античности возвышается до величественных учений о мировой душе у Платона и Плотина и о природном целемеханизме у Аристотеля, причем оба эти учения составляют драгоценнейшее философское наследие античности, переданное ею грядущим векам, поистине ????? ??????[14 - ????? ?????? (греч.) – приобретенные навсегда.]. Великий Пан умирает, когда над миром водружается Крест, но с ним не умирает природа. Освобожденная от чар вакхического оргиазма и стряхнувшая оковы полидемонизма, она возрождается к новой мистической жизни. Она вздымается навстречу приклонившемуся небу и приемлет воплощающийся Логос, выражая свое свободное согласие на Высшую волю. Устами непорочнейшего своего создания, пречистой Девы, говорит природа: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Материя становится богоматерией, из нее рождается Богоматерь, чрез которую совершается воплощение Слова, а с ним начинается новая космическая эпоха. Природа в человеке через Церковь становится способной к обожению, и это получает явное свидетельство в таинстве Тела и Крови. Этот религиозный материализм проникает всю христианскую догму, формулируется в творениях отцов и учителей Церкви, – назовем хотя ‹бы› св. Афанасия Александрийского, – получает догматическое выражение на вселенских соборах и определяет церковную практику. Судьбы природы, стенающей и ожидающей своего освобождения, отныне связываются с судьбами человека, «покинувшего» ее; новое небо и новая земля входят уже необходимым элементом в состав христианской эсхатологии. Новые верования, связанные с новым религиозным опытом, находят выражение и в новых философских спекуляциях православного Востока и Запада, в творениях Оригена, блаженного Августина, св. Григория Нисского, св. Максима Исповедника, Псевдо-Дионисия Ареопагита, И. Скота Эригены, а позднее средневековых и новейших мистиков, у итальянских натурфилософов эпохи Возрождения, в учениях Лейбница, Шеллинга, Баадера. И тем не менее надо констатировать, что с началом господства рассудочной философии, с века Декарта, Спинозы, Канта и новейшего критицизма и материализма, эта философская традиция резко обрывается. Получается впечатление, что произошел какой-то подпочвенный, мистический сдвиг, иссякли какие-то подземные источники, питавшие собою эту традицию. Как будто мертвящий ветр пронесся над тварью и поникли ее лики. В сознании это и выразилось в преобладающем влиянии рассудочной философии, в веяниях так называемого просветительства. Борьба с ним, естественно, должна выразиться в стремлении в такому философскому мировоззрению, которое, не умаляя значения науки и вообще рассудочности, а отводя ей свое место, философски возвышалось бы над ней, снова восстановило бы связь человека с сердцем природы. Такова проблема натурфилософии, как она представилась уже философскому гению Шеллинга. И еще отчетливее ставится она в философии Соловьева: чрез природу как объект естествознания прозревать природу как сущее, в механизме увидеть организм, в бездушной природе познать Божию тварь – такова одна из самых центральных задач метафизики Соловьева, а его учение о природе и мировой душе есть одно из самых центральных его учений, притом особенно интересное именно для нашего времени. Мы вступаем в эпоху начинающегося кризиса рассудочной философии, едва ли не свершившей уже полный цикл своего развития. Не только в философии, но и в самом естествознании нарождаются и крепнут течения, которые, если мысленно продолжить их, приведут нас в русло античных идей о мировой душе или христианского учения об обожающейся твари. Твердыня механического материализма научно поколеблена. В религиозном сознании наших дней также заметна неудовлетворенность односторонним пониманием христианства лишь как индивидуально-этического учения, снова нарождается потребность в христианской натурфилософии. Наконец, и в действенном, практическом сознании человечества по-новому ощущается проблема об отношении человека к космосу. Мы живем в век небывалого и, по-видимому, еще находящегося только в начале хозяйственного овладения природой. Мир пластичен, он послушен нашей воле, провозглашает современный прагматизм, и в этой пластичности нас убеждает каждый новый шаг в покорении природы, в этом непрерывном ее очеловечении. Да, мир пластичен, но что же значит эта пластичность, можно ли ее философски понять, объяснить возможность, установить пределы? Это ставит пред философским сознанием совершенно новую – или, по крайней мере, в такой форме никогда еще не стоявшую – проблему философии хозяйства[15 - Ср. наш очерк «Проблемы философии хозяйства» (Вопросы философии и психологии. 1910. IV).].И все эти проблемы связаны с общей философией природы. Это – вопросы, которые выходят за пределы научного естествознания в область метафизики природы. Это грандиозное по замыслу учение о природе никогда не было проработано Соловьевым в завершенную систему. Мы имеем не рисунок, а скорее чертеж, хотя и сделанный рукою мастера, но местами не законченный и не раз переделывавшийся в частностях. В разные эпохи и в разной форме возвращается он к этому учению: в философских трудах, в критике и публицистике, в поэзии и, как мы теперь знаем, в частной переписке. Везде предносится пред ним Она, Вечная Женственность, Божественная София, Душа мира. И это делает изложение и истолкование этого учения, в особенности с его вариантами, вообще довольно затруднительным. Наиболее систематическое выражение оно получает в «Чтениях о Богочеловечестве» и во французском трактате («La Russie et l'Eglise universelle»); но и между ними имеются немаловажные варианты (напр‹имер›, в изображении творения мира Богом). Это учение вводит нас притом в центральный лабиринт соловьевской мысли. Поэтому я должен заранее отказаться от мысли сделать его здесь общедоступным и ограничусь лишь кратким указанием на его основные черты.
В рассматриваемом учении Соловьева мы видим переливы и отражения многих предшествовавших философских учений, которые он объединяет в широком синтетическом охвате: здесь чувствуются Платон и Плотин, Аристотель и христианское богословие, Лейбниц и Кант, Шопенгауэр и Шеллинг. Можно с полным убеждением сказать вместе с кн. С. Н. Трубецким, что едва ли можно назвать «в новейшей истории мысли синтез более широкий, чем тот, который был задуман им с такой глубиной, так ясно, стройно и смело»[16 - Собр. соч. кн. С. Н. Трубецкого. Т. I. ‹М., 1907. С.› 348.]. И если теперь иногда раздаются голоса, которые отрицают философскую оригинальность Соловьева на том основании, что его творчество находится в ясной и несомненной связи с историей мысли, продолжает мировую философскую традицию, то этим только обнаруживается непонимание задачи и пределов индивидуального творчества. Ближе всего Соловьев в рассматриваемом учении стоит, бесспорно, к Шеллингу второго и третьего периода, в отдельных пунктах соответственные учения Шеллинга глубже и гениальнее, но даже поставленный рядом с этим удивительным мыслителем, наш философ не теряет своей индивидуальности, а, кроме того, отличается от него более поздним историческим возрастом и, следовательно, большей широтой синтеза. Природа есть живое существо, природа есть сущее, природа есть абсолютное. Однако в отличие от пантеизма, хотя и постигающего жизнь природы, но отождествляющего ее с Божеством, у Соловьева природа есть другое Бога, Его творение и образ, второе абсолютное, становящееся им в процессе, во времени. В учении Соловьева проводится ясная грань между Творцом и тварью, но вместе с тем устанавливается и тесная связь. Вместе с Бёме, Баадером и Шеллингом Соловьев учит о природе в Боге, имеющей потому вневременное и предвечное существование. Божеству принадлежит положительное всеединство, потенциальная множественность идей или существ, связываемая единящим началом Логоса, второй ипостаси. Этому произведенному единству Соловьев усваивает библейское название Софии: «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство, Христос как целый божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе – есть и Логос, и София» (III, 106). Это «все», которое содержится в божественном единстве и первоначально имеет свое бытие только в нем, само по себе есть лишь потенция бытия, первая материя, или не-сущее (?? ??).
«Божество ‹…› эту потенцию бытия вечно осуществляет, всегда наполняет беспредельность существования таким же беспредельным, абсолютным содержанием, всегда утоляет им бесконечную жажду бытия, всему сущему свойственную» (III, 124–125). Но в каждой из частных сущностей, входящей в это всеединство и составляющей собой не все, а лишь частное, одно из многого, и не могущей быть непосредственно всем, «абсолютная полнота бытия ‹…› открывается как бесконечное стремление, как неутолимая жажда бытия, как темный, вечно ищущий света огонь жизни» (125), как беспредельное (????????), «…это беспредельное, которое в Божестве есть только возможность, никогда не допускаемая до действительности (как всегда удовлетворяемое, или от века удовлетворенное, стремление), здесь – в частных существах – получает значение коренной стихии их бытия, есть центр и основа всей тварной жизни (????? ??? ????)» (125). В «распаленном колесе жизни» эта беспредельная слепая жажда, неугасающая первоволя, неумиренный, хотя и скованный хаос чувствуется как стихия ужасного, ослепляющая наше ночное сознание.
На мир таинственных духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
Но когда ночь отбрасывает этот покров, то
…Бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.
Соловьев мастерски сумел оценить и философски истолковать проникнутую этой стихией поэзию Тютчева, которой посвятил глубокомысленный этюд. И с особенным проникновением останавливается он над вещими стихами Тютчева о темном корне мирового бытия, о первобытном хаосе, на этом ясновидении философа-поэта.
О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем ты сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой
То глухожалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки.
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться…
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..
Свет освещает тьму, но в то же время и предполагает ее, и победа над хаосом являет его положительное преодоление, вот почему корни бытия глубоко погружаются в темные недра.
Свет из тьмы: над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Сергей Николаевич Булгаков
«М‹илостивые› г‹осудари›! Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах…»
С. Н. Булгаков
Природа в философии Вл. Соловьева
М‹илостивые› г‹осудари›!
Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем дальше мы от них отходим. По ним мы ориентируемся в пути, они всегда остаются перед нашими глазами. Временем так же испытывается подлинное величие, как расстоянием – высота гор. Мы отошли всего на 10 лет со дня кончины Соловьева, и как изменилась уже историческая перспектива, как вырос он пред нашими глазами, какое место он начинает занимать в наших душах. Взамен высокомерно-пренебрежительного незамечания – из Назарета может ли что произойти! – полного почти игнорирования его философского творчества мы замечаем жадное всасывание, органическое усвоение основных начал его философии. Я не преувеличиваю, и посейчас все это остается еще слишком слабо и недостаточно. Но я помню хорошо, что было 10 лет тому назад, когда философии Соловьева просто почти не знали и интересовались только его публицистикой. Теперь уже и философское творчество Соловьева постепенно становится неотъемлемой принадлежностью русской культуры и русского самосознания, как поэзия Пушкина и Лермонтова, как романы Достоевского и Толстого, как творчество Тургенева и Чехова. Растет число лиц, сознающих, насколько Соловьев нужен для современности, а также и тех, кому он существенно помог в критические моменты духовного роста, кто чтит его как одного из своих учителей и утешителей. Благодаря многомотивности его философии имя Соловьева объединяет людей с разным духовным прошлым и настоящим – философов и поэтов, социологов и естествоведов, марксистов и декадентов, священников и мирян, правых и левых. Каждый находит свою к нему дорогу, получает от него ответы на свои вопросы, выделяет свой излюбленный мотив из полнозвучного аккорда. Мне тоже хочется сегодня выделить один из жизненных мотивов философии Соловьева, именно поставить пред вашим духовным взором лик природы, как видел его Вл. Соловьев.
Два кошмара угнетают современное сознание в философии природы: механический материализм и идеалистический субъективизм. Первый превращает мир в бездушную машину, в мертвый механизм, второй – в гносеологическую схему, в голую возможность познания, лишенную собственной жизни. Оба эти направления мысли, философия чистого объекта и философия чистого субъекта, материализм и субъективный идеализм, практически объединяются, однако, в механическом мировоззрении: для обоих нет живой природы, а есть лишь механизм, проецируемый или в объекте, или в субъекте. Между этими двумя полюсами и мечется смущенный дух. Материализм есть, в известных пределах, естественная и неустранимая форма человеческого самочувствия в его наивной непосредственности, и этого практического материализма не в состоянии уничтожить никакой идеалистический гипноз. Человек чувствует себя природным существом, чрез свое тело связанным со всем природным миром. Эта связь есть слишком элементарный и несомненный факт жизни, чтобы можно было надолго о нем забывать, и разные материалистические теории – философский материализм, экономический материализм, новейший «монизм» – представляют собою лишь попытки философски посчитаться с этой непосредственной данностью, ее истолковать. Этот естественный уклон мысли в сторону материализма, как бы ни были неудовлетворительны материалистические теории, не может быть побежден просто идеалистическим отрицанием материи. Легко диалектически разрешать материю в наше представление или в иллюзию, как бы в сон, лишая ее всякой теплоты и красочности, но эта идеалистическая критика, сильная в тиши замкнутого кабинета, не обладает, однако, жизненной убедительностью и безмолствует пред лицом голода, болезни, рождения, смерти. Кроме того, это идеалистическое пренебрежение к материи должно считаться и с ее способностью к просветлению в созданиях искусства, в красоте природы, в возможном благородстве и красоте человеческого тела. Проникновенно говорит об этом У. Джемс: «Для человека, когда-либо смотревшего на лицо своего мертвого ребенка или отца, один тот факт, что материя сумела на время принять эту драгоценную форму, должен был бы сделать материю навсегда священной. Каков бы ни был принцип жизни – материальный ли он или нематериальный, – но материя во всяком случае помогает ему и подчиняется всем целям жизни. Эта дорогая нам телесная оболочка находилась в числе возможных для материи воплощений»[1 - Джемс У. Прагматизм. ‹СПб., 1910.› С. 62–63.]. Отсюда понятно, что сухой, механический материализм у душ поэтических и нежных принимает форму религиозно окрашенного гилозоизма, последнее время с налетом гетевской пантеистической мистики. Тем не менее последовательный материализм неизбежно разлагается от внутренних противоречий. Сознание и познание, волю и действие, вообще всю жизнь духа с его запросами, идеалами, с его свободой не в силах объяснить материализм.
Однако тот, для кого материализм становится хотя и пережитым, но еще внутренне не превзойденным мировоззрением, кто, расставшись с ним, все же сохраняет в себе неизгладимую память об этом интимном переживании, найдет ли он успокоение в господствующих идеалистических учениях, чуждых всякого материализма, но именно поэтому бессильных его окончательно преодолеть? Ибо отвести глаза от предмета не значит еще его устранить и рассматривать мир из окна кабинета, откуда он представляется не живым, а лишь нарисованным, не значит еще возвыситься над ним. Идеализм, как он есть в господствующих течениях кантианства, фихтеанства и неокантианства, спасает духовную личность от материализма, но ценою обескровления мира, а вместе с ним и человека. Последний превращается в гомункула, замкнутого в реторте и наглухо отделенного от других людей и от мира. Этому гомункулу соответствует и «мир в карманном формате», как метко и зло выразился Шеллинг по адресу Фихте по поводу этого идеалистического мира. Возможно ли мировоззрение, стоя на почве которого можно было бы быть и материалистом, т. е. мыслить себя в реальном единстве с природою и человеческим родом, но вместе с тем утверждать и самобытность человеческого духа с его запросами, с его постулатами о сверхприродном, божественном бытии, освещающем и осмысливающем собою природную жизнь? Таков вопрос, который глубоко затаен в душе у многих и многих людей нашего времени. Именно этой потребности современного духа и идет навстречу учение Вл. Соловьева о природе, к которому он сам применил однажды характерное название «религиозного материализма» и которое, в более строгом философском стиле, можно определить как конкретный натурфилософский спиритуализм или панпсихизм. Что же такое представляет собою этот религиозный материализм, не есть ли это явно противоречивое соединение несоединимых понятий? Напротив, он притязает быть их синтетическим единством. Религиозный материализм, вместе с материализмом, признает субстанциональность материи, метафизическую реальность природы. Он считает человека не духом, заключенным в футляр материи, но духовно-телесным, природным существом, метафизические судьбы которого неразрывно связаны с природным миром. Но в то же время, в противоположность материализму, он видит в материи не один только мертвый механизм атомов или сил с эпифеноменом жизни. В противоположность этой метафизике всеобщей смерти, абсолютного механизма он отстаивает первичность и всеобщность жизни, развивающейся в целемеханизме природы, и для него различие между живым и неживым остается не качественным, но количественным. «Последовательная мысль должна выбирать между двумя положениями: или ни в чем, даже в человеке, даже в нас самих, нет одушевленной жизни, или она есть во всякой природе, различаясь только по степеням и формам. Ибо нет никакой возможности, оставаясь на научной почве, отделить человека в этом отношении от остального мира… весь видимый мир… есть продолжающееся развитие или рост единого живого существа»[2 - Собр. соч. В. С. Соловьева. Т. VI. С. 468.]:
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит…
Но кто делает подобное утверждение, будь ли то Шеллинг или Вл. Соловьев, не имеет ли против себя все научное естествознание? Не изучает ли оно природу только как механизм и не увенчивается ли это изучение колоссальным успехом? Однако что же дает право естествознанию его условное, методологическое отношение к природе, его рабочие гипотезы, которых притом столько же, сколько отдельных наук, превращать в общее учение о природе, утверждать, что природа в целом выглядит так же, как видит ее физика, химия, кристаллография, механика, что природа есть только механизм, а не целемеханизм, т. е. универсальный механизм? Не значит ли это смешивать гербарий и музей с храмом природы или лежащий на анатомическом столе труп приравнивать живому человеку? Не совершается ли при этом бессознательное природоубийство? Смотреть на природу непосредственно, наивно открытыми, детскими глазами теперь составляет двусмысленную привилегию поэтов. Беклину можно писать своих наяд и сказочных сатиров, и сами фанатики механистической философии не прочь на них полюбоваться в виде отдыха. Но всерьез принимать это оживотворение природы предоставляется только поэтам да детям. Что же, замечает по этому поводу Соловьев, «может быть, существуют две истины: одна для поэзии, другая для науки? Но наука тут не при чем; она не отвечает за ложные выводы, которые делаются из ее достоверных данных в силу одностороннего направления мысли, возобладавшего в известную эпоху. Наука никогда не доказывала – да, по существу дела, и не может доказывать, – что мир есть только механизм, что природа есть только мертвое существо. Различные науки исследуют природу по частям и находят между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая исследовала бы вселенную в ее единстве и целости, вовсе не существует, а логика, обязательная и для наук, не позволяет от анализа частей и их внешней частичной связи делать окончательное заключение о всеобщем характере или смысле целого. Ведь и в теле живого человека все его части и частицы связаны между собой механически, – это не мешает ему, однако, быть одушевленным существом… Точно так же и механизм всей природы есть только слаженная совокупность для проявления и развития всемирной жизни». Ведь «и для микроскопических глаз мухи вовсе не существует целое гармоническое очертание человека или человеческого лица с его выражением, да и для нашего собственного глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическом исследовании в бесформенную массу грубых тканей и клеток, механически нагроможденных без всякой законченности и единства»[3 - Там же. С. 466–467.]. Но этот лик природы, невидимый в микроскоп, открывается просветленному созерцанию святого и творческой интуиции мыслителя и поэта.
Механический монизм философии естествознания опирается на одну общую и априорную предпосылку, которая не может быть доказана в науке, ибо сама ее обосновывает; это именно предположение непрерывной закономерности, проникающей собою всю вселенную, или единого космического механизма.
Исторически это убеждение зарождается в иудейско-христианском монотеизме, связано с верою в Единого Творца и Вседержителя единого мира. Эти религиозные корни науки иногда вскрываются и теперь. Так, например, Кристоф Зигварт прямо утверждает, что лишь монотеизм иудейской и христианской религии был почвой для идеи всеобъемлющей, исследующей единые законы науки[4 - «Политеизм, видящий в мире лишь раздельные области независимых друг от друга сил, по своей природе чужд стремящейся к единству науке. Наоборот, монотеизм иудейской и христианской религии дал плодотворную почву для идеи всеобъемлющей, исследующей единые законы вселенской науки. Иначе в какой же другой форме могла впервые явиться идея, что небо и земля объемлются единой мыслью и что человек призван понять эту мысль, если не в вере в Единого Творца, создавшего небо и землю и сотворившего людей по образу Своему? В какой форме можно было выразить энергичнее, что нет ничего случайного и что вещи не кое-как переплетаются в своих запутанных путях, как не в мысли о Провидении, без воли которого не падает на землю воробей?.. Достаточно взглянуть на истинных основателей великих основоположений современного исследования, на Галилея и Кеплера, чтобы увидеть, чем была для них христианская идея о Боге. Исследование законов, в которых все определяется мерою и весом, имеет для Галилея смысл, лишь если мы верим в постоянство и непрерывную всеобщность законов природы, а эта вера имеет своим основанием веру во всемогущего и мудрого Творца, устроившего мир по определенным целям; равным образом суждения и вычисления Кеплера исходят из мысли, что в мире можно найти гармонию, которая должна быть делом бесконечного интеллекта». Christoph Sigwart. Kleine Schriften. Zweite Reihe. 2-te Ausg. Freiburg i. В., 1889. ?ber die sittlichen Grundlagen der Wissenschaft. 13–14.].
Античный мир, если не считать отдельных философских течений, остается чужд этому универсальному механизированию жизни; тогда все было «полно богов», силы природы мыслились как боги; и он изнемогал от своего политеизма, становившегося полидемонизмом. Мир был как бы разделен на обособленные сферы, находящиеся в ведении отдельных демонов, и сам великий Пан, всебог, был только одним из многих.
Нужно было освободиться от этого полидемонизма, для того чтобы человечество могло вступить на путь систематического и последовательного овладения природой, и этот экзорцизм, изгнание демонов, совершен был христианством. Однако, изгоняя демонов, христианство не превратило мир в бездушный механизм; вместе с великим Паном еще не умерла природа, напротив, она приобщилась – через воплощение Слова и таинства Церкви – к новой, благодатной жизни, взамен прежней одержимости она получила обетования обожения и грядущего прославления. Христианство в своем цельном подлинном учении необходимо содержит в себе то, что Соловьев назвал религиозным материализмом и что утрачено в современном философском сознании. Но в этой утрате сказались уже влияния новейшей философии, так называемого рационализма, имеющего два образа: материализма и субъективного (трансцендентального) идеализма. Эта двойственность рационализма выразилась уже в изначальном противопоставлении отца этой философии Декарта: res cogitans, мир познания, и res extans, мир вещей. Произошел незримый, но ощутительный разрыв человека с природным миром, породивший это расщепление субъекта и объекта. Философия перестала рассматривать человека в природе и жизнь как она есть в реальной, нерассеченной действительности, она предстала лишь как мир отношений, а не сущностей, как механизм причин и следствий.
Рационализм не мог, конечно, совершенно уничтожить более жизненной философии, достаточно назвать имена Лейбница с его монадологией, Гете, Шеллинга, Фехнера, Фр. ф. Баадера и даже Шопенгауэра и Гартмана, Лотце и Вундта, однако на стороне его стоит не только научный позитивизм и материализм, но и современная «научная» философия, т. е. гносеологический идеализм. Строго говоря, это есть не рационализм, не поклонение ratio, разуму, но рассудочность, построение философии по схемам научного разума, т. е. рассудка. В смешении этих глубоко различных понятий разума и рассудка повинен и сам отец критицизма Кант, который под именем критики чистого разума дал критику чистого рассудка. Различая и противопоставляя разум и рассудок, я вижу в них разные употребления мыслительной силы, присущего нам космического логоса. Но единство корня не устраняет между ними возможных и даже неизбежных столкновений; истины умозрения, необходимые для разума, могут казаться совершенно неприемлемы для рассудка, и те, кто отождествляет разум с рассудком, объявляют все противорассудочные истины противоразумными (таково, напр‹имер›, распространенное отношение к учению ‹о› триипостасности Единого Божества). Рассудок ориентирует нас в действительности на основе закона причинности как универсального начала, не терпящего ограничений. Мир для рассудка есть самозамкнутый механизм, который может быть выражен в идеальном пределе как единая математическая формула, символизирующая мировую закономерность. Таким же механизмом, или машиной, является для рассудка и человек. Поэтому мировой механизм – это и есть сам рассудок, предписывающий, как сказано в кантовских «Пролегоменах», свои законы природе. Рассудочна в этом смысле вся наука; научное постижение мира всецело основывается на этих предположениях рассудка, и выяснение этого a priori[5 - a priori (лат.) – до и вне всякого опыта.] составляет бессмертную заслугу критики чистого разума у Канта. Но при этом неизбежно возникает и дальнейший вопрос – о пределах рассудочности вообще. Есть ли она единственное правомерное употребление разума, и прав ли Кант, ограничивая законную, плодотворную деятельность разума рассудочностью? Возможно ли правомерное употребление разума поверх рассудочности и глубже ее? Иначе этот же вопрос можно выразить так: справедливо ли придается здесь основоположениям рассудка исчерпывающее онтологическое значение? являются ли рамки рассудочной гносеологии вообще границами постигаемого бытия? есть ли рассудочное, или научное, постижение мира и окончательное, или последняя истина о мире? На все эти вопросы давались и даются различные и даже противоположные ответы, и философски бесспорного здесь нет ничего.
Научное постижение ориентирует нас в мире как совокупности вещей, нами созерцаемых и имеющих сделаться предметом нашего активного воздействия. Пассивность, вещность, чистая объектность и потому безжизненность этого мира составляют его неотъемлемое свойство. Рассудок знает лишь вещи, для него нет ничего живого, т. е. невещного. Даже явления жизни существуют для него только как эпифеномены механизма, но не как самостоятельные, несводимые к вещам начала бытия. Потому чисто рассудочная или, что то же, научная философия необходимо безжизненна, весь мир она опрыскивает мертвой водой. Поэтому же у живых существ нет и не может быть до конца последовательной рассудочной философии: ненавистный «психологизм» оказывается в ней неистребим, даже Спиноза из мертвой пустыни своего вещного детерминизма спасается в amor Dei intellectualis[6 - amor Dei intellectualis (лат.) – интеллектуальная любовь к Богу.], т. е. все-таки живое, ибо любовное, постижение мира, который оказывается поэтому substantia sive natura, sive Deus[7 - substantia siva natura, siva Deus (лат.) – сущность или природа, или Бог.].
И Кант спасается из царства чистой рассудочности в практический, т. е. живой, разум, ценою внутреннего дуализма спасая личность. И наиболее радикальные представители философии рассудочности неизбежно оставляют возможность «практически» устраиваться вне зависимости от нее.
Рассудочная ориентировка в жизни (идеал «чистого трансцендентализма», с исключением всякого «психологизма») мыслима только при полном упразднении живого человеческого существа в его конкретной целостности, т. е. предполагает такую действительность, которая по отношению к нашей теперешней действительности оказывается совершенно трансцендентной, иноприродной. Рассудочность, применяемая как онтология, есть поэтому самая радикальная метафизика трансцендентного, как бы ревниво она себя от этого ни оберегала. Человек все-таки не превращается в то бескровное, безличное единство чистой апперцепции, или гносеологический субъект, какого только и признает рассудочная философия. Он все-таки есть живой субъект, конкретное я, совершенно неразложимое и непостижимое как механизм схемами рассудка. Можно объявить это живое я несущественным «психологизмом», или пучком представлений, разлагающихся в механизм, рефлексом физико-химических процессов и т. д., и т. д.; но спрашивается, кто же это объявляет, как не то же самое живое, конкретное я, и как может я усомниться в я? Это невыполнимо даже в отвлечении и абсолютно невозможно – истина, почувствованная в философии Фихте. Поэтому Декарт в своей формуле: cogito, ergo sum, т. е. я пользуюсь рассудком и, следовательно, существую, уже выразил всю ограниченность и условность рассудочной философии, которая рассудком хочет обосновывать жизнь и бытие, между тем как сам он есть порождение жизни. Формула Декарта должна быть представалена: sum, ergo cogito, ergo dubito, ergo ago, ergo laboro[8 - sum, ergo cogito, ergo dubito, ergo ago, ergo laboro (лат.) – существую, следовательно мыслю, следовательно сомневаюсь, следовательно говорю, следовательно действую.]. Можно принять метафизическую формулу: amo, ergo sum[9 - amo, ergo sum (лат.) – люблю, следовательно существую.], ибо в любви – высшее проявление жизни, но нельзя рассудочностью обосновывать бытие.
Поэтому рассудочная философия пред лицом великого, основного и непосредственного факта – жизни в ее конкретности – всегда останется отвлеченностью, о которой справедливо скажет Мефистофель:
Grau, theurer Freund, ist jede Theorie
Und gr?n des Lebens goldner Baum[10 - Теория, мой друг, суха,Но зеленеет жизни древо(Гете. «Фауст»; пер. Б. Пастернака // Гете И. В. Избранные произведения: В 2 т. СПб., 1997. Т. 1. С. 80).].
Действительность, как мы ее знаем, не исчерпывается рассудочными категориями, а только их терпит, допускает. Она глубиннее, нежели рисуется в схематических проекциях и чертежах рассудочности. Она содержит в себе сверхрассудочный и в этом смысле совершенно иррациональный остаток или, точнее, основу, которая не поддается ни под микроскоп, ни под анатомический нож, ни под схемы рассудочности. Действительность гораздо глубже, богаче, таинственнее, нежели ее рисует нам рассудочность. По глубокомысленному сравнению Бергсона рассудок относится к жизни синематографически: то, что существует как единый и слитный акт жизни, он разлагает на бесконечное множество причинно связанных между собою моментов. При движении синематографической ленты они опять сливаются в цельное изображение, однако мы имеем уже отнюдь не живое единство, но лишь безжизненный синематограф.
Жизнь не потому только не исчерпывается рассудочным сознанием, что оно имеет дело лишь с обезжизненным содержанием, но и потому, что в ней осуществляется конкретное нераздельное единство воли, чувства и разума. Я существует не в раздельном виде как гносеологический субъект, по ведомству департамента гносеологии, или волящий – департамента этики, или чувствующий – эстетики, таковая триипостасность я, введенная Кантом и унаследованная от него неокантианством, есть условная фикция. Та действительность, которая нам непосредственно дана во внутреннем опыте, обладает основным качеством жизни, все обезжизненное и не-живое нами познается только в отношениях к жизни, в терминах жизни; механизм вещей в непосредственном опыте нам неведом. Живое я непосредственно находит себя в таинственном и загадочном единстве с не-я, или с природой, для него есть другое я, т. е. ты, оно способно чувствовать как мы и противопоставляет себе вы. В я дано не-я, ты, мы и вы, целый мир, живой и трепетный. Для рассудочно-механического, обезжизнивающего понимания он недоступен, живое для него не существует в своей самобытности и автономности; оно допустимо лишь как атрибут механизма, коему предоставлено влачить жалкое беспаспортное существование на правах психологизма и субъективизма за пределами orbis terrarum[11 - за пределами orbis terrarum (лат.) – за пределами круга земного…] познания.
Ввиду явной недостаточности рассудочной философии, ее неадекватности жизненному опыту вопросы о том, что лежит за пределами рассудочности, т. е. вопросы метафизики, неизбежно возникают силою вещей, обладают неистребимой живучестью. Конечно, возможна и сейчас является наиболее распространенной чисто негативная метафизика, истолковывающая смысл метафизических вопросов по-кантовски, как паралогизмы, или недоразумения, или же вечные задачи разума. Но и отрицание метафизики или ее «разъяснение» представляет собою уже одно из метафизических учений, и кто же отважится утверждать, кроме фанатиков рассудочности, что оно есть единственно возможное. По крайней мере, не история философии, которая на кантовское нет ответила величественным да метафизики Шеллинга и Гегеля, Шопенгауэра и Гартмана, и все говорит, что и теперь назревает новая творческая эпоха в метафизической мысли.
Разум познает сущее только в его отношениях, но не в существе; действительность является одновременно и разумной, причастной разуму, доступной ему как различение и связь, и запредельной, трансцендентной для разума, как воля, как чувство, как любовь. Граница мысли есть мысль, всякая философия рационалистична, мыслит в понятиях разума, но разум знает не глубину действительности, а только ее грани. Этим невыразимым и недомыслимым сущностям разум может дать только символическое выражение в понятиях и не должен никогда забывать об этом символизме. Но в отличие от рассудочности метафизика не уничтожает, не обходит, как опасных препятствий, этих явным образом алогичных областей, но, символизируя их в понятиях, стремится построить систему разума как схему этой действительности, живой и конкретной. Разум стремится дать философию жизни, рассудок знает лишь механизм. Для первой существует живой человек в живой природе, для второго – заводная машина в безжизненном механизме, «вертящийся вертел», «летящая стрела», мнящие себя свободными. Основное понятие философии есть, по моему убеждению, не cogito, a vivo[12 - не cogito, a vivo (лат.) – не мыслить, а жить.].
Бог есть Бог живых, а не мертвых.
Разум сталкивается с рассудком. Возникает вопрос о размежевании их компетенции; разум должен очертить область рассудка, обосновать возможность рассудочного, научно-опытного знания. Вопреки притязанию рассудочности подчинить философию науке, выражающемуся в идеале научной философии, необходимо философски объяснить факт науки, а не «ориентировать на нем» философию. Это есть проблема философии науки, философского наукословия, потребность в котором вновь заметно назревает в современной мысли (Бутру, Бергсон, Пуанкаре, прагматисты). И все отчетливее обрисовывается «прагматический» характер науки. Становясь по отношению к миру в научную позу, надевая на себя ледяную личину рассудка, решаясь «не плакать, не смеяться, но понимать», человек вырывает у природы если не ее тайны, закрытые холодному рассудку, то ее секреты, полезные для жизни. Рассудочность имеет глубокие корни в утилитарно-прагматическом отношении к природе. И современный прагматизм только разгласил тайну рационализма, сделав своим боевым принципом то, что молча, потихоньку делала и делает европейская мысль в новейшую эпоху. И если уж искать истинного родоначальника прагматизма, а вместе и наиболее тонкого ее представителя, то это был Кант, обосновавший условность и относительность, антропоморфизм всего человеческого опыта, а вместе с тем пытавшийся замкнуть мысль в этой ограде субъективизма. И Шиллер с протагоровским «человек есть мера вещей» лишь договаривает не договоренное Кантом; но это же самое делается теперь и в неокантианстве. Однако, если прагматизм как научная практика представляет собой нечто естественное, необходимое и законное, то провозглашенный в качестве философии, он есть самоубийство рассудочности, как и всякий радикальный скептицизм. И неудивительно поэтому, что он вызывал против себя наибольшую враждебность именно среди тех, чью тайну он так прямодушно разгласил.
Тем не менее наука или вообще рассудочная мысль при всей относительности и условности своих истин и понятий есть прежде всего факт, требующий своего объяснения. И это объяснение может быть дано только на основании онтологического предположения, совершенно выводящего за пределы рассудочной философии, именно что логическая связь вещей, устанавливаемая в разных ракурсах деятельностью разума и рассудка, не субъективна только, но объективна, принадлежит природе вещей, и познание возможно только в силу причастности нашего разума к разуму вещей. Наше познание возможно лишь постольку, поскольку логична сама действительность и поскольку мы реально приобщаемся в нем к Логосу. Другими словами, наука обосновывается в метафизике.
На основании сказанного о характере рассудочной философии легко заключить, чем является в ней природа. Говоря словами Шеллинга, «общий недостаток всей новоевропейской философии начиная с Декарта в том, что для нее не существует природы, что у нее нет живой основы»[13 - Шеллинг. Философские исследования о сущности человеческой свободы. ‹СПб., 1908.›, 24.]. Природа есть лишь возможность явлений, основа опыта, некоторое вполне неопределенное нечто, оформляемое познавательными категориями рассудка. Это тот иррациональный толчок, которым не-я стучится в я в системе Фихте и в некоторых доктринах современного неокантианства. Причем это понятие диалектически разлагается на две противоположности, представленные в двух основных направлениях рассудочной философии: идеализме и материализме. Природа в рассудочной философии познается только как механизм, сплошная цепь причин и следствий. «В природе можно без удивления видеть (говорит Кант в первом издании „Критики чистого разума“) одну лишь коренную способность всего нашего познания, именно трансцендентальную апперцепцию, то единство, только благодаря которому она и может быть названа объектом всего возможного опыта, т. е. природой, и именно поэтому можно необходимо познать это единство a priori». Следовательно, природа есть лишь зеркало нашей познавательной субъективности, нечто «метеорическое». В такой призрак превращается природа у Канта, а еще больше у Фихте и в новейшем неокантианстве радикально-идеалистического направления. С другой стороны, рассудочная философия, не искушенная критицизмом, впадает неизбежно в механический материализм. Она прямо рассматривает природу как связную, хорошо слаженную машину, как систему атомов или сил. В качестве рабочей гипотезы естествознания, по справедливому замечанию Ланге (в «Истории материализма»), эта точка зрения оказалась весьма пригодной, но отнюдь не в философии. В стороне от этого торного пути европейской мысли стоит лишь Шеллинг с его натурфилософией, генеалогия которой восходит не только к Канту, но и к мистической философии Бёме, Баадера и восточного христианского умозрения, да еще Фехнер, оказавший влияние на Вундта, и Гартман. Природа умирает в новой философии, и это несмотря на рост пантеистических настроений. Если видеть в механическом мировоззрении философскую истину, тогда придется сказать, что рассудочная философия совершила огромнейшее историческое дело, открыла действительно новую эру в истории сознания. И, наоборот, если видеть в его торжестве лишь аберрацию мысли, тогда необходимо признать, что в нем философия сделала шаг назад по сравнению с античной и средневековой мыслью или, выразимся точнее, перебаливает какой-то своей специфической болезнью, неведомой прежним эпохам. Природа, которая некогда была живою для человека, теперь для него омертвела, произошло как будто новое изгнание Адама из рая. Природа открыла свои секреты, но затаила свою тайну. Античный человек находит в природе целый сонм живых существ. В шелесте Додонского дуба он слышит божественный оракул, и ручей шепчет ему свою сказку. Также и философская спекуляция античности возвышается до величественных учений о мировой душе у Платона и Плотина и о природном целемеханизме у Аристотеля, причем оба эти учения составляют драгоценнейшее философское наследие античности, переданное ею грядущим векам, поистине ????? ??????[14 - ????? ?????? (греч.) – приобретенные навсегда.]. Великий Пан умирает, когда над миром водружается Крест, но с ним не умирает природа. Освобожденная от чар вакхического оргиазма и стряхнувшая оковы полидемонизма, она возрождается к новой мистической жизни. Она вздымается навстречу приклонившемуся небу и приемлет воплощающийся Логос, выражая свое свободное согласие на Высшую волю. Устами непорочнейшего своего создания, пречистой Девы, говорит природа: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Материя становится богоматерией, из нее рождается Богоматерь, чрез которую совершается воплощение Слова, а с ним начинается новая космическая эпоха. Природа в человеке через Церковь становится способной к обожению, и это получает явное свидетельство в таинстве Тела и Крови. Этот религиозный материализм проникает всю христианскую догму, формулируется в творениях отцов и учителей Церкви, – назовем хотя ‹бы› св. Афанасия Александрийского, – получает догматическое выражение на вселенских соборах и определяет церковную практику. Судьбы природы, стенающей и ожидающей своего освобождения, отныне связываются с судьбами человека, «покинувшего» ее; новое небо и новая земля входят уже необходимым элементом в состав христианской эсхатологии. Новые верования, связанные с новым религиозным опытом, находят выражение и в новых философских спекуляциях православного Востока и Запада, в творениях Оригена, блаженного Августина, св. Григория Нисского, св. Максима Исповедника, Псевдо-Дионисия Ареопагита, И. Скота Эригены, а позднее средневековых и новейших мистиков, у итальянских натурфилософов эпохи Возрождения, в учениях Лейбница, Шеллинга, Баадера. И тем не менее надо констатировать, что с началом господства рассудочной философии, с века Декарта, Спинозы, Канта и новейшего критицизма и материализма, эта философская традиция резко обрывается. Получается впечатление, что произошел какой-то подпочвенный, мистический сдвиг, иссякли какие-то подземные источники, питавшие собою эту традицию. Как будто мертвящий ветр пронесся над тварью и поникли ее лики. В сознании это и выразилось в преобладающем влиянии рассудочной философии, в веяниях так называемого просветительства. Борьба с ним, естественно, должна выразиться в стремлении в такому философскому мировоззрению, которое, не умаляя значения науки и вообще рассудочности, а отводя ей свое место, философски возвышалось бы над ней, снова восстановило бы связь человека с сердцем природы. Такова проблема натурфилософии, как она представилась уже философскому гению Шеллинга. И еще отчетливее ставится она в философии Соловьева: чрез природу как объект естествознания прозревать природу как сущее, в механизме увидеть организм, в бездушной природе познать Божию тварь – такова одна из самых центральных задач метафизики Соловьева, а его учение о природе и мировой душе есть одно из самых центральных его учений, притом особенно интересное именно для нашего времени. Мы вступаем в эпоху начинающегося кризиса рассудочной философии, едва ли не свершившей уже полный цикл своего развития. Не только в философии, но и в самом естествознании нарождаются и крепнут течения, которые, если мысленно продолжить их, приведут нас в русло античных идей о мировой душе или христианского учения об обожающейся твари. Твердыня механического материализма научно поколеблена. В религиозном сознании наших дней также заметна неудовлетворенность односторонним пониманием христианства лишь как индивидуально-этического учения, снова нарождается потребность в христианской натурфилософии. Наконец, и в действенном, практическом сознании человечества по-новому ощущается проблема об отношении человека к космосу. Мы живем в век небывалого и, по-видимому, еще находящегося только в начале хозяйственного овладения природой. Мир пластичен, он послушен нашей воле, провозглашает современный прагматизм, и в этой пластичности нас убеждает каждый новый шаг в покорении природы, в этом непрерывном ее очеловечении. Да, мир пластичен, но что же значит эта пластичность, можно ли ее философски понять, объяснить возможность, установить пределы? Это ставит пред философским сознанием совершенно новую – или, по крайней мере, в такой форме никогда еще не стоявшую – проблему философии хозяйства[15 - Ср. наш очерк «Проблемы философии хозяйства» (Вопросы философии и психологии. 1910. IV).].И все эти проблемы связаны с общей философией природы. Это – вопросы, которые выходят за пределы научного естествознания в область метафизики природы. Это грандиозное по замыслу учение о природе никогда не было проработано Соловьевым в завершенную систему. Мы имеем не рисунок, а скорее чертеж, хотя и сделанный рукою мастера, но местами не законченный и не раз переделывавшийся в частностях. В разные эпохи и в разной форме возвращается он к этому учению: в философских трудах, в критике и публицистике, в поэзии и, как мы теперь знаем, в частной переписке. Везде предносится пред ним Она, Вечная Женственность, Божественная София, Душа мира. И это делает изложение и истолкование этого учения, в особенности с его вариантами, вообще довольно затруднительным. Наиболее систематическое выражение оно получает в «Чтениях о Богочеловечестве» и во французском трактате («La Russie et l'Eglise universelle»); но и между ними имеются немаловажные варианты (напр‹имер›, в изображении творения мира Богом). Это учение вводит нас притом в центральный лабиринт соловьевской мысли. Поэтому я должен заранее отказаться от мысли сделать его здесь общедоступным и ограничусь лишь кратким указанием на его основные черты.
В рассматриваемом учении Соловьева мы видим переливы и отражения многих предшествовавших философских учений, которые он объединяет в широком синтетическом охвате: здесь чувствуются Платон и Плотин, Аристотель и христианское богословие, Лейбниц и Кант, Шопенгауэр и Шеллинг. Можно с полным убеждением сказать вместе с кн. С. Н. Трубецким, что едва ли можно назвать «в новейшей истории мысли синтез более широкий, чем тот, который был задуман им с такой глубиной, так ясно, стройно и смело»[16 - Собр. соч. кн. С. Н. Трубецкого. Т. I. ‹М., 1907. С.› 348.]. И если теперь иногда раздаются голоса, которые отрицают философскую оригинальность Соловьева на том основании, что его творчество находится в ясной и несомненной связи с историей мысли, продолжает мировую философскую традицию, то этим только обнаруживается непонимание задачи и пределов индивидуального творчества. Ближе всего Соловьев в рассматриваемом учении стоит, бесспорно, к Шеллингу второго и третьего периода, в отдельных пунктах соответственные учения Шеллинга глубже и гениальнее, но даже поставленный рядом с этим удивительным мыслителем, наш философ не теряет своей индивидуальности, а, кроме того, отличается от него более поздним историческим возрастом и, следовательно, большей широтой синтеза. Природа есть живое существо, природа есть сущее, природа есть абсолютное. Однако в отличие от пантеизма, хотя и постигающего жизнь природы, но отождествляющего ее с Божеством, у Соловьева природа есть другое Бога, Его творение и образ, второе абсолютное, становящееся им в процессе, во времени. В учении Соловьева проводится ясная грань между Творцом и тварью, но вместе с тем устанавливается и тесная связь. Вместе с Бёме, Баадером и Шеллингом Соловьев учит о природе в Боге, имеющей потому вневременное и предвечное существование. Божеству принадлежит положительное всеединство, потенциальная множественность идей или существ, связываемая единящим началом Логоса, второй ипостаси. Этому произведенному единству Соловьев усваивает библейское название Софии: «София есть тело Божие, материя Божества, проникнутая началом божественного единства. Осуществляющий в себе или носящий это единство, Христос как целый божественный организм – универсальный и индивидуальный вместе – есть и Логос, и София» (III, 106). Это «все», которое содержится в божественном единстве и первоначально имеет свое бытие только в нем, само по себе есть лишь потенция бытия, первая материя, или не-сущее (?? ??).
«Божество ‹…› эту потенцию бытия вечно осуществляет, всегда наполняет беспредельность существования таким же беспредельным, абсолютным содержанием, всегда утоляет им бесконечную жажду бытия, всему сущему свойственную» (III, 124–125). Но в каждой из частных сущностей, входящей в это всеединство и составляющей собой не все, а лишь частное, одно из многого, и не могущей быть непосредственно всем, «абсолютная полнота бытия ‹…› открывается как бесконечное стремление, как неутолимая жажда бытия, как темный, вечно ищущий света огонь жизни» (125), как беспредельное (????????), «…это беспредельное, которое в Божестве есть только возможность, никогда не допускаемая до действительности (как всегда удовлетворяемое, или от века удовлетворенное, стремление), здесь – в частных существах – получает значение коренной стихии их бытия, есть центр и основа всей тварной жизни (????? ??? ????)» (125). В «распаленном колесе жизни» эта беспредельная слепая жажда, неугасающая первоволя, неумиренный, хотя и скованный хаос чувствуется как стихия ужасного, ослепляющая наше ночное сознание.
На мир таинственных духов,
Над этой бездной безымянной
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
Но когда ночь отбрасывает этот покров, то
…Бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.
Соловьев мастерски сумел оценить и философски истолковать проникнутую этой стихией поэзию Тютчева, которой посвятил глубокомысленный этюд. И с особенным проникновением останавливается он над вещими стихами Тютчева о темном корне мирового бытия, о первобытном хаосе, на этом ясновидении философа-поэта.
О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем ты сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой
То глухожалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки.
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться…
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..
Свет освещает тьму, но в то же время и предполагает ее, и победа над хаосом являет его положительное преодоление, вот почему корни бытия глубоко погружаются в темные недра.
Свет из тьмы: над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно