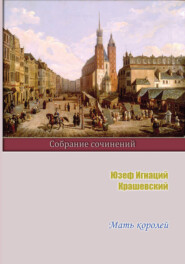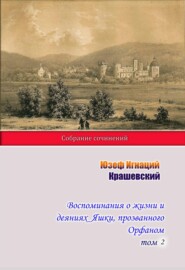По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Варшава в 1794 году (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обняв сторожа, я направился к двери деда.
Не забуду также никогда и того вида, какой меня поразил, когда я, впущенный в комнату, вошёл в покой деда. Старик лежал на кровати со сложенными руками, в которых держал чётки. Знать, готовился в любую минуту к смерти, так как имел на груди крест и в руках медальон. Немного подальше с жёлтой громницей в руке, обвязанная поясной лентой, спокойно стояла на коленях старушка Манькевичева у стула, на котором была раскрыта толстая книга, и проговаривала невзволнованным голосом литания к патрону доброй смерти, св. Иосифу.
Когда двери потихоньку отворились и я показался на пороге, пани Манькевич повернула глаза, заметила меня, но не прервала молитвы. Я стоял, они проговаривали её аж до антифоны, старичок тихо повторял:
– Молись за нас!
Только после окончания литании старушка встала, опираясь о пол, и воскликнула:
– Слава Иисусу! Сируц жив!
Дед, который думал, что вошёл слуга, головы не поднял и не видел меня, вскочил с кровати и крикнул:
– Сируц, дитя моё! Ты жив!
Я пошёл поцеловать их руки, только сейчас они увидели окровавленную руку на перевязи и порванный на мне мундир.
– Ты ранен, бедняга! – воскликнула старушка. – Рука… что же? Сломана…
– Благодарим Бога, что живы! – ответил я. – Мы пережили страшные минуты.
– Дитя моё, – отпарировал старик более спокойным, чем раньше, голосом, – это было не то, что тебе, биться и, защищаясь, подвергать себя опасности, но нам тут, безоружным, столько часов неизбежной смерти ожидать пришлось и слышать её, ходящую вокруг… пробирающуюся в дом, долбящую в дверь, штурмующую ставни, отдаляющуюся на минуту и возвращающуюся снова… и ждать, и молиться – и чудом уцелеть…
Голос ему изменил, отдышался и говорил далее:
– Кто же знает? Вернутся, может, ещё, и тогда месть их не будет уважать никого.
Выстрелы, слышавшиеся в отдалении, этим словам старого Манькевича придавали некоторое правдоподобие.
– Выгнанные из города, они свяжутся с пруссаками, ударят на нас… вырежут нас в пень… это несомненно! – добавил старичок.
– Нет, – сказал я, – нечего опасаться, большая часть русских в неволе, до трёх тысяч лежит трупами на улицах. Не с одним войском мы это делали, но с народом: не пушки с ними справились, но толпы… геройские толпы.
Старик покивал головой, а был он шляхтич до костей.
– Ну, ну, – сказал он тихо, – когда уж до того дошло, что сапожники родину защищают – конец света.
Я должен был мимовольно улыбнуться. Был уже добрый день и через щели ставен пробивался бледный утренний свет, но из страха нападения мы не смели отворять – и сидели при громнице.
Я начал рассказывать, что видел, на что глядел и как мы бились. Тогда старичок оживился, в него вступил дух, он встал с кровати и начал ходить. Манькевичева готовила кофе. В городе как-то понемногу успокоилось, по крайней мере, выстрелов уже не было слышно и редко только тянущаяся с поля боя кучка людей окриком прерывала тишину.
Высланный на разведку Филипп, через несколько часов объявил, что в городе было всё окончено, только наводили порядок, так как из-за трупов и мусора ни пройти, ни проехать было нельзя. Поэтому мы открыли хоть одну боковую ставню, дабы погасить громницы. Старшие пошли спать и я с помощью Филиппа взобрался наверх в свою комнатку, где, упав на кровать, заснул каменным сном даже до воскресного утра. Я не мог ещё подняться с кровати и выйти, хотя очень горячо желал увидеть «свободный» город, как его в своём отчёте назвал Закревский… город для нас новый, потому что мы, молодые, не знали его таким свободным, как был теперь. В первые минуты, разгорячённый, я имел больше сил, теперь они покинули меня. Позванный доктор прописал мне отдых и руку также, поначалу плохо перевязанную, следовало забинтовать ещё раз, разрезая и сшивая, что меня измучило и ослабило. Я имел позволение с помощью Филиппа сойти к Манькевичу и там посидеть несколько часов.
Сюда теперь при самом патриотичном расположении сбегались слухи со всего города. Камергер, который на чердаке в одном из домов на Долгой улице тулился около трубы, счастливо пересидел революцию – вернулся к прежним обязанностям, скромней только был одет, потому что весь его гардероб, вещи и – как говорил – пресиоза пали жертвой ненасытной жадности неприятеля. Позже из его собственных признаний оказалось, что эти драгоценности шамбеляна состояли из пятнадцати локтей золотого галона, который должен был когда-нибудь быть использован, из серебряной табакерки и пряжек от тревиков, украшенных чешскими каменьями.
Но – что для него было гораздо более тяжёлым – бедняга потерял наряды и парики, так что его только один, и то очень старый, который имел на голове, защищал. Также он очень переживал о потере шёлковых чулков, хотя изношенных внизу, но сверху презентующих себя очень свежо.
Камергер уже снова знал всё, обнимался с Высоготой Закревским, навещал Мокроновского, имел счастье поговорить с героем Килинским, с д’Алоем и Вульферсом. Он первый донёс нам, что Коссаковского, Ожаровского, Анквича, Томаиса, Боскампа и многих иных арестовали и заключили в арсенал и ратушу…
В замке был неслыханный переполох, потому что нескольких из них взяли из-под бока короля. Понятовский клялся, что уже держался с народом… после победы патриотизм рос огромно… все старались донести, что ещё 16 апреля, а точнее 22 марта были патриотами и не ждали ни Костюшку, ни Килинского, чтобы проникнуться тем чувством.
О русских говорили, что они собирались около Магнушёва под командованием генерала Новицкого. Манькевич расплакался, узнав о революции в Вильне, взятии Арсеньева и повешении гетмана. Эта новость в замке была жестоким ударом – позорная смерть, революционный мгновенный суд перепугали короля, а ещё больше, заключение под стражу его приятелей. В замке играли в патриотизм и популярность, но по насупленным лицам видны были отвращение и ужас.
Только 24 апреля на торжественное богослужение, которое должны были провести в колегации у костёла Святого Иоанна, доктор мне позволил пойти.
Первый раз я взглянул на улицу.
Варшава была дивно переменившейся… Карет на улицах почти видно не было, кроме экипажей примаса и президента Закревского. Мундиры, вооружённая городская стража, свободно колышущаяся толпа, царили на них.
Я сразу, выйдя, услышал разлетающуюся, везде повторяемую песнь краковских добровольцев, которую тянул почти весь город. Ещё в моей памяти блуждает несколько строф.
Как долго мы будем давать себя угнетать?
Дальше, братья, за оружие!
Кто хочет умереть или победить,
Тот всегда почти побеждает!
Это была последняя строфа, но меня в ней эта вставка для меры почти как дисгармоничная нота поражала. Был там ещё иной куплет, который также застрял в моей памяти:
Рассудительные умеренные!
Сторонники севера!
Кто же вам открыл дворы?
Но нам никто не даст помощи…
Господствующим элементом на улице были, как я уже говорил, мещане и военные, из высшего общества мало кого можно было встретить. Кое-где из любопытства показывались из окон для безопасности в народных цветах – белым с кармазиновым.
В этот день толпа была чрезвычайная, потому что и прекрасная пора служила и богослужение за убитых тянулось к колегации, а кто хотел показать себя патриотом, должен был там быть. Поскольку в первые дни все побросали ордена, король принял это за признак якобинства и требовал, чтобы понадевали титулы, кресты и звёзды, оделись все по-старому.
Костёл Святого Иоанна был весь выстлан чёрным. Моей руке на перевязи я был только обязан тем, что в него втиснулся. Посерёдке находился красивый катафалк, увешанный лавровыми венками с надписями:
«Не забывайте доброго дела, ибо они отдали за вас свою душу».
«Память о них будет благословенна, а кости их зацветут на своём месте».
«Они предпочли скорее умереть, нежели поднимать ярмо и терпеть кривды, недостойные для своего рода».
«Души и тела наши мы выдали за права отеческие, взывая к богу, чтобы как можно скорей был милостив к нашему народу».
Среди навешенных посередине лавровых венков читали ещё иные надписи: «Ушли из жизни, но всему народу памятку смерти своей на пример добродетели и мужества оставив».
Сам примас, которого сильней всех заподозрили в содействии Москве и даже в тайном сговоре с пруссаками, совершал торжественное богослужение. Известный по речи и патриотизму ксендз Витошинский имел огненную проповедь. Король был присутствующим и на виду.
Витошинский среди своей речи не колебался обратиться к королю, дабы как-то втянуть его в народное дело. И так, как того памятного дня 3 мая 1792 года в костёле Св. Креста король произнёс речь, так и тут отвечал Витошинскому.
– Твоё сердце – честное, наияснейший пане, – сказал бернардинец, – ты не покинешь народа».
На что король с трона ответил:
– Да, не покину, с моим народом хочу жить, с народом умереть!