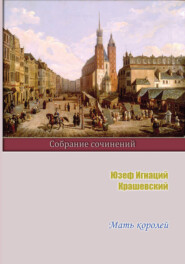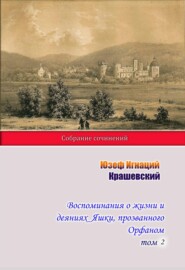По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Варшава в 1794 году (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но за то, что говорили глаза, она, казалось, не гневается, только устам было приказано молчание. В день выезда в лагерь начального Вождя, которому я вёз важные бумаги, я пошёл к Ваверским с прощанием. С неделю там не был. Юта меня встретила на пороге неспокойная.
– Что с вами стало? – спросила она доверчиво. – Если бы я не боялась напугать старых, спрашивая о вас, я бы уже пошла узнать о вас, потому что думала, что вы, пожалуй, больны.
Я сердечно её поблагодарил.
– Не хочу бывать чересчур часто, – сказал я, – чтобы слишком не привыкать к вам… а потом не тосковать как испорченный ребёнок.
Она посмотрела только на меня, как бы запрещая мне обычные сладости говорить… я должен был изменить тон на более весёлый.
– Я выбираюсь в дорогу, – добавил я.
– Куда?
– В лагерь Начальника.
– Вы счастливец, сначала – потому что поедете туда, где бьются… отсюда, где мы только спорить будем, а потом – что увидите человека, на которого вся Польша складывает надежды. Останетесь или вернётесь? – спросила она.
– Перед вами могу поведать то, – сказал я тихо, – что еду с бумагами. Вернусь ли с ответом или мне там прикажут остаться, не знаю.
– А когда вы едете? – спросила она.
– Сегодня ещё до ночи.
Наступило молчание, пришла Ваверская, которая за каждым моим появлением взяла себе за обязанность поить меня кофием.
– Поручик сегодня выезжает в свет! – сказала ей Юта.
– Что? Как? Надолго?
– Ничего не знаю, – ответил я, – но еду в войско.
– Но рука! – воскликнула мать.
– В дороге заживёт, – произнёс я.
Я был тут и теперь как дома, привыкший к этой скромной комнатке, а разговор с Ютой, могу сказать, услаждал мне жизнь. Однако же в эти минуты запал к бою, охота к действию, надежда увидеть Костюшку давали мне почти весёлость.
– Войска должны приблизиться к Варшаве, для её обороны, – отозвалась Юта, – то и вы с ними. Тогда, я надеюсь, навестите нас и не забудете о давней подруге.
Мы грустно расстались; теперь, не опасаясь ни меня, ни матери, она проводила меня до двери. В этот раз пошла также за мной, медленно, тревожно, однако, оглядываясь, смотрит ли мать.
Ваверская была занята уже хозяйством. У двери я взял её руку для поцелуя и поглядел в глаза, они были полны слёз, хотя улыбалась.
– Жаль мне вас, – проговорила она, – мы так по-братски привыкли друг к другу… не с кем будет поговорить и иногда… правда, жаль мне вас. Подумайте там иногда о Юте.
В эти минуты она сняла с шеи золотой крестик, который носила на бархатке, и втиснула его мне в руку.
– Крестик на дорогу! – сказала она, смеясь. – Не смейтесь над этим… крестик Господень многое припомнит… Христа, Евангелие, ближнего, милость к врагам… и ту, может, что крестик дала… искренне желаю вам счастья на той дороге и на всей дороге жизни…
Говоря это, она дала мне руку и убежала.
* * *
У Сируца, когда он это говорил, хоть у старого, навернулась слеза, но спустя минуту он продолжал дальше:
– Я добрался до лагеря Начальника после несчастной битвы под Шекоцинами, я нашёл его в Кельцах.
После нескольких выигранных битв мы везде были ослабленными для превозмогающих сил не одного, но всех трёх неприятелей, более или менее явно против нас выступающих. Пруссаки уже вовсе не скрывали того, что хотели помогать русским. Их неожиданному появлению Костюшко был обязан проигранной Шекоцинской битвой, если эту битву годилось назвать проигранной. Кроме того, был под угрозой Краков, не везло иным отрядам. Сама страна, что заранее предвидел Костюшко, не отвечала отчаянному призыву встать под оружие все силы народа. Тянули, боялись, сомневались. Люд не был приготовлен, шляхта была напуганной.
Это первый раз революцию в Польше сделали мещане, а в войско наравне с шляхтой были призваны крестьяне. То, что делалось во Франции, бросало яркий свет на то, что происходило в Польше. Русские и их приятели постоянно кричали на якобинцев, на клубы, на новые принципы, противные всякому общественному порядку и религии. Игельстрём призыв крестьян к оружию называл нарушением собственности…
На подготовку такой революции, о какой мечтал политично образованный в Америке Костюшко, нужно было больше времени. Старый порядок видел солдата в шляхте, в крестьянине – свободного кормильца народа. Все классы поделены были и разбиты вековым положением, из которого в минуту по приказу выйти не могли. Поэтому Костюшко нашёл Польшу неприготовленной, а его республиканские понятия – фактически угрожающими равенству. Издавна кричали все люди, видящие опасность освобождения крестьян, тревожилась им шляхта и на эту жертву пойти не могла.
Отклонили с возмущением кодекс Замойского потому только, что напоминал об освобождении одной трети части жителей деревни; конституция 3 мая робко коснулась вопроса о крестьянах, потому что иначе бы, несмотря на четырёхлетние пропаганды либеральных идей, не прошла. Голос Костюшки от имени родины взывал к народу, не смели ему противоречить, великая серьёзность имени, великая святость дела не допускали – но пассивное сопротивление стояло молчащим к приказам Начальника.
В лагере я нашёл хмурые, печальные лица… Опасались за Краков, боялись за Варшаву… Не усомнился ещё Костюшко и не настолько верил до конца, уже всё-таки чувствовал с какими великими, не только внешними, препятствиями ему придётся бороться. Я видел его первый раз в жизни, и когда Линовский ввёл меня в скромный шалаш из зелёных веток, который он занимал, сердце моё сильно билось. Я подошёл к нему с трепетом.
Я ожидал найти в Начальнике народа что-то величественное, геройское; я удивился, видя перед собой очень скромного человека среднего роста, лицо которого, только после того как вглядишься, поражало выражением доброты, чистоты, спокойствия, я сказал бы, правды… если можно так выразиться.
Ничего в нём не было избранного, успешного, рассчитанного. Стоял таким перед людьми, каким его сотворил Господь Бог. Некрасивые черты лица были милы и симпатичны, из глаз смотрели мужество и рассудительность.
Он был одет в серую сермяжку краковского кроя, длинные ботинки, холопскую шапочку и патронташ. Как раз возвратившись с осмотра войск, он опоясывал саблю, когда я вошёл. Шалаш, в котором он жил, поражал почти бедностью. В одном уголке – тесная кроватка с кожаной подушкой, а под ней – опустошённый узелочек, в другом – столик, собранный на скорую руку, кажется, из ставни, а на нём – бумаги и карты. Другой подобный стол был как раз накрыт со спартанской простотой грубой скатертью, не выбеленной, и несколькими глиняными тарелками. Одна бутылка вина стояла рядом с графином с водой. Ни изящных адъютантов, ни службы при нём не было. Старый, с небритой бородой повар в белом фартуке, одновременно, по-видимому, и служащий, появился, ожидая приказов. Костюшко, прежде ещё чем вскрыл бумаги, начал расспрашивать меня о Варшаве. Увидел мою руку ещё на перевязи, узнал о ране и обнял меня, молчащего.
Говорил я сам мало… Линовский кидал мне вопросы один за другим, так, что я едва успел на них ответить.
О многих также вещах я был неосведомлён или знал только их внешнюю физиономию. Я был вынужден рассказать об экзекуции 9 мая, что о ней знал. Начальник мрачно молчал, переглянулись с Линовским, не говорили ничего.
Наконец, когда главнейшие предметы исчерпались, Костюшко велел подавать к столу. Трое военных, Линовский и я сели к этому скромному по-настоящему спартанскому пиру. Хлеб был с отрубями… суп принесли в большой потрескавшейся миске, потом польское белое отварное мясо, жаркое и блины. На десерт нашлась присланная кем-то земляника. Мы выпили по рюмке вина, наконец подали чёрный кофе.
Беседа за столом почти постоянно крутилась о пруссаках, об их вероломстве, о судьбе Варшавы. О короле почти не говорили. На протяжении всей этой войны, по правде говоря, отдавали ему все атрибуты, принадлежащие королевскому достоинству, но от всего его отстранили, деятельно не допускали ни к чему. Король пробовал иногда оказывать некоторое влияние и в итоге создал себе кружок, который разнообразными дорогами пытался подействовать на Начальника, на правительство. Всегда, однако, это несмелое, слабое воздействие не могло иметь великого значения.
Тут ещё надеялись на восстание более обширных размеров в стране, большего участия крестьян, более живого патриотизма шляхты. Линовский несколько раз спросил о Потоцком и Коллонтае, но я мало что мог о них поведать. Костюшко внимательно расспрашивал о Килинском и почти до слёз был взволнован, когда я ему поведал о приготовлении к восстанию под глазами и угрозой Игельстрёма.
Так для нас прошло время до вечера.
Каждую минуту подбегали офицеры, рапорты, а, наконец, и околичная шляхта пребывала поклониться Начальнику, привозя ему скромную денежную помощь для его казны и жестоко вздыхая, что её косарей и косы забирали на грустненький покос.
Старый шляхтич из околицы Керц, некий пан Белина, развлёк и опечалил Костюшку. Он приехал со старым венгерским вином и с убеждением.
– Наш возлюбленный Начальник! – воскликнул он громко. – Ради Христовых ран, что делаешь, этих хамов нам бунтуя. Или мы без них не обойдёмся! Эта угроза шляхетскому народу! Умеют ли владеть оружием! Коса! Коса – очень хорошая вещь на лугу, но на москалей – это шутки.
– Всё-таки под Рацлавицами хуже кнута боялись, чем сабли, – сказал Костюшко.
– Потому что ещё не узнали! – воскликнул Белина. – А самая худшая вещь – что холоп сразу становится гордым и его уже за ухо покрутить будет нельзя.
– Пане судья, – воскликнул Костюшко, – я возвратился из Америки, из страны по-настоящему республиканской, где, кроме негров, рабов нет и холопов нет, и шляхты также нет.
– Как же это может быть, – выкрикнул Белина, – чтобы где-нибудь на свете не было шляхты. Вот страна! Как же они там могут жить… promiscue… как быдло…