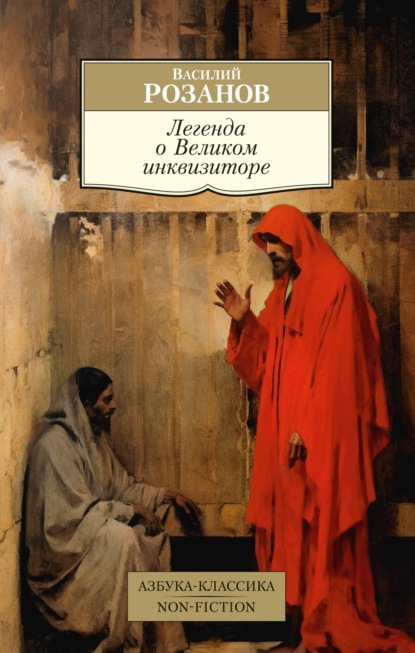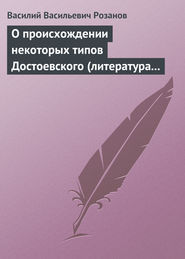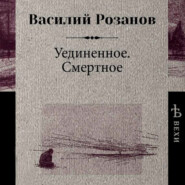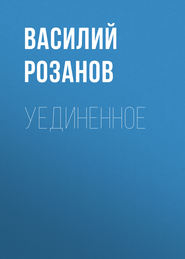По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Легенда о Великом инквизиторе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Легенда о Великом инквизиторе
Василий Васильевич Розанов
Азбука-классика. Non-Fiction
Книга философа и литературного критика Василия Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» вышла в свет в 1894 году. Она принесла известность Розанову и стала первой работой, в которой Достоевский представлен как религиозный мыслитель. Именно Розанов – внимательный и чуткий критик, тонкий знаток искусства – положил начало осмыслению творчества Достоевского (которым был увлечен всю жизнь) в русле христианского вероучения. По мнению Розанова, «Легенда о Великом инквизиторе» – квинтэссенция романа «Братья Карамазовы»: «…именно „Легенда" составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест». В издание также включены главы из сборника «Литературные очерки» (1899).
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Василий Розанов
Легенда о Великом инквизиторе. Статьи
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского
Опыт критического комментария
Предисловие к первому изданию
Читатель да не посетует, что главный труд, здесь предлагаемый и который он мог бы, судя по заглавию книги, ожидать один встретить в ней, сопровождается двумя небольшими критическими этюдами о Гоголе. Они вызваны были многочисленными возражениями, какие встретил в нашей литературе взгляд на этого писателя, мною побочно выраженный в «Легенде об Инквизиторе». С этими возражениями я согласиться не мог, и два небольших очерка, написанные мною в объяснение своего взгляда, помогут и читателю стать в этом спорном вопросе на ту или другую сторону.
Главный же очерк, комментарий к знаменитой «Легенде» Достоевского, сопровождается впервые здесь приложениями, которые, как ключ, введут читателя в круг господствующих идей нашего покойного писателя и дадут также возможность отнестись критически к моим объяснениям его творчества.
СПб., 1894
Предисловие ко второму изданию
Отзыв о Гоголе, стр. 10–14, вызвал очень много протестов сейчас же по напечатании «Легенды». Кажется, и до сих пор он остается в литературе одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить мне, имея в руках документы написанного Гоголем. Гоголь был великий платоник, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике своей я коснулся души Гоголя и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не проникнете его до дна; и даже по мере заглядывания все менее и менее будете способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы, заблудитесь, измучитесь и воротитесь, не дав себе даже и приблизительно ясного отчета о виденном. Гоголь – очень таинствен; клубок, от которого никто не держал в руках входящей нити. Мы можем судить только по объему и весу, что клубок этот необыкновенно содержателен… Поразительно, что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме («Вий») так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую быль; в «Страшной мести» говорит об испуге тоном смертельно боящегося человека. Да, он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известные не понаслышке. В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает действительность, но схемы породы человеческой он изваял вековечно; грани, к которым вечно приближается или от которых удаляется человек…
Достоевский как творец-художник стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но муть Гоголя у него значительно проясняется, и из нее вытекли миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору «Переписки с друзьями». Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел до нужного, переступил требующееся. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли… Видны ясно его ошибки; и, напр., вся его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении) теперь представляется очевидною аберрацией ума. Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более метафизические вопросы, чем исторические, каковыми он склонен был сам считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый Бурульбаш, заглянув в окно старого замка к Пану-отцу («Страшная месть»). Они зажмурились бы и спустились скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что центр всемирной интересности и значительности передвинулся к нам (Россия), – и почти весь вопрос теперь в силах нашего разумения, просто в нашей талантливости. Талантливый момент придвинул к нам Бог; сумеем ли около него мы сами быть талантливы…
Одна частность, которую следует оговорить. Дойдя до критики страдания людей, в частности – младенцев, я пытался тогда, в 1891 г., рационализировать около этой темы. Это ошибка, и хотя я оставляю эту страницу (66) нетронутою, но читатель должен на нее смотреть как бы на зачеркнутую. В «Пушкинской речи», так запомнившейся в России, Достоевский спросил: «Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того – пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое счастье?..»
Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще – на чьей-нибудь обиде, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный Рим, с предположениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но так искусно и с такими оговорками положенных, что не минуту, не год, но века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика, отворачиваясь от него, презирая его, хотя о нем и сознавая все время: то вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий.
Лет шесть назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, смеющийся почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к рассказу за чашкою чая. Неподалеку от Костромы, в перелесках, которыми начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия, то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение, которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно, мальчик все ползал около деревьев, может быть, заползал в кусты, может быть, сваливался в ямку и из нее карабкался, и по крайней мере это длилось неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал: «Мама! Мама!» Боялся он? Не боялся ночью? Как он относился к чувству голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль голода, сильна ли? Ведь это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и воображении, сознании мальчика, но кое-что, верно, было, уж по крайней мере коротенькое-то это «мама! мама!». Но «мама», верно, была уже далеко, хотя, может быть, день-то и постояла поблизости за деревом, тоже следя, куда поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная, сердечная, острая, щемящая, – и этим только и можно объяснить, что она не имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не заглянули. По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги задрожали, ум помутился: ведь за это и родной отец привычно выгоняет дочерей вон из дому, что же скажут чужие, не отцы, соседи, священник? И руки разжались, и младенец выпал на дорогу; но не нашлось для него «дочери фараоновой», которая спасла Моисея из воды. Явный случай этот есть вариант частого у нас случая гибели и погубления тайно рождаемых детей, в той же мере обрекаемых на небытие, как египетский закон не требовал ведь собственно и именно убиения израильских детей, а только чтобы еврейки не рождали мальчиков-детей. Девочек же они могли рождать так много, как и христианки могут много рождать детей при сумме таких-то формальностей, которые, увы, не в их распоряжении, и они оказываются во множестве, и не по своей воле, так сказать, не получившими билета на вход в семейный сад. Все христиане знают a priori, что, положим, в следующем, 1903 году будет убито младенцев приблизительно столько же сотен, сколько в этом, 1902 году; но это не возбуждает вопроса. Это так же мало для всякого интересно, как для египтян мало было интересно число еврейских младенцев, которые, в силу такого-то закона, попадут в Нил и иногда хуже, чем в Нил. На почве этой коллизии Моисей и египтяне и разошлись. Теперь, если взять вопрос Достоевского, в приведенной выше речи, и прикинуть его не к мужу Татьяны («Евг. Онег.»), как он сделал, т. е. факту литературному и предполагаемому, но к костромскому мальчику, т. е. явлению очевидному и постоянному, калейдоскопически вертящемуся, то мы и увидим, что, так сказать, нравственный Рим, нами доверчиво принятый и в котором мы живем, так же раскалывается, как еврейско-египетский союз-сожитие, ибо он построен именно на крови детской, о которой в «Легенде» заговорил Достоевский; на страдании без вины: и не стариков страдании, не взрослых, не людей какого-либо чина и состояния, но именно и специально одних только детей. Мы живем в эре похуленного рождения; потрясенного абсолюта полов, т. е. жизни, т. е. опять же рождения. И костромской факт, в общей его картине и смысле, есть продукт этого похуления, и вне нашей эры его не существует. Ибо где слава и честь – там не умирают, не умерщвляют; а где позор – там уж непременно умрут. Явилась и непременно должна была явиться у нас некоторая доля как бы апокрифических рождений, не попадающих в тесный канон; и как апокрифические книги не велено читать, предосудительно держать, одобрительно уничтожить: так дети апокрифические не прямо, но косвенно указуются к вычерку из «книги живота». Моисей и его судьба, но без дочери фараоновой, a priori вырисовываются. И вырисовывается нужда, сердечная принужденность, подумать о вторичном «Исходе», аналогичном Моисееву. Ибо, как и сказал Достоевский: «Позвольте, согласились ли бы вы принять такую гармонию?» Но он совершенно не подумал, как далеко простирается его вопрос и как самые дорогие ему идеи закручиваются и идут ко дну именно около детей. Он взял в пример необъяснимости вообще страданий абсолютную правду, чистоту: дитя. Ему в ответ кидается: дитя-то и есть преимущественная скверна, первая вина человеков, их стрежневой грех. Около этого вопроса «Легенда» Достоевского, которая могла бы казаться только теориею, рассуждением и таковою действительно была для него, наливается, так сказать, соком и кровью практики и вдруг переходит в совершенно реальную проблему.
И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая…
Это не литературный спор, но бытийственный. Исходная точка возможного нового бытия.
С.-Петерб., 1901
О легенде «Великий инквизитор»
И рече Бог: «Се Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою, и возмет от древа жизни, и снест, и жив будет во век». И изгна его Господь Бог из Рая сладости – делати землю, от неяже взят бысть.
Быт. III
В одной фантастической повести Гоголь рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась, художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице, – но, когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже потухала в его оригинале и каким-то тайным волшебством перенеслась в эту копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты. Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.
Этот рассказ почему-то невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов и связала мысль о нем с занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, – все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория. Соедините их – и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования.
Там, «откуда не возвращался никто», есть, конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятию, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей – привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение: «Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них – их дети»[1 - «Подросток», Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.], – говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но это бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком неполна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, – нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века – и нужная черта вскрывается, и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. «Строй выше себе пирамиду, бедный человек», – говорит как будто полный этих ощущений Гоголь[2 - «Арабески», ч. 2. Жизнь.].
Во всяком случае, чувство радости, которое испытывается при этом созидании, служит хоть каким-нибудь просветом среди того сумрака, который обычно окружает душу великих поэтов, художников, композиторов. Так глубоко и так часто непреодолимо разъединенные с живым, окружающим их миром людей, их радостей и печалей, они чувствуют себя соединенными через века с иными поколениями людей, мысленно живут в их жизни, помогают им в труде их и радуются их радостям. Странная, несколько фантастическая жизнь, черты которой, однако, мы наблюдаем, вчитываясь во все замечательные биографии. Недаром покойный проф. Усов, натуралист, но и вместе знаток искусства, назвал мир его – «миром иллюзии»[3 - Cм.: «Воспоминания о воззрениях С. А. Усова на искусство» Н. Иванцова, в кн. III «Вопросы философии и психологии». М., 1890.]. Замечательно, что у каждого почти творца в сфере искусства мы находим один центр, изредка несколько, но всегда немного, около которых группируются все его создания: эти последние представляют собою как бы попытки высказать какую-то мучительную мысль, и, когда она наконец высказывается, – появляется создание, согретое высшею любовью творца своего и облитое немеркнущим светом для других, сердце и мысли которых влекутся к нему с неудержимою силой. Таков был у Гёте «Фауст», Девятая симфония у Бетховена, «Сикстинская Мадонна» у Рафаэля. Это высшие продукты психической деятельности, их любит человечество и знает, как то, к чему способно оно в лучшие свои минуты, которые, конечно, редки во всемирной истории, как редки и минуты особенного просветления в жизни каждого человека.
На одном из подобных созданий мы и хотим остановиться. Оно, однако, проникнуто особою мучительностью, как и все творчество избранного нами писателя, как и самая его личность. Это – «Легенда о Великом инквизиторе» покойного Достоевского. Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, «Братья Карамазовы», но связь ее с фабулою этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение. Но зато, вместо внешней связи, между романом и «Легендою» есть связь внутренняя: именно «Легенда» составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере, не было бы в них всех самых лучших и высоких мест.
I
Еще в 1870 г. в письме к Ап. Н. Майкову от 25 марта Достоевский писал, между прочим, о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. «Идея [этого романа], – говорил он в письме, – та самая, о которой я вам уже писал. Это будет мой последний роман. Объемом в „Войну и мир“, и идею вы бы похвалили, – сколько я, по крайней мере, соображаюсь с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву[4 - Редактор журнала «Заря», приглашавший Достоевского написать к осенним месяцам этого года какую-нибудь повесть.]: тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть: „Житие великого грешника“, но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой в продолжение жизни – то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. Вторая повесть будет происходить вся в монастыре. На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главною фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на покое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный), и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (вы ведь знаете характер и все лицо Тихона). Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, напр. за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать гости и другие, Белинский, напр., Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубова, и инок Парфений (в этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но главное – Тихон и мальчик. Ради Бога, не передавайте никому содержание этой второй части… Я вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня – сокровище. Не говорите же про Тихона. Я написал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось, выведу величавую, положительную (курсив Достоевского), святую фигуру. Это уж не Констанжогло-с и не немец в Обломове[5 - «Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч.». Приписка Достоевского к письму.]; и не Лопуховы, не Рахметовы[6 - Два последние – герои романа «Что делать?».]. Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для второго романа, для монастыря – я должен быть в России»[7 - См.: «Биография и письма». СПб., 1883, отд. 2, стр. 233–234.].
Кто не узнает в торопливых и разбросанных строках этого письма первый очерк «Братьев Карамазовых», с его старцем Зосимою и с чистым образом Алеши (очевидно, разделенная фигура Тихона Задонского), с развитым и развращенным, правда уже не мальчиком, но молодым человеком Иваном Карамазовым, с поездкою в монастырь (помещик Миусов, очевидно, – переделанная фигура Чаадаева), со сценами монастырской жизни и пр. Но всегдашняя нужда расстроила предположения Достоевского. Связываемый срочными обязательствами, в которые он входил с редакциями и книгопродавцами, он принужден был усиленно работать, и хотя из написанного им за это время было много прекрасного, однако все это не было осуществлением его задушевной мечты и уже созревшего плана. Очевидно, он все дожидался досуга, который дал бы возможность обрабатывать неторопливо. Кроме денежной нужды, этому чрезвычайно препятствовала и его впечатлительность: он не мог, хотя на время, закрыть глаза на текущие дела, тревоги и вопросы нашей жизни и литературы. С 1876 г. он начал выпускать «Дневник писателя», создав им новую, своеобразную и прекрасную форму литературной деятельности, которой в будущем, во все тревожные эпохи, вероятно, еще суждено будет играть великую роль. Чрезвычайный успех этого издания, можно было опасаться, совершенно не даст ему возможности сосредоточиться на какой-нибудь цельной работе, и, как многие планы, замысел большого романа, уже обдуманного несколько лет назад, мало-помалу заглохнет, самый энтузиазм к нему рассеется.
Но судьба, так часто злая извне к великим людям, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого и задушевного. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с носителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно или случайно. Хотя бы перед самым наступлением ее, повинуясь какому-то безотчетному и неудержимому влечению, они отрываются от всего побочного и делают то, что нужно, – самое главное в своей жизни.
Беспорядочный, страстный, перед тысячами ожидающих глаз[8 - Об успехе «Дневника писателя» см. цифровые данные в его «Биографии и письмах», отд. 1, стр. 300.], Достоевский вдруг умолкает и замыкается в себя, «чтобы заняться одною художественною работой»[9 - См.: «Дневник писателя» за 1877 г., декабрь: «К читателям».]; он успокаивает читателей «Дневника», что это не более как на один год, ему необходимый для работы, после чего он вновь возвратится к ежемесячной беседе с ними. Но предчувствию, выраженному семь лет назад[10 - См. выше, в письме к Aп. H. Майкову.], суждено было сбыться: предпринимаемая художническая работа стала действительно его «последним романом», и даже последним неоконченным литературным трудом. В 1880 и 1881 годах было выпущено только по одному нумеру «Дневника» – в минуту особенного оживления[11 - По поводу Пушкинского праздника единственный № за 1880 г., с «Речью о Пушкине» и объяснениями к ней.] и в промежуток отдыха между первым большим отделом романа и его вторым отделом, который должен был «представлять собою почти самостоятельное целое». В этот краткий промежуток отдыха ему суждено было окончить свои дни. Последние томы романа, «обширного, как „Война и мир“», не были написаны. Четырнадцать книг, составляющие четыре части (с эпилогом) «Братьев Карамазовых», представляют собою выполнение, уже доведенное до конца, первого отдела обширной художественной эпопеи. Вот что пишет он об общем плане ее в предисловии к «Братьям Карамазовым»: «Хотя жизнеописание (героя, которое служит содержанием романа) у меня одно, но романов два. Главный роман – второй: это деятельность моего героя уже в наше время, или в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тридцать лет назад – и это почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным».
Очевидно, даже внешний план долго вынашиваемого произведения был сохранен в «Братьях Карамазовых»; и все нужное к его выполнению было также сделано теперь: в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину пустынь, чтобы обновить свои воспоминания о монастырской жизни. В старце монастыря этого, отце Амвросии, нравственно-религиозный авторитет которого и до сих пор руководит жизнью тысяч людей, он, вероятно, нашел несколько драгоценных и живых черт для задуманного им положительного образа. Но первоначальный план подвергся некоторым изменениям и принял в себя много дополнений. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своем романе, не мог стать центральным лицом в нем, как он первоначально думал это сделать: установившийся и неподвижный, этот образ мог быть очерчен, но его нельзя было ввести в движение передаваемых событий. Вот почему старец Зосима только показывается в «Братьях Карамазовых»: он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алешу Карамазова, и умирает. Вместо него центральным лицом всего сложного произведения должен был стать этот последний[12 - Это высказано положительно и в предисловии к «Братьям Карамазовым».]. Нравственный образ Алеши в высшей степени замечателен по той обрисовке, которая ему придана. Видеть в нем только повторение типа кн. Л. Н. Мышкина (герой «Идиота») было бы грубою ошибкой. Кн. Мышкин, так же, как и Алеша, чистый и безупречный, чужд внутреннего движения, он лишен страстей вследствие своей болезненной природы, ни к чему не стремится, ничего не ищет осуществить; он только наблюдает жизнь, но не участвует в ней. Таким образом, пассивность есть его отличительная черта; напротив, натура Алеши прежде всего деятельна, и одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения[13 - См. его думы и слова после кончины старца Зосимы.], даже чувственные страсти[14 - Один разговор с Ракитиным, где он, «девственник», признается, что ему слишком понятны «карамазовские бури».] и способность к гневу[15 - Разговор с братом Иваном о страданиях детей.] – все есть в этом полном человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое понимание разностороннего в человеческой природе: он как-то близок, интимен со всяким человеком, с которым ему приходится вступать в сношения. Брат Иван и Ракитин, развращенный старик, его отец, и мальчик Коля Красоткин – одинаково доступны ему. Но, вникая в чужую внутреннюю жизнь, он внутри себя всегда остается тверд и самостоятелен. В нем есть неразрушимое ядро, от которого идут всепроницающие нити, способные завязаться, бороться и побеждать внутреннее содержание других людей. И между тем этот человек, так уже сильный, является перед нами еще только отроком – образ удивительный, впервые показавшийся в нашей литературе. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) «Братьев Карамазовых» унес от нас многие откровения человеческой души, что там были бы слова, действительно проясняющие путь жизни. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую мы имеем перед собой, Алеша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка вставляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовывающие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и верно, что и недоконченный образ уже светится перед нами настоящею жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного реформатора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться, – явление единственное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать к нему аналогии, мы нашли бы ее не в литературе, но в живописи нашей. Это – фигура Иисуса в известной картине Иванова: так же далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе стоящих лиц и, однако, уже центральная и господствующая над ними. Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произносится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением в жизни; и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звездой этого возрождения.
Но если Алеша Карамазов только обрисован в романе, но не высказался в нем, то его брат Иван и обрисован, и высказался («Легенда об инквизиторе»). Таким образом, вне предположений Достоевского, не успевшего окончить своего романа, эта фигура и стала центральною во всем его произведении, т. е. собственно она осталась таковою, потому что другой и его заслоняющей фигуре (Алеши) не пришлось выступить и, без сомнения, вступить в нравственную и идейную борьбу с своим старшим братом. Таким образом, «Братья Карамазовы» есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого «последующее было бы непонятно». Но, судя по прологу, целое должно было стать таким мощным произведением, которому подобное трудно назвать во всемирной литературе: только Достоевский, способный совмещать в себе «обе бездны – бездну вверху и бездну внизу», мог написать не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздирает человеческую душу, – борьбы между отрицанием жизни и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением. Он только, переживший эту борьбу и в чистом энтузиазме, с которым создавал «Бедных людей»[16 - См. об этом воспоминании в «Дневн. писат.» за январь 1877 г.], и в шумном кружке Петрашевского, и в дебрях Сибири, среди каторжников, и в долгом уединении в Европе, мог сказать нам одинаково сильно и «pro», и «contra»[17 - Это название носят две центральные книги в «Братьях Карамазовых».]; без лицемерия «pro» и без суетного тщеславия «contra».
По отношению к характерам, которые выведены в «Братьях Карамазовых», характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные: Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону, уже и ранее рисовался перед нами то как Раскольников и Свидригайлов («Преступл. и наказ.»), то как Николай Ставрогин («Бесы»), отчасти как Версилов («Подросток»); Алеша Карамазов имеет свой прототип в кн. Мышкине («Идиот») и отчасти в лице, от имени которого ведется рассказ в романе «Униженные и оскорбленные»; отец их, «с профилем римского патриция времен упадка», рождающий детей и бросающий их, любитель потолковать о бытии Божием «за коньячком», но главное – любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку, есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского («Униженные и оскорбленные»). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе все-таки благородный, смесь добра и зла, но не глубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин («Бесы»), вечно уторопленный и возбужденный, может еще хоть несколько, конечно извне только, напомнить его. Новым лицом является и четвертый брат, Смердяков, это незаконное порождение Федора Павловича и Лизаветы «смердящей», какой-то обрывок человеческого существа, духовное Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и в человеческом сердце. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству «Братьев Карамазовых», но и возвышает их интерес: Достоевский есть прежде всего психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но только душу человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения, как завершающее произведение, «Братья Карамазовы» имеют неисчерпаемый интерес. Но чтобы понять его вполне, нужно сказать несколько слов о том общем смысле, который имеет деятельность Достоевского.
II
Известен взгляд[18 - Он подробно развит, между прочим, у Ап. Григорьева в статье «Взгляд на современную изящную словесность и ее исходная историческая точка». См.: Сочинения, стр. 8–20.] по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него. Она вытекает из него, если смотреть на дело с внешней стороны, сравнивать приемы художественного творчества, его формы и предметы. Так же как и Гоголь, весь ряд последующих писателей, Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Л. Толстой, имеют дело только с действительною жизнью, а не с созданною в воображении («Цыганы», «Мцыри»), с положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которые мы все входим. Но если посмотреть на дело с внутренней стороны, если сравнить по содержанию творчество Гоголя с творчеством его мнимых преемников, то нельзя не увидеть между ними диаметральной противоположности. Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он. Не составляет ли тонкое понимание внутренних движений человека самой резкой, постоянной и отличительной черты всех новых наших писателей? За действиями, за положениями, за отношениями мы повсюду у них видим человеческую душу как скрытого двигателя и творца всех видимых фактов. Ее волнения, ее страсти, ее падения и просветления – вот что составляет предмет их постоянного внимания. Оттого столько задумчивого в их созданиях; за это мы так любим их и считаем постоянное чтение их произведений за средство лучшего очеловечивающего воспитания. Теперь если, сосредоточив как на главном на этой особенности свое внимание, мы обратимся к Гоголю, то почувствуем тотчас же страшный недостаток в его творчестве этой самой черты – только ее одной и только у него одного. Свое главное произведение он назвал «Мертвые души» и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти? И если, конечно, – нет, то чем же эти фигуры, которые он вывел перед нами как своих героев, могли отозваться на эти великие моменты, почувствовать эти общие страсти? Что было за одеждою, которую одну мы видим на них, такого, что могло бы хоть когда-нибудь по-человечески порадоваться, пожалеть, возненавидеть? И спрашивается, если они не были способны ни к любви, ни к глубокой ненависти, ни к страху, ни к достоинству, то для чего же, в конце концов, они трудились и приобретали, куда-то ездили и что-то переносили? Гоголь выводит однажды детей, – и эти дети уже такие же безобразные, как и их отцы, так же лишь смешные и осмеиваемые, как и они, фигуры. Раз или два он описывает, как пробуждается любовь в человеке, – и мы с изумлением видим, что единственное, что зажигает ее, есть простая физическая красота, красота женского тела для мужчины (Андрей Бульба и полячка), которая действует мгновенно и за первым мгновением о которой уже нечего рассказывать, нет всех тех чувств и слов, которые мы слышим в заунывных песнях нашего народа, в греческой антологии, в германских сказаниях и повсюду на всей земле, где любят и страдают, а не наслаждаются только телом. Неужели же это был сон для всего человечества, который разоблачил Гоголь, сорвав наконец грезы и показав действительность? И не правильнее ли думать, что не человечество грезило и он один видел правду, но, напротив, оно чувствовало и знало правду, которую и отразило в поэзии всех народов на протяжении тысячелетий, а он сам грезил и свои больные грезы рассказал нам как действительность.
«И почему я должен пропасть червем? – говорит его герой в трудную минуту, оборвавшись в таможне. – И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? „Вот, – скажут, – отец – скотина: не оставил нам никакого состояния“».
«Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, известно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало»[19 - «Мертвые души». Изд. 1873 г., стр. 258.].
Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских и городских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего отца, где-нибудь дети подходят к матери и спрашивают: «Остаемся ли мы с состоянием»? Разве ложь и выдумка вся несравненная поэзия наших народных причитаний[20 - См. «Причитания северного края», собранные г. Барсовым. «Плач Ярославны», самое поэтическое место в «Слове», есть, очевидно, перенесенное сюда народное причитание. Сравни язык, образы, обороты речи.], нисколько не уступающая поэзия «Слова о полку Игоря»? Какие образы, какая задушевная грусть, какие надежды и воспоминания! И каким тусклым, безжизненным взглядом нужно было взглянуть на действительность, чтобы просмотреть все это, не услышать этих звуков, не задуматься над этими рыданиями. Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы. Рассмотрите ряд лучших портретов с людей, действительных в жизни, одетых плотью и кровью, – и вы редкий из них запомните; взгляните на очень хорошую карикатуру, – и еще много времени спустя, даже проснувшись ночью, вы вспомните ее и рассмеетесь. В первых есть смешение черт различных, и добрых и злых наклонностей, и, пересекаясь друг с другом, они взаимно смягчают одна другую, – ничего яркого и резкого не поражает вас в них; в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только ее – и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь.
И здесь лежит объяснение всей его личности и судьбы. Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех[21 - В «Выбранных местах из переписки с друзьями» можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества. Вот одно из ясных и точных мест: «Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться… Тебе объяснится также и то, почему я не выставлял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое». («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», письмо третье.) Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть выдавленные наружу качества своей души, о срисовке их с чего-либо внешнего даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется единичный недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация или иллюстрация «с моралью». Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры.], что делает его особенным, то невольно начинаем думать, что это особенное – не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокий и страшный изъян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений. О нем, друге Пушкина, современнике Грановского и Белинского, о члене славянофильского кружка в лучшую, самую чистую пору его существования, рассказывают, что «он не мог найти положительного образа для своих созданий»; и мы сами слышим у него жгучие, слишком «зримые» слезы по чем-то неосуществимом, по каком-то будто бы «идеале». Не ошибка ли тут в слове и, подставив нужное, не разгадаем ли мы всей его тайны? Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, – чудовищные фантасмагории показались в его произведениях, противоестественная Улинька и какой-то грек Констанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность. И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе; что-то неясное говорят о его последних днях, о каком-то безумии, о страшных муках раскаяния, о посте и голодной смерти[22 - См. о нем в «Литературных воспоминаниях» И. С. Тургенева («какое умное и какое больное существо») и также Ф. И. Буслаева: «Мои досуги». М., 1886, т. 2, стр. 235–239, с историческими словами Гоголя, обращенными (за несколько дней до смерти) к комику Щепкину: «Оставайтесь всегда таким».]. Какой урок, прошедший в нашей истории, которого мы не поняли! Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы в самом деле на несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов, – и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о бездушных существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, – и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. «Мне отмщение, и Аз воздам» – как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу.
Что не сознается людьми, то иногда чувствуется ими с тем большею силою. Вся литература наша после Гоголя обратилась к проникновению в человеческое существо; и не отсюда ли, из этой силы противодействия, вытекло то, что ни в какое время и ни у какого народа все тайники человеческой души не были так глубоко вскрыты, как это совершилось в последние десятилетия у всех нас на глазах? Нет ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, переходя от Гоголя к какому-нибудь из новых писателей: как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад, где все полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы. Мы впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди и, следовательно, братья нам. Вот в ряде маленьких рассказов Тургенева те же деревни, поля и дороги, по которым, может быть, проезжал и герой «Мертвых душ», и те же мелкие уездные города, где он заключал свои купчие крепости. Но как живет все это у него, дышит и шевелится, наслаждается и любит. Те же мужики перед нами, но это уже не несколько идиотов, которые, чтобы разнять запутавшихся лошадей, неизвестно для чего влезают на них и колотят их дубинами по спинам; мы видим дворовых и крепостных, но это не вечно пахнущий Петрушка и не Селифан, о котором мы знаем только, что он всегда бывал пьян. Какое разнообразие характеров, угрюмых и светлых, исполненных практической заботы или тонкой поэзии. Всматриваясь в черты их, живые и индивидуальные, мы начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь, – что так широко разрослась из недр этого народа. Какой чудный детский мир развертывается перед нами в грезах Обломова, в воспоминаниях Неточки Незвановой, в «Детстве и отрочестве», в сценах «Войны и мира», у заботливой Долли в «Анне Карениной»: и неужели все это менее действительность, чем Алкид и Фемистоклюс, эти жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто не издевался? А мысли Болконского на Аустерлицком поле, молитвы сестры его, тревоги Раскольникова и весь этот сложный, разнообразный, уходящий в безграничную даль мир идей, характеров, положений, который раскрылся перед нами в последние десятилетия, – что? скажем мы о нем в отношении к Гоголю? Каким словом определим его историческое значение? Не скажем ли, что это есть раскрытие жизни, которая умерла в нем, восстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял?
III
Достоевский прежде всех других заговорил о жизни, которая может биться под самыми душными формами, о человеческом достоинстве, которое сохраняется при самых невозможных условиях. В крошечном и прелестном рассказе «Честный вор»[23 - Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1882 г., т. 2, стр. 463 и след. Ниже указывая томы, мы всегда будем разуметь издание этого года, первое посмертное и до сих пор лучшее.] мы видим две фигуры из тех, мимо которых ежедневно проходим, не замечая их. Бедный угол, простые речи, случай, какие слишком часты, – все это, как луч из какого-то далекого мира, падает на нашу душу: мы забываем на минуту свои мысли и желания и внимательно присматриваемся к этому лучу. Образы, которые мы знали раньше только снаружи, просвечивают перед нами, и мы видим сердце, которое в них бьется. Несколько минут прошло, луч снова исчез, мы опять возвращаемся к обычному течению своих идей, но что-то уже переменилось в них, что-то стало в них невозможно более и что-то стало навсегда неизбежно: неизбежна – тревога за человеческое существо, как бы далеко оно ни отстояло от нас, невозможно – презрение к человеку, где бы мы его ни встретили. Среди всей мудрости, которую мы впитываем в себя, на всей высоте своих понятий, мы вдруг иногда останавливаемся и спрашиваем: так же ли чист наш внутренний мир, так же ли тепло в нас сердце, как в тех убогих и бедных людях, которых мы на минуту видели и навсегда запомнили? И слова апостола: «Пусть языком твоим говорят ангелы, но если в словах твоих не будет любви, то они будут медью звенящей и кимвалом бряцающим» – становятся ясны для нас, как никогда; мы понимаем, что в них дано мерило добра и зла, с которым мы никогда не погибнем и которое приложимо к всякой мудрости.
Кто пробуждает в нас понимание, тот возбуждает в нас и любовь. Вслед за автором мы идем и спускаемся в тусклый мир человеческого существования, которое было до сих пор скрыто от нас, и вместе с ним рассматриваем живые существа, которые там копошатся. «Вы думали, что они перестали страдать, что они ничего более не чувствуют, – говорит он нам, – прислушайтесь к языку их, всмотритесь в их лица: разве вы сами умеете так чувствовать, разве в трудную минуту вы встречали в окружающих такое участие, каким они согревают друг друга в этом мраке и в этом холоде? И посмотрите, какая вера в них живет, как далеки они от слабых жалоб, как мало обвиняют и терпеливо несут свой крест. Вы думали, что они только трудятся и питаются, предоставив мысли и желания вам? Нет, в них живут все ваши страсти, и они понимают многое, что непонятно вам. Это – люди, совершенно такие же люди, как вы, многое сохранившие, что вы потеряли, и немногое не успевшие приобрести, что вы приобрели. Вы видели их: теперь ступайте и, если можете, забудьте этот мир».
И когда вы в нерешительности останавливаетесь, он смотрит на вас проницающим взглядом и продолжает: «Отчего вы не идете, что удерживает вас? Помните же то, что в вас пробудилось, и не забывайте никогда в ваших соображениях: совесть — она живет и во всех людях, и также в этих. Вы видите не руки, которые устали, не ноги, которым холодно, не желудки, которые пусты. Вы видите перед собой миллионы человеческих душ и, когда вздумаете, что их нужно только согреть, накормить и успокоить, – вспомните, как забыли вы теперь о сне и пище, которые вас ожидают. Я сказал все. Теперь идите и занимайтесь вашей философией или древностями. Я же останусь с ними и, если не сумею разделить их труд, – разделю их горести и когда-нибудь, быть может, порадуюсь их радости».
Сквозь философские и исторические интересы, которые вновь вас окружают, сквозь блеск всего мира красоты, который приковывает вас в искусствах и литературе, вы с тех пор чувствуете иногда что-то тревожное, и вам припоминается странный человек, который однажды завел вас в мир, так непохожий на все, что вы знали, и остался там, сказав свои угрюмые слова. Силен ли он и что он там сделает, над чем пронеслись тысячелетия и улеглась наша цивилизация? В свободные минуты вы берете томы его рассказов, чтобы внимательнее всмотреться в его лицо, попробовать силу его мышц и крепость его мысли.
Василий Васильевич Розанов
Азбука-классика. Non-Fiction
Книга философа и литературного критика Василия Розанова «Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского» вышла в свет в 1894 году. Она принесла известность Розанову и стала первой работой, в которой Достоевский представлен как религиозный мыслитель. Именно Розанов – внимательный и чуткий критик, тонкий знаток искусства – положил начало осмыслению творчества Достоевского (которым был увлечен всю жизнь) в русле христианского вероучения. По мнению Розанова, «Легенда о Великом инквизиторе» – квинтэссенция романа «Братья Карамазовы»: «…именно „Легенда" составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере не было бы в них всех самых лучших и высоких мест». В издание также включены главы из сборника «Литературные очерки» (1899).
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Василий Розанов
Легенда о Великом инквизиторе. Статьи
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Азбука®
Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского
Опыт критического комментария
Предисловие к первому изданию
Читатель да не посетует, что главный труд, здесь предлагаемый и который он мог бы, судя по заглавию книги, ожидать один встретить в ней, сопровождается двумя небольшими критическими этюдами о Гоголе. Они вызваны были многочисленными возражениями, какие встретил в нашей литературе взгляд на этого писателя, мною побочно выраженный в «Легенде об Инквизиторе». С этими возражениями я согласиться не мог, и два небольших очерка, написанные мною в объяснение своего взгляда, помогут и читателю стать в этом спорном вопросе на ту или другую сторону.
Главный же очерк, комментарий к знаменитой «Легенде» Достоевского, сопровождается впервые здесь приложениями, которые, как ключ, введут читателя в круг господствующих идей нашего покойного писателя и дадут также возможность отнестись критически к моим объяснениям его творчества.
СПб., 1894
Предисловие ко второму изданию
Отзыв о Гоголе, стр. 10–14, вызвал очень много протестов сейчас же по напечатании «Легенды». Кажется, и до сих пор он остается в литературе одиноким, непризнанным. Верен ли он? Ложен ли? Едва ли что можно возразить мне, имея в руках документы написанного Гоголем. Гоголь был великий платоник, бравший все в идее, в грани, в пределе (художественном); и, разумеется, судить о России по изображениям его было бы так же странно, как об Афинах времен Платона судить по отзывам Платона. Но в характеристике своей я коснулся души Гоголя и, думаю, тут ошибся. Тут мы вообще все ничего не знаем о Гоголе. Нет в литературе нашей более неисповедимого лица, и, сколько бы в глубь этого колодца вы ни заглядывали, никогда вы не проникнете его до дна; и даже по мере заглядывания все менее и менее будете способны ориентироваться, потеряете начала и концы, входы и выходы, заблудитесь, измучитесь и воротитесь, не дав себе даже и приблизительно ясного отчета о виденном. Гоголь – очень таинствен; клубок, от которого никто не держал в руках входящей нити. Мы можем судить только по объему и весу, что клубок этот необыкновенно содержателен… Поразительно, что невозможно забыть ничего из сказанного Гоголем, даже мелочей, даже ненужного. Такою мощью слова никто другой не обладал. В общем рисунок его в равной мере реален и фантастичен. Он рассказывает полет бурсака на ведьме («Вий») так, что невозможно не поверить в это как в метафизическую быль; в «Страшной мести» говорит об испуге тоном смертельно боящегося человека. Да, он знал загробные миры; и грех, и святое ему были известные не понаслышке. В то же время в портретах своих, конечно, он не изображает действительность, но схемы породы человеческой он изваял вековечно; грани, к которым вечно приближается или от которых удаляется человек…
Достоевский как творец-художник стоит, конечно, неизмеримо ниже Гоголя. Но муть Гоголя у него значительно проясняется, и из нее вытекли миры столь великой сложности мысли, какая и приблизительно не мерцала автору «Переписки с друзьями». Идейное содержание Достоевского огромно, хотя через 20 лет по его смерти, взяв карандаш, всегда можно отметить, где он не дошел до нужного, переступил требующееся. И вообще виден конец и пределы сказанного им, которых в год смерти его решительно невозможно было определить. Можно сказать, что мы должны идти далее Достоевского, ибо время и самый предмет удивления и восхищения как-то прошли… Видны ясно его ошибки; и, напр., вся его путаница о Европе и России (в их взаимоотношении) теперь представляется очевидною аберрацией ума. Вопросы, поставленные Достоевским, гораздо глубже, чем казались ему. Они все суть более метафизические вопросы, чем исторические, каковыми он склонен был сам считать их. Россия подошла ныне к таким проблемам, взглянув на которые оба наши писателя почувствовали бы нечто сходное с тем, что почувствовал добрый Бурульбаш, заглянув в окно старого замка к Пану-отцу («Страшная месть»). Они зажмурились бы и спустились скорее вниз. Ясно, однако, чувствуется, что центр всемирной интересности и значительности передвинулся к нам (Россия), – и почти весь вопрос теперь в силах нашего разумения, просто в нашей талантливости. Талантливый момент придвинул к нам Бог; сумеем ли около него мы сами быть талантливы…
Одна частность, которую следует оговорить. Дойдя до критики страдания людей, в частности – младенцев, я пытался тогда, в 1891 г., рационализировать около этой темы. Это ошибка, и хотя я оставляю эту страницу (66) нетронутою, но читатель должен на нее смотреть как бы на зачеркнутую. В «Пушкинской речи», так запомнившейся в России, Достоевский спросил: «Чем успокоить дух, если позади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок?.. Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того – пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обесчещенного старика возвести это здание. Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на одну минуту, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы принять от вас такое счастье?..»
Речь эта, и в частности приведенное место ее, чрезвычайно запомнились. Действительно, тут поставлен некоторый кардинальный вопрос: можно ли вообще на чьих-нибудь костях, и даже проще – на чьей-нибудь обиде, воздвигнуть, так сказать, нравственный Рим, вековечный, несокрушимый? Или, еще острее поворот спора: если некоторый нравственный Рим, с предположениями на вековечность, построен на чьих-нибудь костях, но так искусно и с такими оговорками положенных, что не минуту, не год, но века человечество проходило мимо этих костей, даже не замечая трупика, отворачиваясь от него, презирая его, хотя о нем и сознавая все время: то вправе ли мы долее считать и надеяться, что этот уже воздвигнувшийся Рим вековечен, имеет вечное и согласное себе благословение в сердцах человеческих и благоволение свыше?.. Вот вопрос, вот критерий.
Лет шесть назад мне пришлось выслушать рассказ приезжего с моей родины, смеющийся почти рассказ, и просто в качестве новости, известия, именно повода к рассказу за чашкою чая. Неподалеку от Костромы, в перелесках, которыми начинаются необозримые заволжские леса, найдено было тельце младенца-мальчика, около года, одинокое, но цельное и нетронутое. Привезли его в Кострому, и как неизвестные тела нельзя предавать земле без вскрытия, то его и вскрыли. Нашли в желудке и костях и тканях особенное перерождение, которое происходит от голодной смерти. Дело было летом, и, очевидно, мальчик все ползал около деревьев, может быть, заползал в кусты, может быть, сваливался в ямку и из нее карабкался, и по крайней мере это длилось неделю. В конце, вероятно, он потерял голос, но первые дни, верно, кричал: «Мама! Мама!» Боялся он? Не боялся ночью? Как он относился к чувству голода, т. е. что понимал об этом? Что такое боль голода, сильна ли? Ведь это не местная и не острая боль? Ничего не умею представить себе о душе и воображении, сознании мальчика, но кое-что, верно, было, уж по крайней мере коротенькое-то это «мама! мама!». Но «мама», верно, была уже далеко, хотя, может быть, день-то и постояла поблизости за деревом, тоже следя, куда поползет мальчик и как он будет ее искать. К годовому ребенку любовь уже совершенно сформировавшаяся, не одна инстинктивная, но и сознательная, сердечная, острая, щемящая, – и этим только и можно объяснить, что она не имела сил убить его (верно, тайного своего ребенка), а оставила в лесу с тупой надеждой, что кто-нибудь пройдет мимо, пожалеет и поднимет. Но верно, он отполз в сторону, и люди проходили дорогой, а в сторону не заглянули. По всей обстановке видно, что до году мальчик скрывался где-нибудь на стороне, а затем по каким-нибудь обстоятельствам матери пришлось взять его, и вот она понесла было домой, но не донесла, ноги задрожали, ум помутился: ведь за это и родной отец привычно выгоняет дочерей вон из дому, что же скажут чужие, не отцы, соседи, священник? И руки разжались, и младенец выпал на дорогу; но не нашлось для него «дочери фараоновой», которая спасла Моисея из воды. Явный случай этот есть вариант частого у нас случая гибели и погубления тайно рождаемых детей, в той же мере обрекаемых на небытие, как египетский закон не требовал ведь собственно и именно убиения израильских детей, а только чтобы еврейки не рождали мальчиков-детей. Девочек же они могли рождать так много, как и христианки могут много рождать детей при сумме таких-то формальностей, которые, увы, не в их распоряжении, и они оказываются во множестве, и не по своей воле, так сказать, не получившими билета на вход в семейный сад. Все христиане знают a priori, что, положим, в следующем, 1903 году будет убито младенцев приблизительно столько же сотен, сколько в этом, 1902 году; но это не возбуждает вопроса. Это так же мало для всякого интересно, как для египтян мало было интересно число еврейских младенцев, которые, в силу такого-то закона, попадут в Нил и иногда хуже, чем в Нил. На почве этой коллизии Моисей и египтяне и разошлись. Теперь, если взять вопрос Достоевского, в приведенной выше речи, и прикинуть его не к мужу Татьяны («Евг. Онег.»), как он сделал, т. е. факту литературному и предполагаемому, но к костромскому мальчику, т. е. явлению очевидному и постоянному, калейдоскопически вертящемуся, то мы и увидим, что, так сказать, нравственный Рим, нами доверчиво принятый и в котором мы живем, так же раскалывается, как еврейско-египетский союз-сожитие, ибо он построен именно на крови детской, о которой в «Легенде» заговорил Достоевский; на страдании без вины: и не стариков страдании, не взрослых, не людей какого-либо чина и состояния, но именно и специально одних только детей. Мы живем в эре похуленного рождения; потрясенного абсолюта полов, т. е. жизни, т. е. опять же рождения. И костромской факт, в общей его картине и смысле, есть продукт этого похуления, и вне нашей эры его не существует. Ибо где слава и честь – там не умирают, не умерщвляют; а где позор – там уж непременно умрут. Явилась и непременно должна была явиться у нас некоторая доля как бы апокрифических рождений, не попадающих в тесный канон; и как апокрифические книги не велено читать, предосудительно держать, одобрительно уничтожить: так дети апокрифические не прямо, но косвенно указуются к вычерку из «книги живота». Моисей и его судьба, но без дочери фараоновой, a priori вырисовываются. И вырисовывается нужда, сердечная принужденность, подумать о вторичном «Исходе», аналогичном Моисееву. Ибо, как и сказал Достоевский: «Позвольте, согласились ли бы вы принять такую гармонию?» Но он совершенно не подумал, как далеко простирается его вопрос и как самые дорогие ему идеи закручиваются и идут ко дну именно около детей. Он взял в пример необъяснимости вообще страданий абсолютную правду, чистоту: дитя. Ему в ответ кидается: дитя-то и есть преимущественная скверна, первая вина человеков, их стрежневой грех. Около этого вопроса «Легенда» Достоевского, которая могла бы казаться только теориею, рассуждением и таковою действительно была для него, наливается, так сказать, соком и кровью практики и вдруг переходит в совершенно реальную проблему.
И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая…
Это не литературный спор, но бытийственный. Исходная точка возможного нового бытия.
С.-Петерб., 1901
О легенде «Великий инквизитор»
И рече Бог: «Се Адам бысть яко един от Нас, еже разумети доброе и лукавое. И ныне да не когда прострет руку свою, и возмет от древа жизни, и снест, и жив будет во век». И изгна его Господь Бог из Рая сладости – делати землю, от неяже взят бысть.
Быт. III
В одной фантастической повести Гоголь рассказывает, как старый ростовщик, умирая, призвал к себе художника и неотступно просил его срисовать с себя портрет; когда работа уже началась, художник вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к тому, что делал, и к этому отвращению примешался какой-то страх. Ростовщик, однако, все следил за работой, какая-то тоска и беспокойство светились в его лице, – но, когда он увидел, что по крайней мере глаза окончены, в этом лице сверкнула радость. Художник отошел на несколько шагов, чтобы посмотреть на свою работу; но едва он взглянул на нее, как колена его задрожали: в глазах начатого портрета светилась жизнь, настоящая жизнь, та самая, которая уже потухала в его оригинале и каким-то тайным волшебством перенеслась в эту копию. Палитра и кисть выпали из его рук, и он с ужасом выбежал из комнаты. Через несколько часов ростовщик умер. Художник окончил жизнь в монастыре.
Этот рассказ почему-то невольно припомнился нам, когда мы задумали говорить о знаменитой легенде Достоевского. Сквозь всю фантастичность в нем как будто мелькает и какая-то правда, и, верно, она-то вывела его на свет сознания из ряда других полузабытых рассказов и связала мысль о нем с занимающим нас предметом. Не выразил ли в нем Гоголь некоторой тайны художественной души, быть может сознав ее в себе самом? Эта жизнь, перешедшая в создание, это тоскливое желание не умереть прежде, чем совершился такой переход, – все это как будто напоминает нам что-то главное в жизни самих художников, поэтов, композиторов. Только воплощаемое и воплощающий здесь разделены, и этим замаскирована скрытая аллегория. Соедините их – и вы получите изображение судьбы и личности всякого великого творческого дарования.
Там, «откуда не возвращался никто», есть, конечно, жизнь: но нам ничего не рассказано о ней, и, по всему вероятию, это жизнь какая-то совсем особенная, слишком абстрактная для наших живых желаний, несколько холодная и призрачная. Вот почему человек так прилепляется к земле, так боязливо не хочет отделиться от нее; и, так как это ранее или позже все-таки неизбежно, он делает все усилия, чтобы расставание с нею было не полное. Жажда бессмертия, земного бессмертия, есть самое удивительное и совершенно несомненное чувство в человеке. Не оттого ли мы так любим детей, трепещем за жизнь их более, нежели за свою, уже увядающую; и когда имеем радость дожить и до их детей – привязываемся к ним еще сильнее, чем к собственным. Даже в минуту совершенного сомнения относительно загробного существования мы находим здесь некоторое утешение: «Пусть мы умрем, но останутся дети наши, а после них – их дети»[1 - «Подросток», Ф. М. Достоевского. Изд. 3. СПб., 1882, стр. 454.], – говорим мы в своем сердце, прижимаясь к дорогой нам земле. Но это бессмертие, эта жизнь нашей крови после того, как мы станем горстью праха, слишком неполна: это какое-то разорванное существование, распределенное в бесчисленных поколениях, и в нем не сохраняется главного, что мы в себе любим, – нашей индивидуальности, цельной личности. Несравненно полнее существование, которое достигается в великих произведениях духа; в них создающий увековечивает свою личность со всеми своими особыми чертами, со всеми изгибами своего ума и тайнами своей совести. Порою он не хочет раскрыть какой-нибудь стороны своей души, и, однако, жажда в нем бессмертия, индивидуальной, особой от других жизни, так велика, что он скрывает, запрятывает среди прочего и все-таки оставляет в своих произведениях отражение этой стороны: проходят века – и нужная черта вскрывается, и встает полный образ того, кто уже не страшится более смутиться перед людьми. «Строй выше себе пирамиду, бедный человек», – говорит как будто полный этих ощущений Гоголь[2 - «Арабески», ч. 2. Жизнь.].
Во всяком случае, чувство радости, которое испытывается при этом созидании, служит хоть каким-нибудь просветом среди того сумрака, который обычно окружает душу великих поэтов, художников, композиторов. Так глубоко и так часто непреодолимо разъединенные с живым, окружающим их миром людей, их радостей и печалей, они чувствуют себя соединенными через века с иными поколениями людей, мысленно живут в их жизни, помогают им в труде их и радуются их радостям. Странная, несколько фантастическая жизнь, черты которой, однако, мы наблюдаем, вчитываясь во все замечательные биографии. Недаром покойный проф. Усов, натуралист, но и вместе знаток искусства, назвал мир его – «миром иллюзии»[3 - Cм.: «Воспоминания о воззрениях С. А. Усова на искусство» Н. Иванцова, в кн. III «Вопросы философии и психологии». М., 1890.]. Замечательно, что у каждого почти творца в сфере искусства мы находим один центр, изредка несколько, но всегда немного, около которых группируются все его создания: эти последние представляют собою как бы попытки высказать какую-то мучительную мысль, и, когда она наконец высказывается, – появляется создание, согретое высшею любовью творца своего и облитое немеркнущим светом для других, сердце и мысли которых влекутся к нему с неудержимою силой. Таков был у Гёте «Фауст», Девятая симфония у Бетховена, «Сикстинская Мадонна» у Рафаэля. Это высшие продукты психической деятельности, их любит человечество и знает, как то, к чему способно оно в лучшие свои минуты, которые, конечно, редки во всемирной истории, как редки и минуты особенного просветления в жизни каждого человека.
На одном из подобных созданий мы и хотим остановиться. Оно, однако, проникнуто особою мучительностью, как и все творчество избранного нами писателя, как и самая его личность. Это – «Легенда о Великом инквизиторе» покойного Достоевского. Как известно, она составляет только эпизод в последнем произведении его, «Братья Карамазовы», но связь ее с фабулою этого романа так слаба, что ее можно рассматривать как отдельное произведение. Но зато, вместо внешней связи, между романом и «Легендою» есть связь внутренняя: именно «Легенда» составляет как бы душу всего произведения, которое только группируется около нее, как вариации около своей темы; в ней схоронена заветная мысль писателя, без которой не был бы написан не только этот роман, но и многие другие произведения его: по крайней мере, не было бы в них всех самых лучших и высоких мест.
I
Еще в 1870 г. в письме к Ап. Н. Майкову от 25 марта Достоевский писал, между прочим, о замысле большого романа, который он обдумывал в течение последних двух лет и теперь хотел бы написать, пользуясь свободным временем. «Идея [этого романа], – говорил он в письме, – та самая, о которой я вам уже писал. Это будет мой последний роман. Объемом в „Войну и мир“, и идею вы бы похвалили, – сколько я, по крайней мере, соображаюсь с нашими прежними разговорами с вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отделены одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву[4 - Редактор журнала «Заря», приглашавший Достоевского написать к осенним месяцам этого года какую-нибудь повесть.]: тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть: „Житие великого грешника“, но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие. Герой в продолжение жизни – то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. Вторая повесть будет происходить вся в монастыре. На эту вторую повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут, наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главною фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре на покое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный), и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (вы ведь знаете характер и все лицо Тихона). Тут же, в монастыре, посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не посидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, напр. за границей, на французском языке, брошюру, – очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. К Чаадаеву могут приехать гости и другие, Белинский, напр., Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубова, и инок Парфений (в этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства). Но главное – Тихон и мальчик. Ради Бога, не передавайте никому содержание этой второй части… Я вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня – сокровище. Не говорите же про Тихона. Я написал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось, выведу величавую, положительную (курсив Достоевского), святую фигуру. Это уж не Констанжогло-с и не немец в Обломове[5 - «Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч.». Приписка Достоевского к письму.]; и не Лопуховы, не Рахметовы[6 - Два последние – герои романа «Что делать?».]. Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для второго романа, для монастыря – я должен быть в России»[7 - См.: «Биография и письма». СПб., 1883, отд. 2, стр. 233–234.].
Кто не узнает в торопливых и разбросанных строках этого письма первый очерк «Братьев Карамазовых», с его старцем Зосимою и с чистым образом Алеши (очевидно, разделенная фигура Тихона Задонского), с развитым и развращенным, правда уже не мальчиком, но молодым человеком Иваном Карамазовым, с поездкою в монастырь (помещик Миусов, очевидно, – переделанная фигура Чаадаева), со сценами монастырской жизни и пр. Но всегдашняя нужда расстроила предположения Достоевского. Связываемый срочными обязательствами, в которые он входил с редакциями и книгопродавцами, он принужден был усиленно работать, и хотя из написанного им за это время было много прекрасного, однако все это не было осуществлением его задушевной мечты и уже созревшего плана. Очевидно, он все дожидался досуга, который дал бы возможность обрабатывать неторопливо. Кроме денежной нужды, этому чрезвычайно препятствовала и его впечатлительность: он не мог, хотя на время, закрыть глаза на текущие дела, тревоги и вопросы нашей жизни и литературы. С 1876 г. он начал выпускать «Дневник писателя», создав им новую, своеобразную и прекрасную форму литературной деятельности, которой в будущем, во все тревожные эпохи, вероятно, еще суждено будет играть великую роль. Чрезвычайный успех этого издания, можно было опасаться, совершенно не даст ему возможности сосредоточиться на какой-нибудь цельной работе, и, как многие планы, замысел большого романа, уже обдуманного несколько лет назад, мало-помалу заглохнет, самый энтузиазм к нему рассеется.
Но судьба, так часто злая извне к великим людям, всегда бережно обходится с тем, что есть в них внутреннего, глубокого и задушевного. Мысль, которой предстоит жизнь, не умирает с носителями своими, даже когда смерть застигает их неожиданно или случайно. Хотя бы перед самым наступлением ее, повинуясь какому-то безотчетному и неудержимому влечению, они отрываются от всего побочного и делают то, что нужно, – самое главное в своей жизни.
Беспорядочный, страстный, перед тысячами ожидающих глаз[8 - Об успехе «Дневника писателя» см. цифровые данные в его «Биографии и письмах», отд. 1, стр. 300.], Достоевский вдруг умолкает и замыкается в себя, «чтобы заняться одною художественною работой»[9 - См.: «Дневник писателя» за 1877 г., декабрь: «К читателям».]; он успокаивает читателей «Дневника», что это не более как на один год, ему необходимый для работы, после чего он вновь возвратится к ежемесячной беседе с ними. Но предчувствию, выраженному семь лет назад[10 - См. выше, в письме к Aп. H. Майкову.], суждено было сбыться: предпринимаемая художническая работа стала действительно его «последним романом», и даже последним неоконченным литературным трудом. В 1880 и 1881 годах было выпущено только по одному нумеру «Дневника» – в минуту особенного оживления[11 - По поводу Пушкинского праздника единственный № за 1880 г., с «Речью о Пушкине» и объяснениями к ней.] и в промежуток отдыха между первым большим отделом романа и его вторым отделом, который должен был «представлять собою почти самостоятельное целое». В этот краткий промежуток отдыха ему суждено было окончить свои дни. Последние томы романа, «обширного, как „Война и мир“», не были написаны. Четырнадцать книг, составляющие четыре части (с эпилогом) «Братьев Карамазовых», представляют собою выполнение, уже доведенное до конца, первого отдела обширной художественной эпопеи. Вот что пишет он об общем плане ее в предисловии к «Братьям Карамазовым»: «Хотя жизнеописание (героя, которое служит содержанием романа) у меня одно, но романов два. Главный роман – второй: это деятельность моего героя уже в наше время, или в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тридцать лет назад – и это почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Обойтись мне без этого первого романа невозможно, потому что многое во втором романе стало бы непонятным».
Очевидно, даже внешний план долго вынашиваемого произведения был сохранен в «Братьях Карамазовых»; и все нужное к его выполнению было также сделано теперь: в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину пустынь, чтобы обновить свои воспоминания о монастырской жизни. В старце монастыря этого, отце Амвросии, нравственно-религиозный авторитет которого и до сих пор руководит жизнью тысяч людей, он, вероятно, нашел несколько драгоценных и живых черт для задуманного им положительного образа. Но первоначальный план подвергся некоторым изменениям и принял в себя много дополнений. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своем романе, не мог стать центральным лицом в нем, как он первоначально думал это сделать: установившийся и неподвижный, этот образ мог быть очерчен, но его нельзя было ввести в движение передаваемых событий. Вот почему старец Зосима только показывается в «Братьях Карамазовых»: он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алешу Карамазова, и умирает. Вместо него центральным лицом всего сложного произведения должен был стать этот последний[12 - Это высказано положительно и в предисловии к «Братьям Карамазовым».]. Нравственный образ Алеши в высшей степени замечателен по той обрисовке, которая ему придана. Видеть в нем только повторение типа кн. Л. Н. Мышкина (герой «Идиота») было бы грубою ошибкой. Кн. Мышкин, так же, как и Алеша, чистый и безупречный, чужд внутреннего движения, он лишен страстей вследствие своей болезненной природы, ни к чему не стремится, ничего не ищет осуществить; он только наблюдает жизнь, но не участвует в ней. Таким образом, пассивность есть его отличительная черта; напротив, натура Алеши прежде всего деятельна, и одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения[13 - См. его думы и слова после кончины старца Зосимы.], даже чувственные страсти[14 - Один разговор с Ракитиным, где он, «девственник», признается, что ему слишком понятны «карамазовские бури».] и способность к гневу[15 - Разговор с братом Иваном о страданиях детей.] – все есть в этом полном человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое понимание разностороннего в человеческой природе: он как-то близок, интимен со всяким человеком, с которым ему приходится вступать в сношения. Брат Иван и Ракитин, развращенный старик, его отец, и мальчик Коля Красоткин – одинаково доступны ему. Но, вникая в чужую внутреннюю жизнь, он внутри себя всегда остается тверд и самостоятелен. В нем есть неразрушимое ядро, от которого идут всепроницающие нити, способные завязаться, бороться и побеждать внутреннее содержание других людей. И между тем этот человек, так уже сильный, является перед нами еще только отроком – образ удивительный, впервые показавшийся в нашей литературе. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) «Братьев Карамазовых» унес от нас многие откровения человеческой души, что там были бы слова, действительно проясняющие путь жизни. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую мы имеем перед собой, Алеша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка вставляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовывающие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и верно, что и недоконченный образ уже светится перед нами настоящею жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного реформатора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться, – явление единственное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать к нему аналогии, мы нашли бы ее не в литературе, но в живописи нашей. Это – фигура Иисуса в известной картине Иванова: так же далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе стоящих лиц и, однако, уже центральная и господствующая над ними. Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произносится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением в жизни; и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звездой этого возрождения.
Но если Алеша Карамазов только обрисован в романе, но не высказался в нем, то его брат Иван и обрисован, и высказался («Легенда об инквизиторе»). Таким образом, вне предположений Достоевского, не успевшего окончить своего романа, эта фигура и стала центральною во всем его произведении, т. е. собственно она осталась таковою, потому что другой и его заслоняющей фигуре (Алеши) не пришлось выступить и, без сомнения, вступить в нравственную и идейную борьбу с своим старшим братом. Таким образом, «Братья Карамазовы» есть действительно еще не роман, в нем даже не началось действие: это только пролог к нему, без которого «последующее было бы непонятно». Но, судя по прологу, целое должно было стать таким мощным произведением, которому подобное трудно назвать во всемирной литературе: только Достоевский, способный совмещать в себе «обе бездны – бездну вверху и бездну внизу», мог написать не смешную пародию, но действительную и серьезную трагедию этой борьбы, которая уже тысячелетия раздирает человеческую душу, – борьбы между отрицанием жизни и ее утверждением, между растлением человеческой совести и ее просветлением. Он только, переживший эту борьбу и в чистом энтузиазме, с которым создавал «Бедных людей»[16 - См. об этом воспоминании в «Дневн. писат.» за январь 1877 г.], и в шумном кружке Петрашевского, и в дебрях Сибири, среди каторжников, и в долгом уединении в Европе, мог сказать нам одинаково сильно и «pro», и «contra»[17 - Это название носят две центральные книги в «Братьях Карамазовых».]; без лицемерия «pro» и без суетного тщеславия «contra».
По отношению к характерам, которые выведены в «Братьях Карамазовых», характеры его предыдущих романов можно рассматривать как предуготовительные: Иван Карамазов есть только последний и самый полный выразитель того типа, который, колеблясь то в одну, то в другую сторону, уже и ранее рисовался перед нами то как Раскольников и Свидригайлов («Преступл. и наказ.»), то как Николай Ставрогин («Бесы»), отчасти как Версилов («Подросток»); Алеша Карамазов имеет свой прототип в кн. Мышкине («Идиот») и отчасти в лице, от имени которого ведется рассказ в романе «Униженные и оскорбленные»; отец их, «с профилем римского патриция времен упадка», рождающий детей и бросающий их, любитель потолковать о бытии Божием «за коньячком», но главное – любитель надругаться над всем, что интимно и дорого человеку, есть завершение типа Свидригайлова и старого князя Вальковского («Униженные и оскорбленные»). Только Дмитрий Карамазов, нелепый и в основе все-таки благородный, смесь добра и зла, но не глубокого, является новым лицом; кажется, один капитан Лебядкин («Бесы»), вечно уторопленный и возбужденный, может еще хоть несколько, конечно извне только, напомнить его. Новым лицом является и четвертый брат, Смердяков, это незаконное порождение Федора Павловича и Лизаветы «смердящей», какой-то обрывок человеческого существа, духовное Квазимодо, синтез всего лакейского, что есть в человеческом уме и в человеческом сердце. Но эта повторяемость главных характеров не только не вредит достоинству «Братьев Карамазовых», но и возвышает их интерес: Достоевский есть прежде всего психолог, он не изображает нам быт, в котором мы ищем все нового и нового, но только душу человеческую с ее неуловимыми изгибами и переходами, и в них мы прежде всего следим за преемственностью, желаем знать, во что разрешается, чем заканчивается то или иное течение мыслей, тот или иной душевный строй. И с этой точки зрения, как завершающее произведение, «Братья Карамазовы» имеют неисчерпаемый интерес. Но чтобы понять его вполне, нужно сказать несколько слов о том общем смысле, который имеет деятельность Достоевского.
II
Известен взгляд[18 - Он подробно развит, между прочим, у Ап. Григорьева в статье «Взгляд на современную изящную словесность и ее исходная историческая точка». См.: Сочинения, стр. 8–20.] по которому вся наша новейшая литература исходит из Гоголя; было бы правильнее сказать, что она вся в своем целом явилась отрицанием Гоголя, борьбою против него. Она вытекает из него, если смотреть на дело с внешней стороны, сравнивать приемы художественного творчества, его формы и предметы. Так же как и Гоголь, весь ряд последующих писателей, Тургенев, Достоевский, Островский, Гончаров, Л. Толстой, имеют дело только с действительною жизнью, а не с созданною в воображении («Цыганы», «Мцыри»), с положениями, в которых мы все бываем, с отношениями, в которые мы все входим. Но если посмотреть на дело с внутренней стороны, если сравнить по содержанию творчество Гоголя с творчеством его мнимых преемников, то нельзя не увидеть между ними диаметральной противоположности. Правда, взор его и их был одинаково устремлен на жизнь: но то, что они увидели в ней и изобразили, не имеет ничего общего с тем, что видел и изображал он. Не составляет ли тонкое понимание внутренних движений человека самой резкой, постоянной и отличительной черты всех новых наших писателей? За действиями, за положениями, за отношениями мы повсюду у них видим человеческую душу как скрытого двигателя и творца всех видимых фактов. Ее волнения, ее страсти, ее падения и просветления – вот что составляет предмет их постоянного внимания. Оттого столько задумчивого в их созданиях; за это мы так любим их и считаем постоянное чтение их произведений за средство лучшего очеловечивающего воспитания. Теперь если, сосредоточив как на главном на этой особенности свое внимание, мы обратимся к Гоголю, то почувствуем тотчас же страшный недостаток в его творчестве этой самой черты – только ее одной и только у него одного. Свое главное произведение он назвал «Мертвые души» и, вне всякого предвидения, выразил в этом названии великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого. Он был гениальный живописец внешних форм и изображению их, к чему одному был способен, придал каким-то волшебством такую жизненность, почти скульптурность, что никто не заметил, как за этими формами ничего, в сущности, не скрывается, нет никакой души, нет того, кто бы носил их. Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти? И если, конечно, – нет, то чем же эти фигуры, которые он вывел перед нами как своих героев, могли отозваться на эти великие моменты, почувствовать эти общие страсти? Что было за одеждою, которую одну мы видим на них, такого, что могло бы хоть когда-нибудь по-человечески порадоваться, пожалеть, возненавидеть? И спрашивается, если они не были способны ни к любви, ни к глубокой ненависти, ни к страху, ни к достоинству, то для чего же, в конце концов, они трудились и приобретали, куда-то ездили и что-то переносили? Гоголь выводит однажды детей, – и эти дети уже такие же безобразные, как и их отцы, так же лишь смешные и осмеиваемые, как и они, фигуры. Раз или два он описывает, как пробуждается любовь в человеке, – и мы с изумлением видим, что единственное, что зажигает ее, есть простая физическая красота, красота женского тела для мужчины (Андрей Бульба и полячка), которая действует мгновенно и за первым мгновением о которой уже нечего рассказывать, нет всех тех чувств и слов, которые мы слышим в заунывных песнях нашего народа, в греческой антологии, в германских сказаниях и повсюду на всей земле, где любят и страдают, а не наслаждаются только телом. Неужели же это был сон для всего человечества, который разоблачил Гоголь, сорвав наконец грезы и показав действительность? И не правильнее ли думать, что не человечество грезило и он один видел правду, но, напротив, оно чувствовало и знало правду, которую и отразило в поэзии всех народов на протяжении тысячелетий, а он сам грезил и свои больные грезы рассказал нам как действительность.
«И почему я должен пропасть червем? – говорит его герой в трудную минуту, оборвавшись в таможне. – И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю? И что скажут потом мои дети? „Вот, – скажут, – отец – скотина: не оставил нам никакого состояния“».
«Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, известно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало»[19 - «Мертвые души». Изд. 1873 г., стр. 258.].
Какой ужас, какое отчаяние, и неужели это правда? Разве мы не видели на деревенских и городских погостах старух, которые сидят и плачут над могилами своих стариков, хотя они оставили их в рубище, в котором и сами жили? Разве, видя отходящим своего отца, где-нибудь дети подходят к матери и спрашивают: «Остаемся ли мы с состоянием»? Разве ложь и выдумка вся несравненная поэзия наших народных причитаний[20 - См. «Причитания северного края», собранные г. Барсовым. «Плач Ярославны», самое поэтическое место в «Слове», есть, очевидно, перенесенное сюда народное причитание. Сравни язык, образы, обороты речи.], нисколько не уступающая поэзия «Слова о полку Игоря»? Какие образы, какая задушевная грусть, какие надежды и воспоминания! И каким тусклым, безжизненным взглядом нужно было взглянуть на действительность, чтобы просмотреть все это, не услышать этих звуков, не задуматься над этими рыданиями. Мертвым взглядом посмотрел Гоголь на жизнь, и мертвые души только увидал он в ней. Вовсе не отразил действительность он в своих произведениях, но только с изумительным мастерством нарисовал ряд карикатур на нее: от этого-то и запоминаются они так, как не могут запомниться никакие живые образы. Рассмотрите ряд лучших портретов с людей, действительных в жизни, одетых плотью и кровью, – и вы редкий из них запомните; взгляните на очень хорошую карикатуру, – и еще много времени спустя, даже проснувшись ночью, вы вспомните ее и рассмеетесь. В первых есть смешение черт различных, и добрых и злых наклонностей, и, пересекаясь друг с другом, они взаимно смягчают одна другую, – ничего яркого и резкого не поражает вас в них; в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только ее – и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь.
И здесь лежит объяснение всей его личности и судьбы. Признавая его гений, мы с изумлением останавливаемся над ним, и когда спрашиваем себя: почему он так не похож на всех[21 - В «Выбранных местах из переписки с друзьями» можно, в сущности, найти все данные для определения внутреннего процесса его творчества. Вот одно из ясных и точных мест: «Я уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться… Тебе объяснится также и то, почему я не выставлял до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь постоянством и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое». («Четыре письма к разным лицам по поводу „Мертвых душ“», письмо третье.) Здесь довольно ясно выражен субъективный способ создания всех образов его произведений: они суть выдавленные наружу качества своей души, о срисовке их с чего-либо внешнего даже и не упоминается. Так же определяется и самый процесс создания: берется единичный недостаток, сущность которого хорошо известна из субъективной жизни, и на него пишется иллюстрация или иллюстрация «с моралью». Ясно, что уже каждая черта этого образа отражает в себе по-своему этот только недостаток, ибо иной цели рисуемый образ и не имеет. Это и есть сущность карикатуры.], что делает его особенным, то невольно начинаем думать, что это особенное – не избыток в нем человеческого существа, не полнота сил сверх нормальных границ нашей природы, но, напротив, глубокий и страшный изъян в этой природе, недостаток того, что у всех есть, чего никто не лишен. Он был до такой степени уединен в своей душе, что не мог коснуться ею никакой иной души: и вот отчего так почувствовал всю скульптурность наружных форм, движений, обликов, положений. О нем, друге Пушкина, современнике Грановского и Белинского, о члене славянофильского кружка в лучшую, самую чистую пору его существования, рассказывают, что «он не мог найти положительного образа для своих созданий»; и мы сами слышим у него жгучие, слишком «зримые» слезы по чем-то неосуществимом, по каком-то будто бы «идеале». Не ошибка ли тут в слове и, подставив нужное, не разгадаем ли мы всей его тайны? Не идеала не мог он найти и выразить; он, великий художник форм, сгорел от бессильного желания вложить хоть в одну из них какую-нибудь живую душу. И когда не мог все-таки преодолеть неудержимой потребности, – чудовищные фантасмагории показались в его произведениях, противоестественная Улинька и какой-то грек Констанжогло, не похожие ни на сон, ни на действительность. И он сгорел в бессильной жажде прикоснуться к человеческой душе; что-то неясное говорят о его последних днях, о каком-то безумии, о страшных муках раскаяния, о посте и голодной смерти[22 - См. о нем в «Литературных воспоминаниях» И. С. Тургенева («какое умное и какое больное существо») и также Ф. И. Буслаева: «Мои досуги». М., 1886, т. 2, стр. 235–239, с историческими словами Гоголя, обращенными (за несколько дней до смерти) к комику Щепкину: «Оставайтесь всегда таким».]. Какой урок, прошедший в нашей истории, которого мы не поняли! Гениальный художник всю свою жизнь изображал человека и не мог изобразить его души. И он сказал нам, что этой души нет, и, рисуя мертвые фигуры, делал это с таким искусством, что мы в самом деле на несколько десятилетий поверили, что было целое поколение ходячих мертвецов, – и мы возненавидели это поколение, мы не пожалели о них всяких слов, которые в силах сказать человек только о бездушных существах. Но он, виновник этого обмана, понес кару, которая для нас еще в будущем. Он умер жертвою недостатка своей природы, – и образ аскета, жгущего свои сочинения, есть последний, который оставил он от всей странной, столь необыкновенной своей жизни. «Мне отмщение, и Аз воздам» – как будто слышатся эти слова из-за треска камина, в который гениальный безумец бросает свою гениальную и преступную клевету на человеческую природу.
Что не сознается людьми, то иногда чувствуется ими с тем большею силою. Вся литература наша после Гоголя обратилась к проникновению в человеческое существо; и не отсюда ли, из этой силы противодействия, вытекло то, что ни в какое время и ни у какого народа все тайники человеческой души не были так глубоко вскрыты, как это совершилось в последние десятилетия у всех нас на глазах? Нет ничего поразительнее той перемены, которую испытываешь, переходя от Гоголя к какому-нибудь из новых писателей: как будто от кладбища мертвецов переходишь в цветущий сад, где все полно звуков и красок, сияния солнца и жизни природы. Мы впервые слышим человеческие голоса, видим гнев и радость на человеческих лицах, знаем, как смешны иногда они бывают: и все-таки любим их, потому что чувствуем, что они люди и, следовательно, братья нам. Вот в ряде маленьких рассказов Тургенева те же деревни, поля и дороги, по которым, может быть, проезжал и герой «Мертвых душ», и те же мелкие уездные города, где он заключал свои купчие крепости. Но как живет все это у него, дышит и шевелится, наслаждается и любит. Те же мужики перед нами, но это уже не несколько идиотов, которые, чтобы разнять запутавшихся лошадей, неизвестно для чего влезают на них и колотят их дубинами по спинам; мы видим дворовых и крепостных, но это не вечно пахнущий Петрушка и не Селифан, о котором мы знаем только, что он всегда бывал пьян. Какое разнообразие характеров, угрюмых и светлых, исполненных практической заботы или тонкой поэзии. Всматриваясь в черты их, живые и индивидуальные, мы начинаем понимать свою историю, самих себя, всю окружающую жизнь, – что так широко разрослась из недр этого народа. Какой чудный детский мир развертывается перед нами в грезах Обломова, в воспоминаниях Неточки Незвановой, в «Детстве и отрочестве», в сценах «Войны и мира», у заботливой Долли в «Анне Карениной»: и неужели все это менее действительность, чем Алкид и Фемистоклюс, эти жалкие куклы, злая издевка над теми, над кем никто не издевался? А мысли Болконского на Аустерлицком поле, молитвы сестры его, тревоги Раскольникова и весь этот сложный, разнообразный, уходящий в безграничную даль мир идей, характеров, положений, который раскрылся перед нами в последние десятилетия, – что? скажем мы о нем в отношении к Гоголю? Каким словом определим его историческое значение? Не скажем ли, что это есть раскрытие жизни, которая умерла в нем, восстановление достоинства в человеке, которое он у него отнял?
III
Достоевский прежде всех других заговорил о жизни, которая может биться под самыми душными формами, о человеческом достоинстве, которое сохраняется при самых невозможных условиях. В крошечном и прелестном рассказе «Честный вор»[23 - Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Изд. 1882 г., т. 2, стр. 463 и след. Ниже указывая томы, мы всегда будем разуметь издание этого года, первое посмертное и до сих пор лучшее.] мы видим две фигуры из тех, мимо которых ежедневно проходим, не замечая их. Бедный угол, простые речи, случай, какие слишком часты, – все это, как луч из какого-то далекого мира, падает на нашу душу: мы забываем на минуту свои мысли и желания и внимательно присматриваемся к этому лучу. Образы, которые мы знали раньше только снаружи, просвечивают перед нами, и мы видим сердце, которое в них бьется. Несколько минут прошло, луч снова исчез, мы опять возвращаемся к обычному течению своих идей, но что-то уже переменилось в них, что-то стало в них невозможно более и что-то стало навсегда неизбежно: неизбежна – тревога за человеческое существо, как бы далеко оно ни отстояло от нас, невозможно – презрение к человеку, где бы мы его ни встретили. Среди всей мудрости, которую мы впитываем в себя, на всей высоте своих понятий, мы вдруг иногда останавливаемся и спрашиваем: так же ли чист наш внутренний мир, так же ли тепло в нас сердце, как в тех убогих и бедных людях, которых мы на минуту видели и навсегда запомнили? И слова апостола: «Пусть языком твоим говорят ангелы, но если в словах твоих не будет любви, то они будут медью звенящей и кимвалом бряцающим» – становятся ясны для нас, как никогда; мы понимаем, что в них дано мерило добра и зла, с которым мы никогда не погибнем и которое приложимо к всякой мудрости.
Кто пробуждает в нас понимание, тот возбуждает в нас и любовь. Вслед за автором мы идем и спускаемся в тусклый мир человеческого существования, которое было до сих пор скрыто от нас, и вместе с ним рассматриваем живые существа, которые там копошатся. «Вы думали, что они перестали страдать, что они ничего более не чувствуют, – говорит он нам, – прислушайтесь к языку их, всмотритесь в их лица: разве вы сами умеете так чувствовать, разве в трудную минуту вы встречали в окружающих такое участие, каким они согревают друг друга в этом мраке и в этом холоде? И посмотрите, какая вера в них живет, как далеки они от слабых жалоб, как мало обвиняют и терпеливо несут свой крест. Вы думали, что они только трудятся и питаются, предоставив мысли и желания вам? Нет, в них живут все ваши страсти, и они понимают многое, что непонятно вам. Это – люди, совершенно такие же люди, как вы, многое сохранившие, что вы потеряли, и немногое не успевшие приобрести, что вы приобрели. Вы видели их: теперь ступайте и, если можете, забудьте этот мир».
И когда вы в нерешительности останавливаетесь, он смотрит на вас проницающим взглядом и продолжает: «Отчего вы не идете, что удерживает вас? Помните же то, что в вас пробудилось, и не забывайте никогда в ваших соображениях: совесть — она живет и во всех людях, и также в этих. Вы видите не руки, которые устали, не ноги, которым холодно, не желудки, которые пусты. Вы видите перед собой миллионы человеческих душ и, когда вздумаете, что их нужно только согреть, накормить и успокоить, – вспомните, как забыли вы теперь о сне и пище, которые вас ожидают. Я сказал все. Теперь идите и занимайтесь вашей философией или древностями. Я же останусь с ними и, если не сумею разделить их труд, – разделю их горести и когда-нибудь, быть может, порадуюсь их радости».
Сквозь философские и исторические интересы, которые вновь вас окружают, сквозь блеск всего мира красоты, который приковывает вас в искусствах и литературе, вы с тех пор чувствуете иногда что-то тревожное, и вам припоминается странный человек, который однажды завел вас в мир, так непохожий на все, что вы знали, и остался там, сказав свои угрюмые слова. Силен ли он и что он там сделает, над чем пронеслись тысячелетия и улеглась наша цивилизация? В свободные минуты вы берете томы его рассказов, чтобы внимательнее всмотреться в его лицо, попробовать силу его мышц и крепость его мысли.