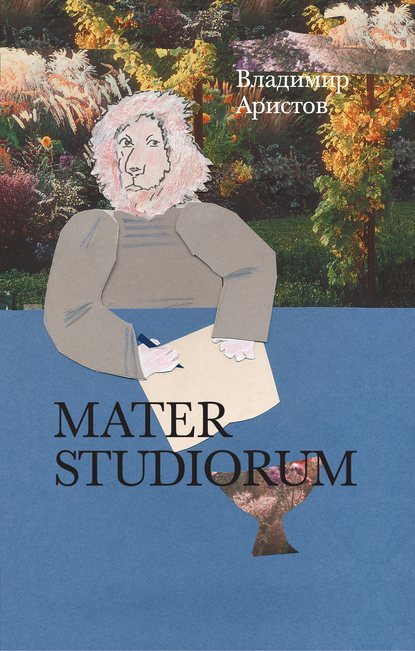По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Mater Studiorum
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Mater Studiorum
Владимир Владимирович Аристов
В прозе В. Аристова за поверхностным слоем обыденности обнаруживаются иные, скрытые формы существования. По-своему преломляя традицию немецкого интеллектуального романа, идущую от Гете и йенских романтиков, автор создает своего рода «роман воспитания», синтезирующий великие мифы романтизма и модернизма с нелинейностью современной картины мира. Главный герой, философ и профессор Высших женских курсов, подобно другим странствующим персонажам, отправляется на поиски нового интегрального знания, способного преобразить мир. Он убежден, что именно «женственность» способна помочь преодолеть глубочайший кризис, в который повергла мир «эпоха мужской культуры». Становлению героя, происходящему в параллельных пространствах, то ли воображаемых, то ли подлинных, сопутствует непременное в этом случае воплощение «вечной женственности» – персонаж, ведущий героя по лестнице инициации. За внешним сюжетом открываются все более и более глубинные слои взаимодействия «я» и мироздания. Владимир Аристов – поэт, прозаик, эссеист, доктор физико-математических наук. Лауреат премии Андрея Белого.
Владимир Аристов
Mater Studiorum
© В. Аристов, 2019,
© М. Кузичева, рисунок на обложке, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
Repetitio est mater studiorum.[1 - Повторение – мать учения]
I
1
Лишь только приближался сентябрь, он опять начинал чувствовать тревогу и печаль, и даже тоску. Опять те же несбыточные сны приходили, все те же неизбываемые, незабываемые сны. И упрек, что он не все сделал, что мог. Вернее, то, что он должен был совершить и не совершил. Он опять представлял 1-е сентября – все ту же умножаемую свою с каждым годом жажду и зависть, которую он испытывал на опустевших утренних улицах, когда молодые люди все уже скрылись за стенами школ, за дверями школы или института. Только он один будет вне. «Что тебе надо еще? – спрашивал он сам себя, – какого еще образования? У тебя же оно есть, уже есть одно». Однако не мог отбросить свое чувство осенней вины. Хотя раньше чувствовал всегда радость избавления от повинностей экзаменов, от постоянной угрозы решающего выбора. Но все переменилось в последние годы. Он увидел себя со стороны. Однажды увидел себя в зеркале, когда он не знал, что за ним наблюдают. И нелегко ему было теперь оставаться прежним.
Сны эти были об одном и том же: словно он в конце семестра видит, как много несданных, незачтенных предметов, дисциплин у него, но с легкомыслием продолжает не столько учиться, сколько проматывать время. Надвигается неизбежная развязка, но тут он выскальзывал в явь. Однако чувство какой-то неизбытой, незачтенной вины не уходило. Сон намекал ему на что-то важное, что он должен был еще совершить. И это важное можно было найти только там, откуда он давно уже ушел: из школы, из университета, которые он закончил уже столько лет назад. Но никакие ученые степени – их у него было уже две – не меняли его состояния вины и тихого, но властного указания.
Сам он хотел учиться, захотел, просто возжаждал, почувствовал прежний голод. Но ему хотелось не просто повысить или «возвысить» знание, но начинать, начать словно бы заново. Был он готов к этому – обновлением и молодостью веяло из школ. Но переступить порог университета или школы в качестве преподающего страшился. Представить себя в роли учителя, преподавателя не мог. Потому что начавший учить, – так он думал, – преподавать то, что преподавали ему самому, начинает умирать. Ведь тем самым он показывает, что уже выполнил свою миссию здесь – вот он наполнился знаниями, а теперь просто их проливает, передавая следующему безымянному ученику. Поэтому с таким ужасом он услышал предложение своего друга – как раз в конце августа прошлого года, – настоятельную просьбу того начать преподавать в новом университете. Вернее, сам гуманитарный университет был не такой уж новый, но там должны были возобновиться, в который уж раз, Высшие женские курсы, и именно туда, полагал друг, лежит его дорога учительская. «Новое сейчас именно женское, не понимает это лишь осел», – говорил его друг, тайное имя которого было, впрочем, как раз Ослик (или Ойслик для совсем уж узкого круга друзей). Не потому что он был глуп, а как раз из-за своей склонности к неподвижным и долгим размышлениям. Он сказал Ослику, что пока не готов. Что ему надо обдумать все и подготовиться. Но причина истинная была в другом: он понял, что не может идти преподавать, не учась сам. Потому что, не начав заново каждодневно наполняться, он будет лишь иссякать. Не видел он выхода из такого безвыходного положения, пока среди года не осознал, что может разрешить такую антиномию, или дихотомию единственным образом: стать и учеником, и учителем одновременно. Тогда он сможет вернуться в молодость и вернуть себе молодость обновлением знания. И удержать их в равновесии на своих же руках. Тогда его присутствие в создающемся университете будет оправданно.
Так – он себя увидел сейчас в зеркале, где царила темная померкшая роза – оставшаяся со дня его рожденья – значит, розы рождает еще здешняя городская земля – так же как год назад в августе, когда он все это неясно еще обдумывал, – также перед зеркалом сидела и она, – он видел ее со спины, ее силуэт, но лицо свое в зеркале она заслоняла для него своим затылком, – многократно повторяя свое отражение, приближаясь и отклоняясь. Этот год – он сам называл его подготовительным, словно он должен был заново подготовиться к школе – пусть даже высшей – был посвящен непрерывным занятиям – его как преподавателя, но и как будущего студента, хотя состоится ли начинание, было неясно. Кроме того, он на всякий случай приобрел дополнительный аттестат зрелости – на лестнице перехода в метро на «Новокузнецкой». Собственно, он никого не обманывал, так он себе внушал, – просто он восстановил по памяти свой же аттестат, который уже наверняка сгинул и сгнил в архивах университета, который он давно закончил. Скрупулезно он восстановил все отметки со всеми болезненными отметинами памяти, – лишь год окончания сдвинул на 14 лет позже, было ему сейчас 42, а при его постоянной игре цифровыми соответствиями хотелось ему вернуться в хорошее четное число, и он выбрал 28, полагая, что при нынешней его моложавости и при гримерных способностях некоторых его друзей – были у него и такие – он сможет (почаще затаиваясь в тень), выдать себя за великовозрастного, но все же студента, который вот вдруг решился и поступил – в первый же набор – на эти самые заманчивые Высшие женские курсы, возрождавшиеся который уж раз. Куда принимали, понятно, в основном лиц женского пола, но все же для расцвечивания – так ему сказал Ослик, – предполагалось внедрить в каждую группу и несколько лиц пола противоположного. Именно там надеялся он затеряться в толпе замкнутых на себе юных молодых женских лиц, которые не будут так уж пристально вглядываться в мужское лицо, не будут слишком придирчивыми, будут довольны и тем малым, и, может быть, жалким, что в его лице им отпустила учебная судьба. Все внимание всех будет уделено, несомненно, женскому контингенту, а на него будут только изредка обращать внимание. Не то что видя в нем подсадную утку, но все же дистанцируясь, что, в общем-то, хорошо для него.
В себе он чувствовал не просто стремление к умножению знания, – непрерывно читать и расти над собой входило в его круг повседневных обязанностей как философа по профессии (сомнительной профессии, конечно). Здесь было что-то более глубокое, чем желание получить второе, третье, невесть какое, высшее или сверхвысшее образование. И не только тоска об уходящей, скрывающейся за учебными дверями собственной молодости. Во всем он чувствовал разлитый, непроявленный упрек, смысл которого ему был неясен, но неуклонен.
Тот сон не был в точности повторяющимся, нет, это были весьма вольные вариации на тему, внешний смысл которой был понятен, но скрытый призыв ускользал. Но всегда то был сон о невыполненном задании. Вот он уже на старшем курсе какого-то (варианты были различными) весьма сложного вуза, но он не посещает цикл лекций или семинаров, правда, непонятно по какой причине, – ничто, казалось бы, не должно мешать ему присутствовать там, если он так переживает. Никакие внешние жизненные обстоятельства не преследовали его и не являлись препятствием. Но все же он сознавал, с каждой неделей неизбежней – а во сне проходили иногда буквально месяцы, – что он глухо приближается к финалу, – неотвратимо его путь учебы должен был прерваться. В таком сне ему виделось указание на то, что он чего-то важного в жизни не понял или не совершил. Он просыпался всегда с полным убеждением, что все произошло как в его сне и что ему опять надо начинать заново, и лишь после долгого самоубеждения, где присутствовали и логические доводы, чуть ли не предъявление себе диплома, – ему удавалось уверить себя, что все в порядке, ему не надо начинать заново учиться.
И он завидовал всем идущим в школы, особенно первоклассникам, но он не знал, куда бы ему сильнее хотелось устремиться: за школьниками или студентами, словно ему хотелось войти сразу в несколько классов и аудиторий, – его присутствие только в одной комнате не успокоит его жажду, а только усилит разочарование. Он начинал думать, что избавиться от навязчивого и, в общем-то, мучительного сна (хотя почему так уж надо избавляться от таких снов-упреков, представляющих собой пробуждение совести или вины во сне, – непонятно) можно лишь одним: действительно начать учиться заново. В буквальном смысле. Стать первоклассником (не второгодником, но во второй раз попробовать войти в ту же жизнь, в тот же, хотя и другой уже класс) или первокурсником. Пойти на унижение и самоумаление. Что совершить буквально представлялось невозможным, но мысленно он был к этому уже готов. Взглянуть на мир новыми глазами ребенка-дошкольника, которому сразу же начинают внушать небывалые истины, но ты взрослый внутри такого ребенка будешь сознавать, что все не так просто или вообще не так, но ты умалишь себя, ты заставишь писать себя под диктовку, хотя, конечно, это будет совсем не то, что тридцать-сорок лет назад. Все же истины немного изменились. Изменилась форма, сама форма (ему хотелось сказать «униформа») школьников изменилась. Но он понимал глупость своих рассуждений и чувствовал красноту стыда на лице, хотя понимал, что не видит себя и что «краснота» – такой же вымысел и заемное слово, как и его мысли о желании пойти в первый класс. «Подобный подвиг унижения (или уничижения) не для меня. Но можно попытаться стать молодым студентом, – в свои сорок два я выгляжу достаточно моложаво и даже молодо. Никто, конечно, за двадцатилетнего меня не примет, но при надлежащем гриме двадцать восемь лет я смогу себе дать. Такого вот нового студента, прошедшего уже сложный жизненный путь (даже если не говорить, легко представить, какой) и выглядящего старше своих двадцати восьми лет. Но пришедшего в университет по наивности. Полагая, что знания что-нибудь значат. А на самом деле совсем за другим пришедшего сюда, – чтобы в свои двадцать восемь не находиться в страшное первое сентябрьское утро на улице. Чтобы скрыться в тенистой аудитории».
«Если мне предлагают учить, значит, я не способен учиться, значит, я завершен?» – спрашивал он сам себя в который уж раз, потому что понимал, что обращаться с таким вопросом к своему практичному другу бесполезно. Все это вселяло в него старую тоску и тревогу. Он был изъеден рефлексией, как ледяная глыба весной. Хотя никто не требовал от него ничего и не понуждал. Но он знал, что только он сам может изменить свое состояние или движение свободы, к свободе. «Минет год, и никто не заметит, что со мной все могло быть иначе, – шептал он себе. – Никто не заметит изменений. Всем все равно. Все воспримут орнамент предметов как должное. Любой волен переставить, хотя бы мысленно, две фигуры людей на улице. Никто ничего не заметит. Но мне не близка такая свобода, хотя я чувствую себя в ней как птица в воздухе, – я хочу и чего-то иного».
«Стать первоклассником первоклассным». Так говорил он себе, сидя в своей квартире перед зеркалом (старинным темным зеркалом в прихожей – он задержался перед ним и стал вглядываться в свое лицо, словно пытаясь снять и увидеть все сразу слои и тени времени, покрывшие его столь знакомое лицо), в двадцатых числах августа, когда душное августовское московское солнце изгоняло всякую мысль о каком-либо повторении. Тем днем он получил неожиданное подтвержденье, что его заявка на немыслимую, казалось бы, тему «Готфрид Лейбниц и проблема абсолютного нуля в математике», посланная в фантастический фонд «Зорро», получила одобрение. Что, казалось бы, надо было ему еще. Вероятно, его жизнь теперь как-то будет на три года обеспечена. Редкая удача. Все его товарищи-философы изощрялись в выдумывании невероятных предложений в этот призрачный фонд, – ведь было известно, что только безумные идеи там одобряются, но, кажется, лишь он удовлетворил скрытое в тумане секретности и конфиденциальности сообщество. Кто решал в этом Фонде, было неизвестно. Рецензент давал страшную клятву (поощряемую тоже страшным по величине гонораром) о неразглашении – в противном случае ему грозила чуть ли не опись имущества – бред, конечно, – никто не слышал ни о чем подобном, но и случаев разглашения тоже не было.
Он глядел в августовское зеркало и пытался вспомнить, как его зовут. Видел в зеркале оставшуюся от далекого уже праздника дня рождения темную высокую розу, померкшую, но все еще похожую на пагоду. Ему казалось, что во вглядывании в это прозрачное стекло он достиг такой степени отрешенности, что все слова и имена отошли от него. На самом деле он подозревал, что то была просто лень, ему удалось отдалить от себя звук и смысл своего имени и не хотелось приблизить его. В блаженной лености вместе с тем он вдруг осознал, что решение Фонда (если он не состоял всего из одного человека, который все решал по произволу) было определенным знаком ему. Прямым указанием, что надо что-то изменить в своей медленной и инерционной жизни. Сам он не понимал, почему он так решил. И почему осознал, что настало время перемены участи.
Фонд этот был основан неким некогда невероятно богатым человеком, который решил именно в России (хотя и не только здесь) открыть прииски по поиску идей. Собственно, основным его устремлением, неясно обозначенным, было возрождение средиземноморской мощи мысли и духа, утраченной во мгле веков. Вобрав в себя, казалось бы, все национальности из этой области мира, он отыскал в себе часть и русской крови, – не то 1 / 16 или 1 / 32 (о, это чисто космополитическое стремление найти музыкальные доли своего происхождения), что, по-видимому, побудило его бросить взор на Россию, хотя устремление российское в полдневную, средиземную сторону тоже было, наверное, ему известно. Человек этот поощрял только перспективные безумные идеи, но как найти это сочетание и, главное, как удовлетворить желание «Зорро», было неизвестно никому. В Москве в Угловом переулке (почему-то именно здесь) висел лишь единственный ящик, куда опускались конверты с заявками. Больше ничего не было известно. Заявки принимались в произвольном виде (впрочем, оговаривалось, что они не могут превышать тридцати страниц). Поговаривали, правда, что «Зорро» этот был знаком со вдовою Аристотеля Онассиса, но что скрывалось за подобным шифрованным сведением, было все равно не понять, как если бы сказали, что он был знаком с Осирисом или общался с философом Аристотелем.
Только сейчас, сидя перед тем же зеркалом, он понял вдруг, что название его заявки странным образом созвучно с названием самого Фонда. Но явилось ли это одной из причин, повлекших «неотказ», – так из странной предосторожности (чтобы произошедшее не исчезло из реальности) называл он решение Фонда, – он не знал. Может быть, сыграло роль время дня, которое он выбрал, чтобы опустить конверт там, в Угловом переулке. Наверняка всевидящее око, запрятанное где-то рядом, обратило на это внимание. Почему-то ему показалось, что надо приблизиться и опустить конверт в определенное время. Не в полночь, когда время обнуляется, и вроде бы все могло намекнуть на смысл совершающегося. Нет, должно было быть что-то иное. Смысл мог быть понят только при проникновении в глубину его гипотетической философской работы, которая почему-то связалась в его сознании с Лейбницем. Нуль абсолютный в математике здесь понимался как абсолютный нуль температуры в физике, то есть приближаемая, но недостижимая величина. Впрочем, на этот счет у него были сомнения. Но именно математический нуль, который всеми так легко писался, рисовался, обозначался и проходился во все стороны, представился ему вдруг точкой идеального и недостижимого предела. Того предела идеала, который знает лишь Ахилл, замедляясь и проникая все глубже в раскрывающийся воздух в устремлении за своей черепахой. Соотносимого с бесконечностью, впрочем, здесь ничего нового не было – топологическое перекручивание нуля (так он выражал простую операцию со знаком) и низведение его в упавшую восьмерку и означало для него встречу, актуальную встречу с бесконечностью. Сама знаменательная любовь Готфрида Лейбница к созданию новых знаков и приданию такому действию мистического смысла породила отчасти название его работы.
Он сам не знал точно, что за таким названием может скрываться, зная только, что поиск этого смысла и есть цель работы, поскольку обозначение абсолюта не предполагает обязательной недоступности его, – так Северный полюс может быть достигнут, но останется, несмотря ни на что, порождающим смыслы понятием. Он полагал, что может определить что-то вообще доселе небывалое. Абсолютный нуль ему виделся даже более историческим смыслом, верстовым столбом, к которому может быть привязана за уздечку лошадь Мюнхгаузена, когда вокруг снежная пустыня. Он хотел, благодаря ему, увидеть самого Лейбница, задержавшимся во времени. Но когда он сказал о своей «нулевой удаче» Ослику, тот тут же призвал это включить в гипотетический курс лекций, которые, как предполагалось, он начнет читать для слушательниц, студенток курсов – и для себя самого, поскольку он становился студентом женских курсов, – включить проблему достижимого-недостижимого. Теперь необязательно идти в институт, где он работал, философствовать, – впрочем, он и так там редко бывал, – а начать новую трудовую и учебную жизнь, стать профессором, – что было ему несомненно обещано, – и молодым, хотя уже и подержанным, потертым жизнью студентом.
Понятно, что курсы со сходным названием (как их ни называй) открывали и закрывали за последнее время много раз, цитируя при этом Ключевского – давнюю его речь, когда-то произнесенную при очередном закрытии Высших женских курсов, – говорил историк о них как о первых рассадниках высшего женского образования в нашей стране, и о том там было сказано, что впервые здесь отнеслись с полным доверием к уму русской женщины, признав, что он безопасно может подняться на высоту высшего образования, на которой и у мужчины нередко кружится голова. Что хотя все закрывается, но в будущем все еще скажется. Но сейчас затевалось действительно нечто неслыханное. Невиданное ни здесь, ни там. К организации были подключены, как говорили, лучшие умы. Но не всегда все можно создать умом, с чем тоже надо было считаться и что тоже надо было понимать.
Для себя-студента он уже присмотрел особенно острую опасную бритву, чтобы бриться начисто, набело, вернее, начерно, чтобы ни один седой волос бороды не проступил, для себя-профессора давно приглядел парик, затемненные очки и черную бороду, которая как облако должны была окутать его все еще молодое лицо. Так он хотел два образа развести, отвести подальше от своего возраста.
Он увидел ее еще раз перед зеркалом – перед своим (старинным маминым зеркалом, в которое он любил заглядывать в прихожей, – было еще оставшееся мамино трюмо – в комнате, – в которое он не любил заглядывать, – там он видел свой профиль – в боковой створке – таким, как видят его другие, – но себе, видимому другими, он не мог посмотреть прямо в глаза, – но почему он должен был принимать за свое лицо то, что предъявляло ему зеркало, а не тот огромный и темный мир его прихожей и дальше за пределами его квартиры – который он видел, и тот мир видел его) зеркалом он увидел еще раз ее – незнакомый юный девичий силуэт, он не мог увидеть ее лицо, потому что она вглядывалась в свое лицо в зеркале – решая важнейшую девичью и женскую свою задачу, а он не мог увидеть лицо, потому что был сзади, за ее затылком, он мог только различить отблеск ее темных волос, – вернее, запах отблеска, который, как ему показалось, он узнает. Он знал, что этот силуэт не похож на силуэты портретов его мамы, но то, что он увидел его в раме маминого зеркала, заставляло вглядываться в него.
Неслыханно сложная задача – так он думал – описать словами, вразумительными и образными словами то, что не видишь, а он ее не видел. Именно это надо сейчас сделать, потому что ее контур – женственный контур со спины сидящей перед зеркалом юной девушки. Он думал, что она молчалива, даже сама с собой она, кажется, не разговаривает в миг, когда вся погружена в свое отражение. Взгляд ее сумрачный и, как сказали бы, наверное, в XIX веке, туманный. Почти неразличимы и неразлучны (так ему хотелось сказать) ее глаза – самое ясное сейчас в облике. То, что ей предстоит, она знает, но это ничего не значит, если не совершить предназначенное. Но она хочет познать это не вовне себя. Какое имеет зеркальное отражение отношение к самому человеку – сложный вопрос, но хочет узнать, вглядевшись в свое лицо. Женственный контур девушки у зеркала, женственный контур со спины, девушки у зеркала, и потому заграждавший ее лицо, он увидел на миг, – то не был его силуэт, хотя он думал о себе из-за этих Курсов отчасти в женском роде (если и не о курсистке, то о «курсисте»), – то был контур реальной девушки, которая не только убирает свои волосы, но и гадательно вглядывается в зеркало, чтобы обнаружить, что и кого принесет, привлечет ей новый учебный год, который, словно по допетровскому, почти допотопному календарю, должен был начаться с 1-го сентября.
2
Совсем уж приблизилось 1-е сентября, и он стал задумываться, в какой студенческой тужурке явиться в первый праздничный день перед вратами университета. Ведь в этом универсуме будет особый мир, в котором он будет существовать, – незнакомый женский мир, где он надеялся укрыться до поры, сделаться незаметным, но примелькаться в глазах других, стать если не вечным, то хотя бы долговечным студентом, которого все знают и прощают слабости за то, что он есть, за то, что мозоля всем глаза, напоминает всем об их несомненном присутствии здесь, – так что его исчезновение было бы воспринято как потеря.
Все же к первому дню учебы надо было подготовиться основательно. Друг-гример заверил его, что первая неделя – самая важная в его внешнем облике. Надо запечатлеть себя во всех глазах. Дальше можно расслабиться, даже если ты будешь выглядеть старше своих мнимых лет, – впрочем, ничего нового: двадцатилетний Ломоносов среди учеников-детей – всегда свои мнимые лета можно списать на плохое самочувствие, непобритость, запущенность личной жизни, и даже вызвать жалость – но в меру – в глазах женского большинства, несмотря на их несомненный снобизм существ, попавших в исключительные условия небывалого внимания и ожидания. Поэтому требовалась особая тщательность первичной гримировки.
Поглядел он внимательно в свое новое внешне омоложенное лицо и понял, что не может смотреть в это неуловимо неузнаваемое, неопознаваемое лицо, даже в циклопный единственный глаз компьютера, который возвращал ему в зрение образ лица, не в зеркальном, а прямом виде, так, как его могли наблюдать другие.
Волнение его было велико. Не философствовать надо было, идя в институт, рассуждая об отвлеченном понятии «другого», но самому ему предстояло стать неким другим. Но что же он за философ такой, если способен мудрость понимать лишь как список рассуждений, а сам не способен в жизни даже шаг сделать в сторону.
Необходимо было обдумать свой внешний облик, понять, в какую рубашку облачиться, в какие брюки ее заправить. Что может надеть нынешний молодой, но уже двадцативосьмилетний человек, он не знал. Спрашивать Осли было бесполезно. И так тот был занят его делами – помог ему сдать вступительные экзамены, некоторые как-то удалось даже перезачесть. Сочинение, правда, пришлось писать самому. Признали его если не блестящим, то все же сносным, достойным соответствовать положению студента Высших женских курсов. Но без помощи друга вряд ли бы он туда поступил, так что не стоило занимать того примитивными вопросами.
В первый свой день новой незнакомой жизни он не без нервного холодка, прихорошась и подправив грим, пошел осенними уже переулками в сторону нового своего учебного здания. «Заведения» не мог он без тени смеха произнесть, но слишком все же серьезно, торжественно и незнакомо было в этот день. Легкая тошнота, словно кайма недалекого моря, все время подступала к горлу, но при этом он себя успокаивал. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но кто сказал – какой такой Гераклит доморощенный, что нельзя войти в нее трижды?» Так он придумывал для себя простенькие философские шуточки вроде того, что «нельзя сидеть между двумя стульями, но между тремя – можно». Все же он не отвлекался на рассуждения, больше он внимал тому, что происходило и не происходило вокруг. Почти летнее тепло еще было прижато в тенях дворов, и низкие одноэтажные и двухэтажные дома отрывали маленькие свои форточки, словно ладошки, ему навстречу в переулок.
Вспомнил он невольно тот ужас принужденья, который сопровождал его, идущего когда-то в школу, и подумал, что нынешняя его свобода – хочу иду, хочу не иду – несмотря ни на что таит в себе какой-то холодок отрешенности.
Проблема одежды сильно занимала его в преддверии 1-го сентября. Тужурку он мысленно себе уже присмотрел. Но надо было еще обдумать штаны, – ведь на Высших курсах («Высших девичьих курсах», как он их для себя обозначил и постоянно повторял) будет отделение – он знал это доподлинно и уже назвал его «Кройки и шитья» – на самом деле – «Моды и дизайна», и он представил, прикинул, как будущие закройщицы-теоретики окинут критическим взором его ретро-штаны, если он задумает в них явиться, поэтому решил выбрать нечто нейтральное. «Не бросаться сразу в глаза, вот что должно быть главным», – шептал он себе.
Появился он перед дверями университета, но оказалось, что надо идти на задний двор, где ожидалось построение по факультетам и по группам. Встретило его нечто торжественное и как будто организованно-скомикованное: играл какой-то полковой – так ему показалось – оркестр, и маршировали ряды гусарских девушек в красной униформе, белых лосинах и, по-видимому, черных киверах (не старшекурсницы ли переодетые? – еще подумал он). Грозди воздушных шаров заслонили часть неба. В промежутках между музыкой выступали заслуженные люди, профессора и преподаватели университета, призывая студентов и студенток будущих особенно не напрягаться, но всем своим существом – вольно и свободно устремиться к учебе и в учение. Порадовался он, что не надо ему быть по ту сторону трибуны, потому что к своим профессорским обязанностям должен был приступить он лишь в конце недели. С верхних этажей из окон и с балконов выглядывали местные жители – обитатели зданий, в которые переходил тут же университет.
С Осли они довольно долго – минут пятнадцать – обсуждали его профессорское имя. «Ты ведь можешь носить научный псевдоним, – сказал ему Ослик. – Понятно, что как студент с документом ты обязан быть под своей фамилией, но в качестве профессора можешь присвоить себе нечто иное и звучное. Диогена мы уже с тобой обдумали, но взять фамилию Диогенский или Диогенов, или даже Диогенов-Лаэртов было бы вычурно и претенциозно. Почему бы тебе не попробовать взять фамилию Виноградов или Виноградский?»
– Тогда уж лучше Вертоградский… «Вертоград моей сестры»… возьму-ка я имя Вертоградов – в этом есть хорошая примесь «ретрограда», – это старое благородное вино имени, его приятно поднести ко рту.
– Профессор Вертоградов, или все-таки Вертоградский, – тут же серьезно произнес Осли, – как Вы назовете свой лекционный курс, да и вообще – о чем он будет?
– Хотел я сказать… назвать его «Взгляд и нечто»… и понял вдруг, что в этом суть… именно, именно так… назвать его «Зрение и ничто»… «Свет и бытие» – вот тема, которая все объединит…. «Consonantia et Claritas» – «Пропорция и сияние»… все, все осветится, все философские века… Зенона с его черепахой… достижение-недостижение… то, что ты хотел… но все эти проблемы бесконечности, может, перенесем на попозже?… взаимоотношения Зенона со своим старшим другом – так выразимся – Парменидом…. Платоническая традиция пиров, симпозиумов… а также Сапфо, Лесбос и т. д. … перенесем на весенний семестр…
– Нет, не перенесем, – заверил его Осли, – надо здесь раскрываться сразу, ничего не откладывая на полгода. Зачем? Да и Курсы могут закрыть в любой момент.
Только оказавшись на первом семинаре в своей студенческой группе, он понял, что новая учебная его жизнь будет наполнена неизвестными еще трудностями. С самого начала он выбрал себе способ присутствия – в аудитории, почти сплошь состоящей из женщин. Впрочем, способ такой не отличался от его всегдашнего – в любой учебной комнате он тут же первым занимал задний ряд, – «быть на задней парте» (на Камчатке, Сахалине, Хохландии – он смутно помнил, что так в гимназические времена называли эти любимые учебные места), – хотя парт-то уже не было, были современные столы и легкие стулья, – занять сразу стратегический пункт, чтобы оттуда, оставаясь почти что («в меру», как он сам обозначил это) незаметным, наблюдать происходящие события. Там на заднем ряду, за одним столом он обнаружил и своего товарища – вечно спящего, как сразу он определил, инфантильного, почти подростка, юношу. Оказалось, что из двенадцати человек в группе их – представителей мужского пола – только двое. Тот сразу протянул ему вялую ладонь для рукопожатия, но больше никаких движений не совершал и участия в семинарском занятии не принимал. Это был какой-то сонный вундеркинд, почти ребенок, он почти все время почему-то дремал, затаившись на заднем ряду. С аутистом, как он для себя его сразу назвал, не было надежды найти хотя бы простые (не говоря о доверительных) отношения. Приходилось, к тому же, быть все время настороже, чтобы не выдать – излишними знаниями или невежеством – свой истинный возраст. «Понятное дело, – подумал он, – его одногруппник тоже попал сюда по протекции, да и как иначе попадают молодые люди на Высшие женские курсы. Наверное, отчаявшиеся родители решили: пусть лучше уж женское получит образование, чем никакого», – так думал он о судьбе этого юноши.
Девушки лишь иногда оглядывались назад, причем некоторые с явным удивлением, – оглядывались на задний ряд, на котором расположились они. Студентки смотрели на них как на нечто инородное и подозрительное в их единой среде. Понятно, что юноши их влекли, хотя пока им надо было осмотреться и разобраться на новом учебном месте. Но чувствовал он, что, по сути, один здесь мужского пола – «рода», как он себя обозначал «грамматически», – один в своем роде и числе.
На первом ряду он сразу – и, странно, он не удивился факту – различил ее силуэт – так ему показалось, что это именно ее затылок темных волос (почему он так решил, непонятно), – этот контур, овал ее головы, который он видел сейчас с заднего ряда, почему-то напомнил тот силуэт, который виделся ему тогда в зеркале, и с тех пор не исчезал в его глазах. Сейчас, как и тогда, он не мог видеть ее лица. Она не оборачивалась, иногда только слегка поворачивала свое лицо, так что можно было увидеть лишь начальный силуэт носа и высокие надбровья («тес профиля» – как он для себя назвал и определил это).
Первое семинарское занятие был посвящено латыни, и он понял, что оказался профаном в девичьей просвещенной, далеко ускакавшей вперед аудитории. Многие девушки пришли, по-видимому, из гимназии, где уже изучали древние языки, которые в недавнем прошлом были мертвы, но, как оказалось, все же опять живые. Так что он и полусонный юноша оказались чуть ли не единственными, кто лишь понаслышке знал о латинском языке. Но преподавательница сразу заявила, что никаких поблажек не будет, делений на слабых и сильных не потерпит, и хотя они начинают изучать язык как бы с самых азов (что прозвучало странно применительно к латыни), но все будет настолько интенсивно и быстро, что, если кто-то не включится, то… – тут она сделала паузу и попыталась пробить взором дальний ряд, где затаился он и где дремал его новый товарищ по полу и образованию. Не получив никакого отклика, она приступила к занятиям, причем некоторые девушки разговаривали с ней на вполне сносной латыни, и она отвечала им так же, ничуть не беспокоясь, что некоторые могут не понять ни слова.
Он напрягал все свое чутье и интуицию, и некоторые надерганные сведения – в основном из латинских пословиц и поговорок, – которыми иногда любил сорить в кругу друзей, но, по правде, не понимал ничего или почти ничего. Повторяя кратко все, что было известно, они начали с фонетики, но все шло в таком бесперебойном и бойком ритме, и многие просто вновь входили в школьный материал, так что он почти ничего не улавливал. Причем эта грозная (так он почему-то решил) девушка с первой парты принимала самое непосредственное участие в беседе. Заметил он, что другие студентки прислушиваются к ее репликам и даже замолкают, когда она что-то произносит. Стал он склоняться к мысли, что она является старостой группы. Возможно, это было для всех очевидно, но при первой перекличке он так волновался, что почти не слышал имен, да и свое-то с трудом разобрал. По-видимому, называли и ту, которая должна была быть старостой, но он ничего не запомнил.
Дошли они в своем повтореньи и до латинских падежей, и он еще раз увидел эту девушку их группы, которую сразу выделил вниманием из толпы первого ряда.
Показалось ему также, что некоторые девушки знают друг друга – не со школы ли? Или пришли сюда по согласию. Не привела ли их она? – подумал он. В какой-то момент напряженного разговора эта студентка повернулась вдруг к перешептывающимся подругам – по-видимому, подругам, и что-то произнесла по-латыни резко и достаточно громко. Девушки на секунду примолкли, затем тихо засмеялись, – потом одна подняла палец и произнесла тихо, но достаточно внятно:
Владимир Владимирович Аристов
В прозе В. Аристова за поверхностным слоем обыденности обнаруживаются иные, скрытые формы существования. По-своему преломляя традицию немецкого интеллектуального романа, идущую от Гете и йенских романтиков, автор создает своего рода «роман воспитания», синтезирующий великие мифы романтизма и модернизма с нелинейностью современной картины мира. Главный герой, философ и профессор Высших женских курсов, подобно другим странствующим персонажам, отправляется на поиски нового интегрального знания, способного преобразить мир. Он убежден, что именно «женственность» способна помочь преодолеть глубочайший кризис, в который повергла мир «эпоха мужской культуры». Становлению героя, происходящему в параллельных пространствах, то ли воображаемых, то ли подлинных, сопутствует непременное в этом случае воплощение «вечной женственности» – персонаж, ведущий героя по лестнице инициации. За внешним сюжетом открываются все более и более глубинные слои взаимодействия «я» и мироздания. Владимир Аристов – поэт, прозаик, эссеист, доктор физико-математических наук. Лауреат премии Андрея Белого.
Владимир Аристов
Mater Studiorum
© В. Аристов, 2019,
© М. Кузичева, рисунок на обложке, 2019,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2019
* * *
Repetitio est mater studiorum.[1 - Повторение – мать учения]
I
1
Лишь только приближался сентябрь, он опять начинал чувствовать тревогу и печаль, и даже тоску. Опять те же несбыточные сны приходили, все те же неизбываемые, незабываемые сны. И упрек, что он не все сделал, что мог. Вернее, то, что он должен был совершить и не совершил. Он опять представлял 1-е сентября – все ту же умножаемую свою с каждым годом жажду и зависть, которую он испытывал на опустевших утренних улицах, когда молодые люди все уже скрылись за стенами школ, за дверями школы или института. Только он один будет вне. «Что тебе надо еще? – спрашивал он сам себя, – какого еще образования? У тебя же оно есть, уже есть одно». Однако не мог отбросить свое чувство осенней вины. Хотя раньше чувствовал всегда радость избавления от повинностей экзаменов, от постоянной угрозы решающего выбора. Но все переменилось в последние годы. Он увидел себя со стороны. Однажды увидел себя в зеркале, когда он не знал, что за ним наблюдают. И нелегко ему было теперь оставаться прежним.
Сны эти были об одном и том же: словно он в конце семестра видит, как много несданных, незачтенных предметов, дисциплин у него, но с легкомыслием продолжает не столько учиться, сколько проматывать время. Надвигается неизбежная развязка, но тут он выскальзывал в явь. Однако чувство какой-то неизбытой, незачтенной вины не уходило. Сон намекал ему на что-то важное, что он должен был еще совершить. И это важное можно было найти только там, откуда он давно уже ушел: из школы, из университета, которые он закончил уже столько лет назад. Но никакие ученые степени – их у него было уже две – не меняли его состояния вины и тихого, но властного указания.
Сам он хотел учиться, захотел, просто возжаждал, почувствовал прежний голод. Но ему хотелось не просто повысить или «возвысить» знание, но начинать, начать словно бы заново. Был он готов к этому – обновлением и молодостью веяло из школ. Но переступить порог университета или школы в качестве преподающего страшился. Представить себя в роли учителя, преподавателя не мог. Потому что начавший учить, – так он думал, – преподавать то, что преподавали ему самому, начинает умирать. Ведь тем самым он показывает, что уже выполнил свою миссию здесь – вот он наполнился знаниями, а теперь просто их проливает, передавая следующему безымянному ученику. Поэтому с таким ужасом он услышал предложение своего друга – как раз в конце августа прошлого года, – настоятельную просьбу того начать преподавать в новом университете. Вернее, сам гуманитарный университет был не такой уж новый, но там должны были возобновиться, в который уж раз, Высшие женские курсы, и именно туда, полагал друг, лежит его дорога учительская. «Новое сейчас именно женское, не понимает это лишь осел», – говорил его друг, тайное имя которого было, впрочем, как раз Ослик (или Ойслик для совсем уж узкого круга друзей). Не потому что он был глуп, а как раз из-за своей склонности к неподвижным и долгим размышлениям. Он сказал Ослику, что пока не готов. Что ему надо обдумать все и подготовиться. Но причина истинная была в другом: он понял, что не может идти преподавать, не учась сам. Потому что, не начав заново каждодневно наполняться, он будет лишь иссякать. Не видел он выхода из такого безвыходного положения, пока среди года не осознал, что может разрешить такую антиномию, или дихотомию единственным образом: стать и учеником, и учителем одновременно. Тогда он сможет вернуться в молодость и вернуть себе молодость обновлением знания. И удержать их в равновесии на своих же руках. Тогда его присутствие в создающемся университете будет оправданно.
Так – он себя увидел сейчас в зеркале, где царила темная померкшая роза – оставшаяся со дня его рожденья – значит, розы рождает еще здешняя городская земля – так же как год назад в августе, когда он все это неясно еще обдумывал, – также перед зеркалом сидела и она, – он видел ее со спины, ее силуэт, но лицо свое в зеркале она заслоняла для него своим затылком, – многократно повторяя свое отражение, приближаясь и отклоняясь. Этот год – он сам называл его подготовительным, словно он должен был заново подготовиться к школе – пусть даже высшей – был посвящен непрерывным занятиям – его как преподавателя, но и как будущего студента, хотя состоится ли начинание, было неясно. Кроме того, он на всякий случай приобрел дополнительный аттестат зрелости – на лестнице перехода в метро на «Новокузнецкой». Собственно, он никого не обманывал, так он себе внушал, – просто он восстановил по памяти свой же аттестат, который уже наверняка сгинул и сгнил в архивах университета, который он давно закончил. Скрупулезно он восстановил все отметки со всеми болезненными отметинами памяти, – лишь год окончания сдвинул на 14 лет позже, было ему сейчас 42, а при его постоянной игре цифровыми соответствиями хотелось ему вернуться в хорошее четное число, и он выбрал 28, полагая, что при нынешней его моложавости и при гримерных способностях некоторых его друзей – были у него и такие – он сможет (почаще затаиваясь в тень), выдать себя за великовозрастного, но все же студента, который вот вдруг решился и поступил – в первый же набор – на эти самые заманчивые Высшие женские курсы, возрождавшиеся который уж раз. Куда принимали, понятно, в основном лиц женского пола, но все же для расцвечивания – так ему сказал Ослик, – предполагалось внедрить в каждую группу и несколько лиц пола противоположного. Именно там надеялся он затеряться в толпе замкнутых на себе юных молодых женских лиц, которые не будут так уж пристально вглядываться в мужское лицо, не будут слишком придирчивыми, будут довольны и тем малым, и, может быть, жалким, что в его лице им отпустила учебная судьба. Все внимание всех будет уделено, несомненно, женскому контингенту, а на него будут только изредка обращать внимание. Не то что видя в нем подсадную утку, но все же дистанцируясь, что, в общем-то, хорошо для него.
В себе он чувствовал не просто стремление к умножению знания, – непрерывно читать и расти над собой входило в его круг повседневных обязанностей как философа по профессии (сомнительной профессии, конечно). Здесь было что-то более глубокое, чем желание получить второе, третье, невесть какое, высшее или сверхвысшее образование. И не только тоска об уходящей, скрывающейся за учебными дверями собственной молодости. Во всем он чувствовал разлитый, непроявленный упрек, смысл которого ему был неясен, но неуклонен.
Тот сон не был в точности повторяющимся, нет, это были весьма вольные вариации на тему, внешний смысл которой был понятен, но скрытый призыв ускользал. Но всегда то был сон о невыполненном задании. Вот он уже на старшем курсе какого-то (варианты были различными) весьма сложного вуза, но он не посещает цикл лекций или семинаров, правда, непонятно по какой причине, – ничто, казалось бы, не должно мешать ему присутствовать там, если он так переживает. Никакие внешние жизненные обстоятельства не преследовали его и не являлись препятствием. Но все же он сознавал, с каждой неделей неизбежней – а во сне проходили иногда буквально месяцы, – что он глухо приближается к финалу, – неотвратимо его путь учебы должен был прерваться. В таком сне ему виделось указание на то, что он чего-то важного в жизни не понял или не совершил. Он просыпался всегда с полным убеждением, что все произошло как в его сне и что ему опять надо начинать заново, и лишь после долгого самоубеждения, где присутствовали и логические доводы, чуть ли не предъявление себе диплома, – ему удавалось уверить себя, что все в порядке, ему не надо начинать заново учиться.
И он завидовал всем идущим в школы, особенно первоклассникам, но он не знал, куда бы ему сильнее хотелось устремиться: за школьниками или студентами, словно ему хотелось войти сразу в несколько классов и аудиторий, – его присутствие только в одной комнате не успокоит его жажду, а только усилит разочарование. Он начинал думать, что избавиться от навязчивого и, в общем-то, мучительного сна (хотя почему так уж надо избавляться от таких снов-упреков, представляющих собой пробуждение совести или вины во сне, – непонятно) можно лишь одним: действительно начать учиться заново. В буквальном смысле. Стать первоклассником (не второгодником, но во второй раз попробовать войти в ту же жизнь, в тот же, хотя и другой уже класс) или первокурсником. Пойти на унижение и самоумаление. Что совершить буквально представлялось невозможным, но мысленно он был к этому уже готов. Взглянуть на мир новыми глазами ребенка-дошкольника, которому сразу же начинают внушать небывалые истины, но ты взрослый внутри такого ребенка будешь сознавать, что все не так просто или вообще не так, но ты умалишь себя, ты заставишь писать себя под диктовку, хотя, конечно, это будет совсем не то, что тридцать-сорок лет назад. Все же истины немного изменились. Изменилась форма, сама форма (ему хотелось сказать «униформа») школьников изменилась. Но он понимал глупость своих рассуждений и чувствовал красноту стыда на лице, хотя понимал, что не видит себя и что «краснота» – такой же вымысел и заемное слово, как и его мысли о желании пойти в первый класс. «Подобный подвиг унижения (или уничижения) не для меня. Но можно попытаться стать молодым студентом, – в свои сорок два я выгляжу достаточно моложаво и даже молодо. Никто, конечно, за двадцатилетнего меня не примет, но при надлежащем гриме двадцать восемь лет я смогу себе дать. Такого вот нового студента, прошедшего уже сложный жизненный путь (даже если не говорить, легко представить, какой) и выглядящего старше своих двадцати восьми лет. Но пришедшего в университет по наивности. Полагая, что знания что-нибудь значат. А на самом деле совсем за другим пришедшего сюда, – чтобы в свои двадцать восемь не находиться в страшное первое сентябрьское утро на улице. Чтобы скрыться в тенистой аудитории».
«Если мне предлагают учить, значит, я не способен учиться, значит, я завершен?» – спрашивал он сам себя в который уж раз, потому что понимал, что обращаться с таким вопросом к своему практичному другу бесполезно. Все это вселяло в него старую тоску и тревогу. Он был изъеден рефлексией, как ледяная глыба весной. Хотя никто не требовал от него ничего и не понуждал. Но он знал, что только он сам может изменить свое состояние или движение свободы, к свободе. «Минет год, и никто не заметит, что со мной все могло быть иначе, – шептал он себе. – Никто не заметит изменений. Всем все равно. Все воспримут орнамент предметов как должное. Любой волен переставить, хотя бы мысленно, две фигуры людей на улице. Никто ничего не заметит. Но мне не близка такая свобода, хотя я чувствую себя в ней как птица в воздухе, – я хочу и чего-то иного».
«Стать первоклассником первоклассным». Так говорил он себе, сидя в своей квартире перед зеркалом (старинным темным зеркалом в прихожей – он задержался перед ним и стал вглядываться в свое лицо, словно пытаясь снять и увидеть все сразу слои и тени времени, покрывшие его столь знакомое лицо), в двадцатых числах августа, когда душное августовское московское солнце изгоняло всякую мысль о каком-либо повторении. Тем днем он получил неожиданное подтвержденье, что его заявка на немыслимую, казалось бы, тему «Готфрид Лейбниц и проблема абсолютного нуля в математике», посланная в фантастический фонд «Зорро», получила одобрение. Что, казалось бы, надо было ему еще. Вероятно, его жизнь теперь как-то будет на три года обеспечена. Редкая удача. Все его товарищи-философы изощрялись в выдумывании невероятных предложений в этот призрачный фонд, – ведь было известно, что только безумные идеи там одобряются, но, кажется, лишь он удовлетворил скрытое в тумане секретности и конфиденциальности сообщество. Кто решал в этом Фонде, было неизвестно. Рецензент давал страшную клятву (поощряемую тоже страшным по величине гонораром) о неразглашении – в противном случае ему грозила чуть ли не опись имущества – бред, конечно, – никто не слышал ни о чем подобном, но и случаев разглашения тоже не было.
Он глядел в августовское зеркало и пытался вспомнить, как его зовут. Видел в зеркале оставшуюся от далекого уже праздника дня рождения темную высокую розу, померкшую, но все еще похожую на пагоду. Ему казалось, что во вглядывании в это прозрачное стекло он достиг такой степени отрешенности, что все слова и имена отошли от него. На самом деле он подозревал, что то была просто лень, ему удалось отдалить от себя звук и смысл своего имени и не хотелось приблизить его. В блаженной лености вместе с тем он вдруг осознал, что решение Фонда (если он не состоял всего из одного человека, который все решал по произволу) было определенным знаком ему. Прямым указанием, что надо что-то изменить в своей медленной и инерционной жизни. Сам он не понимал, почему он так решил. И почему осознал, что настало время перемены участи.
Фонд этот был основан неким некогда невероятно богатым человеком, который решил именно в России (хотя и не только здесь) открыть прииски по поиску идей. Собственно, основным его устремлением, неясно обозначенным, было возрождение средиземноморской мощи мысли и духа, утраченной во мгле веков. Вобрав в себя, казалось бы, все национальности из этой области мира, он отыскал в себе часть и русской крови, – не то 1 / 16 или 1 / 32 (о, это чисто космополитическое стремление найти музыкальные доли своего происхождения), что, по-видимому, побудило его бросить взор на Россию, хотя устремление российское в полдневную, средиземную сторону тоже было, наверное, ему известно. Человек этот поощрял только перспективные безумные идеи, но как найти это сочетание и, главное, как удовлетворить желание «Зорро», было неизвестно никому. В Москве в Угловом переулке (почему-то именно здесь) висел лишь единственный ящик, куда опускались конверты с заявками. Больше ничего не было известно. Заявки принимались в произвольном виде (впрочем, оговаривалось, что они не могут превышать тридцати страниц). Поговаривали, правда, что «Зорро» этот был знаком со вдовою Аристотеля Онассиса, но что скрывалось за подобным шифрованным сведением, было все равно не понять, как если бы сказали, что он был знаком с Осирисом или общался с философом Аристотелем.
Только сейчас, сидя перед тем же зеркалом, он понял вдруг, что название его заявки странным образом созвучно с названием самого Фонда. Но явилось ли это одной из причин, повлекших «неотказ», – так из странной предосторожности (чтобы произошедшее не исчезло из реальности) называл он решение Фонда, – он не знал. Может быть, сыграло роль время дня, которое он выбрал, чтобы опустить конверт там, в Угловом переулке. Наверняка всевидящее око, запрятанное где-то рядом, обратило на это внимание. Почему-то ему показалось, что надо приблизиться и опустить конверт в определенное время. Не в полночь, когда время обнуляется, и вроде бы все могло намекнуть на смысл совершающегося. Нет, должно было быть что-то иное. Смысл мог быть понят только при проникновении в глубину его гипотетической философской работы, которая почему-то связалась в его сознании с Лейбницем. Нуль абсолютный в математике здесь понимался как абсолютный нуль температуры в физике, то есть приближаемая, но недостижимая величина. Впрочем, на этот счет у него были сомнения. Но именно математический нуль, который всеми так легко писался, рисовался, обозначался и проходился во все стороны, представился ему вдруг точкой идеального и недостижимого предела. Того предела идеала, который знает лишь Ахилл, замедляясь и проникая все глубже в раскрывающийся воздух в устремлении за своей черепахой. Соотносимого с бесконечностью, впрочем, здесь ничего нового не было – топологическое перекручивание нуля (так он выражал простую операцию со знаком) и низведение его в упавшую восьмерку и означало для него встречу, актуальную встречу с бесконечностью. Сама знаменательная любовь Готфрида Лейбница к созданию новых знаков и приданию такому действию мистического смысла породила отчасти название его работы.
Он сам не знал точно, что за таким названием может скрываться, зная только, что поиск этого смысла и есть цель работы, поскольку обозначение абсолюта не предполагает обязательной недоступности его, – так Северный полюс может быть достигнут, но останется, несмотря ни на что, порождающим смыслы понятием. Он полагал, что может определить что-то вообще доселе небывалое. Абсолютный нуль ему виделся даже более историческим смыслом, верстовым столбом, к которому может быть привязана за уздечку лошадь Мюнхгаузена, когда вокруг снежная пустыня. Он хотел, благодаря ему, увидеть самого Лейбница, задержавшимся во времени. Но когда он сказал о своей «нулевой удаче» Ослику, тот тут же призвал это включить в гипотетический курс лекций, которые, как предполагалось, он начнет читать для слушательниц, студенток курсов – и для себя самого, поскольку он становился студентом женских курсов, – включить проблему достижимого-недостижимого. Теперь необязательно идти в институт, где он работал, философствовать, – впрочем, он и так там редко бывал, – а начать новую трудовую и учебную жизнь, стать профессором, – что было ему несомненно обещано, – и молодым, хотя уже и подержанным, потертым жизнью студентом.
Понятно, что курсы со сходным названием (как их ни называй) открывали и закрывали за последнее время много раз, цитируя при этом Ключевского – давнюю его речь, когда-то произнесенную при очередном закрытии Высших женских курсов, – говорил историк о них как о первых рассадниках высшего женского образования в нашей стране, и о том там было сказано, что впервые здесь отнеслись с полным доверием к уму русской женщины, признав, что он безопасно может подняться на высоту высшего образования, на которой и у мужчины нередко кружится голова. Что хотя все закрывается, но в будущем все еще скажется. Но сейчас затевалось действительно нечто неслыханное. Невиданное ни здесь, ни там. К организации были подключены, как говорили, лучшие умы. Но не всегда все можно создать умом, с чем тоже надо было считаться и что тоже надо было понимать.
Для себя-студента он уже присмотрел особенно острую опасную бритву, чтобы бриться начисто, набело, вернее, начерно, чтобы ни один седой волос бороды не проступил, для себя-профессора давно приглядел парик, затемненные очки и черную бороду, которая как облако должны была окутать его все еще молодое лицо. Так он хотел два образа развести, отвести подальше от своего возраста.
Он увидел ее еще раз перед зеркалом – перед своим (старинным маминым зеркалом, в которое он любил заглядывать в прихожей, – было еще оставшееся мамино трюмо – в комнате, – в которое он не любил заглядывать, – там он видел свой профиль – в боковой створке – таким, как видят его другие, – но себе, видимому другими, он не мог посмотреть прямо в глаза, – но почему он должен был принимать за свое лицо то, что предъявляло ему зеркало, а не тот огромный и темный мир его прихожей и дальше за пределами его квартиры – который он видел, и тот мир видел его) зеркалом он увидел еще раз ее – незнакомый юный девичий силуэт, он не мог увидеть ее лицо, потому что она вглядывалась в свое лицо в зеркале – решая важнейшую девичью и женскую свою задачу, а он не мог увидеть лицо, потому что был сзади, за ее затылком, он мог только различить отблеск ее темных волос, – вернее, запах отблеска, который, как ему показалось, он узнает. Он знал, что этот силуэт не похож на силуэты портретов его мамы, но то, что он увидел его в раме маминого зеркала, заставляло вглядываться в него.
Неслыханно сложная задача – так он думал – описать словами, вразумительными и образными словами то, что не видишь, а он ее не видел. Именно это надо сейчас сделать, потому что ее контур – женственный контур со спины сидящей перед зеркалом юной девушки. Он думал, что она молчалива, даже сама с собой она, кажется, не разговаривает в миг, когда вся погружена в свое отражение. Взгляд ее сумрачный и, как сказали бы, наверное, в XIX веке, туманный. Почти неразличимы и неразлучны (так ему хотелось сказать) ее глаза – самое ясное сейчас в облике. То, что ей предстоит, она знает, но это ничего не значит, если не совершить предназначенное. Но она хочет познать это не вовне себя. Какое имеет зеркальное отражение отношение к самому человеку – сложный вопрос, но хочет узнать, вглядевшись в свое лицо. Женственный контур девушки у зеркала, женственный контур со спины, девушки у зеркала, и потому заграждавший ее лицо, он увидел на миг, – то не был его силуэт, хотя он думал о себе из-за этих Курсов отчасти в женском роде (если и не о курсистке, то о «курсисте»), – то был контур реальной девушки, которая не только убирает свои волосы, но и гадательно вглядывается в зеркало, чтобы обнаружить, что и кого принесет, привлечет ей новый учебный год, который, словно по допетровскому, почти допотопному календарю, должен был начаться с 1-го сентября.
2
Совсем уж приблизилось 1-е сентября, и он стал задумываться, в какой студенческой тужурке явиться в первый праздничный день перед вратами университета. Ведь в этом универсуме будет особый мир, в котором он будет существовать, – незнакомый женский мир, где он надеялся укрыться до поры, сделаться незаметным, но примелькаться в глазах других, стать если не вечным, то хотя бы долговечным студентом, которого все знают и прощают слабости за то, что он есть, за то, что мозоля всем глаза, напоминает всем об их несомненном присутствии здесь, – так что его исчезновение было бы воспринято как потеря.
Все же к первому дню учебы надо было подготовиться основательно. Друг-гример заверил его, что первая неделя – самая важная в его внешнем облике. Надо запечатлеть себя во всех глазах. Дальше можно расслабиться, даже если ты будешь выглядеть старше своих мнимых лет, – впрочем, ничего нового: двадцатилетний Ломоносов среди учеников-детей – всегда свои мнимые лета можно списать на плохое самочувствие, непобритость, запущенность личной жизни, и даже вызвать жалость – но в меру – в глазах женского большинства, несмотря на их несомненный снобизм существ, попавших в исключительные условия небывалого внимания и ожидания. Поэтому требовалась особая тщательность первичной гримировки.
Поглядел он внимательно в свое новое внешне омоложенное лицо и понял, что не может смотреть в это неуловимо неузнаваемое, неопознаваемое лицо, даже в циклопный единственный глаз компьютера, который возвращал ему в зрение образ лица, не в зеркальном, а прямом виде, так, как его могли наблюдать другие.
Волнение его было велико. Не философствовать надо было, идя в институт, рассуждая об отвлеченном понятии «другого», но самому ему предстояло стать неким другим. Но что же он за философ такой, если способен мудрость понимать лишь как список рассуждений, а сам не способен в жизни даже шаг сделать в сторону.
Необходимо было обдумать свой внешний облик, понять, в какую рубашку облачиться, в какие брюки ее заправить. Что может надеть нынешний молодой, но уже двадцативосьмилетний человек, он не знал. Спрашивать Осли было бесполезно. И так тот был занят его делами – помог ему сдать вступительные экзамены, некоторые как-то удалось даже перезачесть. Сочинение, правда, пришлось писать самому. Признали его если не блестящим, то все же сносным, достойным соответствовать положению студента Высших женских курсов. Но без помощи друга вряд ли бы он туда поступил, так что не стоило занимать того примитивными вопросами.
В первый свой день новой незнакомой жизни он не без нервного холодка, прихорошась и подправив грим, пошел осенними уже переулками в сторону нового своего учебного здания. «Заведения» не мог он без тени смеха произнесть, но слишком все же серьезно, торжественно и незнакомо было в этот день. Легкая тошнота, словно кайма недалекого моря, все время подступала к горлу, но при этом он себя успокаивал. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но кто сказал – какой такой Гераклит доморощенный, что нельзя войти в нее трижды?» Так он придумывал для себя простенькие философские шуточки вроде того, что «нельзя сидеть между двумя стульями, но между тремя – можно». Все же он не отвлекался на рассуждения, больше он внимал тому, что происходило и не происходило вокруг. Почти летнее тепло еще было прижато в тенях дворов, и низкие одноэтажные и двухэтажные дома отрывали маленькие свои форточки, словно ладошки, ему навстречу в переулок.
Вспомнил он невольно тот ужас принужденья, который сопровождал его, идущего когда-то в школу, и подумал, что нынешняя его свобода – хочу иду, хочу не иду – несмотря ни на что таит в себе какой-то холодок отрешенности.
Проблема одежды сильно занимала его в преддверии 1-го сентября. Тужурку он мысленно себе уже присмотрел. Но надо было еще обдумать штаны, – ведь на Высших курсах («Высших девичьих курсах», как он их для себя обозначил и постоянно повторял) будет отделение – он знал это доподлинно и уже назвал его «Кройки и шитья» – на самом деле – «Моды и дизайна», и он представил, прикинул, как будущие закройщицы-теоретики окинут критическим взором его ретро-штаны, если он задумает в них явиться, поэтому решил выбрать нечто нейтральное. «Не бросаться сразу в глаза, вот что должно быть главным», – шептал он себе.
Появился он перед дверями университета, но оказалось, что надо идти на задний двор, где ожидалось построение по факультетам и по группам. Встретило его нечто торжественное и как будто организованно-скомикованное: играл какой-то полковой – так ему показалось – оркестр, и маршировали ряды гусарских девушек в красной униформе, белых лосинах и, по-видимому, черных киверах (не старшекурсницы ли переодетые? – еще подумал он). Грозди воздушных шаров заслонили часть неба. В промежутках между музыкой выступали заслуженные люди, профессора и преподаватели университета, призывая студентов и студенток будущих особенно не напрягаться, но всем своим существом – вольно и свободно устремиться к учебе и в учение. Порадовался он, что не надо ему быть по ту сторону трибуны, потому что к своим профессорским обязанностям должен был приступить он лишь в конце недели. С верхних этажей из окон и с балконов выглядывали местные жители – обитатели зданий, в которые переходил тут же университет.
С Осли они довольно долго – минут пятнадцать – обсуждали его профессорское имя. «Ты ведь можешь носить научный псевдоним, – сказал ему Ослик. – Понятно, что как студент с документом ты обязан быть под своей фамилией, но в качестве профессора можешь присвоить себе нечто иное и звучное. Диогена мы уже с тобой обдумали, но взять фамилию Диогенский или Диогенов, или даже Диогенов-Лаэртов было бы вычурно и претенциозно. Почему бы тебе не попробовать взять фамилию Виноградов или Виноградский?»
– Тогда уж лучше Вертоградский… «Вертоград моей сестры»… возьму-ка я имя Вертоградов – в этом есть хорошая примесь «ретрограда», – это старое благородное вино имени, его приятно поднести ко рту.
– Профессор Вертоградов, или все-таки Вертоградский, – тут же серьезно произнес Осли, – как Вы назовете свой лекционный курс, да и вообще – о чем он будет?
– Хотел я сказать… назвать его «Взгляд и нечто»… и понял вдруг, что в этом суть… именно, именно так… назвать его «Зрение и ничто»… «Свет и бытие» – вот тема, которая все объединит…. «Consonantia et Claritas» – «Пропорция и сияние»… все, все осветится, все философские века… Зенона с его черепахой… достижение-недостижение… то, что ты хотел… но все эти проблемы бесконечности, может, перенесем на попозже?… взаимоотношения Зенона со своим старшим другом – так выразимся – Парменидом…. Платоническая традиция пиров, симпозиумов… а также Сапфо, Лесбос и т. д. … перенесем на весенний семестр…
– Нет, не перенесем, – заверил его Осли, – надо здесь раскрываться сразу, ничего не откладывая на полгода. Зачем? Да и Курсы могут закрыть в любой момент.
Только оказавшись на первом семинаре в своей студенческой группе, он понял, что новая учебная его жизнь будет наполнена неизвестными еще трудностями. С самого начала он выбрал себе способ присутствия – в аудитории, почти сплошь состоящей из женщин. Впрочем, способ такой не отличался от его всегдашнего – в любой учебной комнате он тут же первым занимал задний ряд, – «быть на задней парте» (на Камчатке, Сахалине, Хохландии – он смутно помнил, что так в гимназические времена называли эти любимые учебные места), – хотя парт-то уже не было, были современные столы и легкие стулья, – занять сразу стратегический пункт, чтобы оттуда, оставаясь почти что («в меру», как он сам обозначил это) незаметным, наблюдать происходящие события. Там на заднем ряду, за одним столом он обнаружил и своего товарища – вечно спящего, как сразу он определил, инфантильного, почти подростка, юношу. Оказалось, что из двенадцати человек в группе их – представителей мужского пола – только двое. Тот сразу протянул ему вялую ладонь для рукопожатия, но больше никаких движений не совершал и участия в семинарском занятии не принимал. Это был какой-то сонный вундеркинд, почти ребенок, он почти все время почему-то дремал, затаившись на заднем ряду. С аутистом, как он для себя его сразу назвал, не было надежды найти хотя бы простые (не говоря о доверительных) отношения. Приходилось, к тому же, быть все время настороже, чтобы не выдать – излишними знаниями или невежеством – свой истинный возраст. «Понятное дело, – подумал он, – его одногруппник тоже попал сюда по протекции, да и как иначе попадают молодые люди на Высшие женские курсы. Наверное, отчаявшиеся родители решили: пусть лучше уж женское получит образование, чем никакого», – так думал он о судьбе этого юноши.
Девушки лишь иногда оглядывались назад, причем некоторые с явным удивлением, – оглядывались на задний ряд, на котором расположились они. Студентки смотрели на них как на нечто инородное и подозрительное в их единой среде. Понятно, что юноши их влекли, хотя пока им надо было осмотреться и разобраться на новом учебном месте. Но чувствовал он, что, по сути, один здесь мужского пола – «рода», как он себя обозначал «грамматически», – один в своем роде и числе.
На первом ряду он сразу – и, странно, он не удивился факту – различил ее силуэт – так ему показалось, что это именно ее затылок темных волос (почему он так решил, непонятно), – этот контур, овал ее головы, который он видел сейчас с заднего ряда, почему-то напомнил тот силуэт, который виделся ему тогда в зеркале, и с тех пор не исчезал в его глазах. Сейчас, как и тогда, он не мог видеть ее лица. Она не оборачивалась, иногда только слегка поворачивала свое лицо, так что можно было увидеть лишь начальный силуэт носа и высокие надбровья («тес профиля» – как он для себя назвал и определил это).
Первое семинарское занятие был посвящено латыни, и он понял, что оказался профаном в девичьей просвещенной, далеко ускакавшей вперед аудитории. Многие девушки пришли, по-видимому, из гимназии, где уже изучали древние языки, которые в недавнем прошлом были мертвы, но, как оказалось, все же опять живые. Так что он и полусонный юноша оказались чуть ли не единственными, кто лишь понаслышке знал о латинском языке. Но преподавательница сразу заявила, что никаких поблажек не будет, делений на слабых и сильных не потерпит, и хотя они начинают изучать язык как бы с самых азов (что прозвучало странно применительно к латыни), но все будет настолько интенсивно и быстро, что, если кто-то не включится, то… – тут она сделала паузу и попыталась пробить взором дальний ряд, где затаился он и где дремал его новый товарищ по полу и образованию. Не получив никакого отклика, она приступила к занятиям, причем некоторые девушки разговаривали с ней на вполне сносной латыни, и она отвечала им так же, ничуть не беспокоясь, что некоторые могут не понять ни слова.
Он напрягал все свое чутье и интуицию, и некоторые надерганные сведения – в основном из латинских пословиц и поговорок, – которыми иногда любил сорить в кругу друзей, но, по правде, не понимал ничего или почти ничего. Повторяя кратко все, что было известно, они начали с фонетики, но все шло в таком бесперебойном и бойком ритме, и многие просто вновь входили в школьный материал, так что он почти ничего не улавливал. Причем эта грозная (так он почему-то решил) девушка с первой парты принимала самое непосредственное участие в беседе. Заметил он, что другие студентки прислушиваются к ее репликам и даже замолкают, когда она что-то произносит. Стал он склоняться к мысли, что она является старостой группы. Возможно, это было для всех очевидно, но при первой перекличке он так волновался, что почти не слышал имен, да и свое-то с трудом разобрал. По-видимому, называли и ту, которая должна была быть старостой, но он ничего не запомнил.
Дошли они в своем повтореньи и до латинских падежей, и он еще раз увидел эту девушку их группы, которую сразу выделил вниманием из толпы первого ряда.
Показалось ему также, что некоторые девушки знают друг друга – не со школы ли? Или пришли сюда по согласию. Не привела ли их она? – подумал он. В какой-то момент напряженного разговора эта студентка повернулась вдруг к перешептывающимся подругам – по-видимому, подругам, и что-то произнесла по-латыни резко и достаточно громко. Девушки на секунду примолкли, затем тихо засмеялись, – потом одна подняла палец и произнесла тихо, но достаточно внятно: