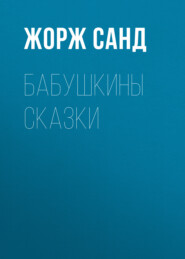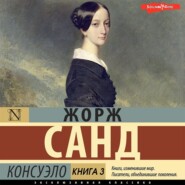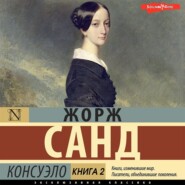По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странствующий подмастерье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да будет вам известно, мастер Пьер, что сын мой служит в управлении шоссейных дорог! – закричал господин Лербур, побагровев от досады.
– Охотно верю, – сказал, улыбаясь, Пьер, – но будь ваш сын сейчас здесь, он сам бы увидел, что ошибся, и начертил бы план заново.
– Уж не вы ли собираетесь ему указывать как, господин умник?
– На это ему указал бы его собственный здравый смысл, господин управляющий, тогда я мог бы точно следовать этому плану.
Папаша Гюгенен тихонько ухмылялся в седую бороду; он был в восторге: сын мстил господину Лербуру за те намеки, которые тот позволил себе в отношении бывшего Кассия.
– Ну-ка, поглядим, что за план, – сказал он с видом знатока и, вытащив из кармана своей длинной, доходящей до самых колен рабочей куртки роговые очки, оседлал ими нос и внимательно стал рассматривать чертеж, хотя ровно ничего в нем не понимал. Чертежи всегда были для старого мастера книгой за семью печатями, он относился к ним с презрением, но на этот раз чутьем понял, что прав его сын, и уверенно заявил, что план действительно не годится, это сразу же бросается в глаза. Он говорил так уверенно, что Пьер уже было подумал, не научился ли отец в его отсутствие читать чертежи, когда заметил, что тот держит план вверх ногами, и поспешил забрать у него бумагу, опасаясь, как бы управляющий, который, впрочем, и сам был не слишком сведущ в подобного рода материях, этого не заметил.
– Ваш уважаемый сынок, может, и весьма смышлен по части всяких там шоссейных дорог, – говорил папаша Гюгенен усмехаясь, – но только я что-то не слыхивал, чтобы на дорогах часто строили лестницы. Знай сверчок свой шесток! Так-то, господин Лербур, не в обиду будь вам сказано!
– Так, значит, вы не беретесь делать эту лестницу? – спросил господин Лербур, обращаясь к одному только Пьеру.
– Нет, почему же, берусь, – мягко ответил Пьер. – Только план я начерчу новый, хотя и в том же роде. Вот здесь будут дубовые перила с ажурною резьбой и скульптурными украшениями такого же стиля, что и на этих деревянных сводах.
– Так вы к тому же еще и скульптор? – колко спросил Лербур. – Выходит, на все руки мастер?
– О нет, далеко не на все, – простодушно отозвался Пьер и вздохнул. – Я многого не умею даже из того, что мне следовало бы уметь. Но попробуйте испытать меня, может быть, я вам угожу, и тогда вы простите меня за то, что я осмеливался вам перечить. Мне не хотелось вас обидеть, даю вам слово. Если бы нужно было строить мост или дорогу прокладывать, я рад был бы поработать под началом у господина Изидора и, уверен, многому бы у него научился.
Несколько смягчившись, господин Лербур согласился в конце концов выслушать суждения Пьера о недостатках в чертеже лестницы. Объяснение это, сделанное как нельзя более мягким тоном, оказалось столь ясным, что папаша Гюгенен сразу же все понял, ибо благодаря многолетней практике и врожденному здравому смыслу превосходно разбирался в своем ремесле. Зато господин Лербур, который так же мало смыслил в теории, как и в практике, обливался потом, силясь понять хоть что-нибудь в словах Пьера. В конце концов они сошлись на том, что Пьер сделает новый чертеж и чертеж этот будет показан архитектору, пользующемуся доверием семейства де Вильпрё.
Господину Лербуру пришлась по вкусу мысль проверить таким образом молодого столяра, прежде чем поручать ему работу. Разговор о смете и вознаграждении за труд решено было отложить до заключения архитектора.
По пути домой отец не сказал сыну ни единого слова. До вечера было еще далеко, и они вернулись к оставленной работе. Папаша Гюгенен передавал сыну доски, тот их обстругивал. Держался он без малейшего признака высокомерия, так же, как и обычно. Зато старик отдавал свои распоряжения менее самоуверенным тоном, да и с сыном разговаривал как-то более уважительно, нежели прежде. Он снизошел даже до того, что спросил у Пьера, оправдывает ли себя способ обработки, который тот применял при обстругивании некоторых досок.
– Ваш способ не хуже, – ответил ему на это Пьер.
– Но твой все-таки лучше? – продолжал допытываться старый мастер.
– Мне просто так легче, – ответил Пьер.
– Значит, ты считаешь все же, что мой способ хуже? – не отставал от него папаша Гюгенен.
– Вовсе нет, – ответил юноша, – у вас получается то же самое, только тратите вы на это немного больше времени и труда, вот и все.
Старый мастер понял деликатную критику и скривил было губы, но одобрительная усмешка тут же стерла эту невольную гримасу обиды.
После ужина Пьер взялся за дело. Он нашел карандаш, вооружился линейкой и циркулем, вытащил из своей папки большой лист бумаги, провел на нем ряд линий, потом принялся соединять прямые с кругами и полукружиями, развертывать проекции, и к полуночи план был готов. Папаша Гюгенен, который притворялся, будто дремлет, сидя у очага, украдкой через плечо сына следил за его работой. Но когда он увидел, что Пьер закрывает свою папку и, ни слова не говоря, собирается ложиться спать, старик не выдержал.
– Пьер, – произнес он немного сдавленным голосом, – не много ли ты берешь на себя? Ты что же, и вправду уверен, что лучше понимаешь в этих делах, нежели сынок господина Лербура, который обучался в разных там заведениях, а теперь состоит на государственной службе? Нынче утром, когда ты растолковывал, в чем его ошибки, мне показалось, что ты прав, хотя слова ты употреблял такие, каких я сроду не слыхивал. Но одно дело судить другого, а иное – сделать самому. Откуда ты знаешь, что ты не напутал чего-нибудь во всех этих линиях, какие начертил здесь, на бумаге? Вот как наложишь одно на другое да приладишь, тут оно сразу видно, так ты сделал или не так. Даже если и ошибешься – беда не так уж велика: пропал день да дерево зря извел, только и всего. Переделаешь потихоньку, никто ничего не заметит, и все в порядке. А здесь – проведи ты не так одну какую-нибудь черту, как все эти милые господа ученые, к которым ты так льнешь, поднимут крик: ничего, мол, он не знает, ничего не умеет – и прости-прощай твое доброе имя. А ты ведь только начинаешь. Возьмем хотя бы меня; я сорок лет уже занимаюсь этим ремеслом, и ничего, слава богу: и люди уважают и заказами не обижен. А ошибись я в свое время хоть разок на бумаге – пиши пропало! Потому я никогда и не тягался с теми, кто воображал, будто знает больше меня. Я шел себе спокойно своей дорожкой и жил всегда по пословице: «Мастера узнают по работе». Берегись, сынок, смири свою гордыню!
– Гордыня здесь ни при чем, дорогой отец, – отвечал Пьер, – я ведь вовсе не хочу кого-то унизить или набить себе цену. Но есть вещи неоспоримые, существующие помимо нас, и никакая зависть, никакая гордость над ними не властны. Это истины, основанные на расчетах и опыте. Всякий, кто понял это и хоть раз применил их на деле, никогда не станет работать иначе. Способ, которым работаете вы, я уже говорил вам это давеча, способ хороший, потому что вам всегда удается осуществить задуманное. Чем больше я присматриваюсь к тому, как вы работаете, отец, тем больше вами восхищаюсь: каким же умом, какой сообразительностью, какой сноровкой надобно обладать, какая должна быть память, чтобы, не зная геометрии, делать все так, как делаете это вы. Вас, с вашим талантом, теория уже ничему научить не может. Но вам понятна станет благодетельная роль теории, если я скажу, что с ее помощью самый тупой из ваших учеников в короткий срок может усвоить наше ремесло. Разумеется, искусства вашего он не достигнет, но зато никогда и не ошибется, и ему не нужно будет для этого проработать сорок пять лет подряд. Всякая точная наука – не что иное, как результат практического опыта всех людей, обобщенного и истолкованного посредством специальных терминов, которых вы зря пугаетесь, потому что с помощью этих точных терминов рабочие приемы усваиваются легче, чем при том обучении на глазок, которое принято у нас. Умей вы в свое время чертить, вы бы уже в двадцать лет умели делать то, что усвоили лишь к сорока ценою упорного труда, и свой недюжинный ум могли бы направить на что-либо другое.
– В твоих словах есть доля правды, – сказал папаша Гюгенен, – да только что с того? Ты думаешь, управляющий обрадуется, если окажется, что его сынок дал маху? Только рассердится, а работу, о которой утром толковали, отдаст кому-нибудь другому.
– Ведь ему важно угодить своим господам. Вспомните, отец, господин де Вильпрё – человек горячий, требовательный, расчетливый; Лербур прекрасно понимает, что работа должна быть выполнена хорошо, но недорого. Потому-то он к вам и обратился, даром что терпеть не может бывших патриотов. Не бойтесь, работа в замке достанется вам, тем более что архитектор, конечно, скажет ему, что вы работаете лучше многих.
Папаша Гюгенен, успокоенный разумными доводами сына, уснул безмятежным сном, а спустя три дня его уже вызвали в замок для разговора с архитектором, прибывшим сюда, чтобы осмотреть все собственными глазами и составить смету предстоящих владельцу расходов.
Архитектор с самого начала был склонен решить спор в пользу более влиятельной стороны, то есть господина Лербура и его отпрыска, а потому, быстро бросив взгляд на оба чертежа, сразу же воскликнул:
– Тут и говорить не о чем, план вашего сына превосходен, любезный мой Лербур! Ну а ваш, милейший Пьер, ваш, увы, хромает на все четыре ноги! – С этими словами он небрежно отбросил чертеж чиновника управления шоссейных дорог, совершенно уверенный, что это план столяра.
– Позвольте, сударь, – с обычным спокойствием проговорил Пьер, – план, который вы отбросили, вовсе не мой. Соблаговолите взглянуть на тот, что у вас в руках: там на последней ступеньке лестницы мелкими буквами значится мое имя.
– Черт возьми, верно! – воскликнул архитектор, весело расхохотавшись. – Что ж, мне очень жаль, мой бедный Лербур, но сынок ваш явно ошибся в расчетах. Ну ладно, не огорчайтесь, это со всяким может случиться. А ты, дружок, – и, повернувшись к Пьеру, он похлопал его по плечу, – свое дело знаешь и, если работаешь так же хорошо, как и чертишь, не пропадешь. План сделан с большим вкусом и разумением, – продолжал он, вглядываясь в чертеж, – лестница будет и удобной и красивой. Берите-ка этого столяра и не раздумывайте, почтенный Лербур, от добра добра не ищут, неизвестно еще, на кого нападете, если станете выписывать мастера издалека.
– Я и без того собирался это сделать, – ответил Лербур с невозмутимостью истинного дипломата. – Я умею ценить таланты и отдавать должное достойнейшему, кто бы он ни был. Мой сын в геометрии человек весьма сведущий, но он так молод, так горяч…
– Ну, разумеется, разумеется, думал небось о какой-нибудь красоточке, пока чертил, – сказал архитектор. – Собой он недурен, наверно от них отбоя нет…
Управляющий захихикал своим деревянным смехом, напоминающим звук трещотки, в ответ ему, словно колокол, загудел густой смех архитектора. Исчерпав весь свой запас соленых шуток, они приступили к составлению общей сметы, между тем как столяры подсчитывали стоимость своей работы. Цены называл Пьер и, хотя господин Лербур отчаянно торговался, твердо стоял на своем. Впрочем, цены он назначал весьма умеренные, и папаша Гюгенен, предвидевший, что управляющий еще заставит их сократить, в душе сетовал на неопытность сына, не знающего, как дела делаются. Однако Пьер твердо стоял на своем, и архитектор, вынужденный признать, что лишнего он не запрашивает, разрешил наконец спор, прошептав управляющему на ухо:
– Соглашайтесь-ка лучше, а то как бы старик не раздумал.
И договор был подписан. Архитектор пообещал самолично проверить работу по ее окончании. В итоге старый мастер был отнюдь не в проигрыше, особенно если вспомнить, что при существующем еще пока порядке вещей интересы рабочего всегда приносятся в жертву предпринимателю.
– Ну, – сказал он сыну по пути домой, – ты, как видно, и вправду мастер на все руки. Первый раз в жизни со мной такое случается: сколько запросил, столько и получу.
Глава IV
Спустя неделю отец и сын Гюгенены, полностью рассчитавшись со своими деревенскими заказчиками, водворились в часовне и приступили к работе. В Париже в подобных случаях мастера имеют обыкновение почти всю работу делать у себя на дому, а на месте лишь устанавливают и пригоняют уже готовые части. Но в усадьбах и замках само ремонтируемое помещение нередко превращается в мастерскую, где вся работа производится с начала до конца.
Обычно Пьер поднимался на рассвете. Первые лучи солнца только еще начинали золотить верхушки деревьев парка, а он уже стоял в часовне со своим циркулем, делая разметку на дубовой резной панели, и когда ученики с еще припухшими от сна глазами вбегали в мастерскую, каждому приготовлена была его часть дневной работы.
Однажды вечером Пьер задержался в часовне допоздна; внимательно всматриваясь в резьбу панели, он мелом намечал на ее почерневшей от времени поверхности очертания орнаментов, которые предстояло восстановить, и так углубился в это занятие, что не заметил, как наступила ночь. В мастерской уже никого не было. Отец вместе с учениками давно ушел домой, все замковые ворота были заперты, а во дворах спущены сторожевые псы. Бдительный управляющий, с удивлением заметив среди полной темноты пробивающийся сквозь окно часовни свет, поспешил туда со связкой ключей в одной руке и потайным фонарем – в другой.
– Как, это вы, мастер Пьер? – воскликнул он, осторожно заглядывая через полуоткрытую дверь. – Неужто вам дня мало?
Но когда Пьер объяснил, что ему надо поработать еще около часа, господин Лербур совершенно успокоился и отправился к себе предаваться отдыху, наказав столяру не забыть перед уходом задуть лампу и хорошенько запереть двери. Уходя, он дал Пьеру ключик от одной из калиток парка.
Пьер поработал еще часа два и, покончив наконец с затруднявшими его расчетами, уже собрался было домой, когда услышал, как на замковых часах бьет два часа. И Пьер подумал, что если его возвращение из замка в столь поздний час будет замечено в деревне, это вызовет всякие пересуды. Ему не хотелось окончательно прослыть чудаком, и без того уже его страсть к учению создала ему такую репутацию. К тому же через несколько часов должны были прийти ученики, их следовало встретить и распределить между ними работу; если он сейчас уйдет домой, то может легко проспать. И Пьер решил провести остаток ночи в мастерской на куче опилок и стружек. Ложе оказалось достаточно мягким. Под голову он подложил свою куртку, а укрылся рабочей блузой. Однако уже перед рассветом через окна, из которых вынуты были рамы, стала проникать утренняя сырость, и Пьер, – а его еще днем изрядно просквозило, пока он стоял на лестнице, – почувствовал, что совсем закоченел. Он поглядел вокруг, ища, чем бы ему еще накрыться, и взгляд его упал на старый ковер, прикрывавший ту маленькую дверь, о которой шла речь в предыдущей главе нашего повествования. Дверь была теперь снята с петель для починки, ее заменял ковер. Пьер взобрался по лестничке на хоры, чтобы взять этот ковер, и тут только вспомнил, что предусмотрительный управляющий накрепко прибил его со всех сторон к стене, дабы ни пыль, ни чей-нибудь дерзкий взгляд не могли проникнуть в заветный кабинет мадемуазель де Вильпрё.
Пьер вспомнил также, какой многозначительный вид был у господина Лербура в тот день, когда он не позволил ему даже приоткрыть эту дверь, чтобы разглядеть резьбу на противоположной ее стороне. И непреодолимое любопытство вдруг овладело им, но не то пошлое, праздное любопытство, что свойственно натурам ограниченным, а та жажда нового, которая присуща человеку с живым воображением, не получающим всего того, что могло бы быть ему доступно.
«Наверно, в кабинете этой самой барышни из замка собраны разные произведения искусства, которые будут потом перенесены в залу, – подумал он, – не иначе, как там полно всяких книг и картин, и, уж конечно, – а для меня это самое интересное, – там есть и редкая, старинная мебель. А что, если взглянуть? Для этого достаточно вытащить два-три гвоздика. Ведь не шпион же я, не вор какой-нибудь. И чем может дыхание моей груди, взгляд моих глаз, благоговеющих перед прекрасным, осквернить это святилище?»
И Пьер решился. Быстро вытащив с одной стороны гвозди, он откинул край ковра и вошел. Кабинет мадемуазель де Вильпрё помещался в небольшой полукруглой ротонде, занимавшей третий этаж одной из башенок замка. Это была прелестная комната, освещенная широким окном, откуда открывался вид на далеко простирающиеся сады, леса и поля. Все убранство комнаты говорило об изысканном вкусе ее хозяйки. Прекрасный турецкий ковер, узорчатые шелковые занавеси, старинные гравюры в роскошных рамах, мольберт, красивый ларь эпохи Возрождения, такого же стиля поставец, слепки, книги, распятие, позолоченная, раскрашенная старинная лютня, череп, китайские вазы и еще множество других примет современного вкуса – того особого ученого, изысканного и эксцентрического стиля, который требует бесцельного, беспорядочного нагромождения старинных предметов различных времен и под видом почитания прошлого выражает непочтение к настоящему. Такова была кунсткамера, представшая взору молодого рабочего. В ту пору интерес к разного рода редкостям не проник еще в обыденную жизнь. Лавка со старым хламом не превратилась еще в неизбежную принадлежность парижских улиц, какой она сделалась теперь даже на окраине, подобно булочной или вывеске на винной лавке. Считалось хорошим тоном разыскивать эти остатки потускневшей роскоши наших предков на набережных Сены. Не так просто, как в наши дни, было найти искусных мастеров-реставраторов. Все, что в свое время было похищено из бывших дворцов или изгнано Империей, объявившей моду на все греческое и римское, еще оставалось в лачугах или валялось по чердакам, откуда всего несколько лет тому назад их стала являть на свет волшебная палочка современной моды. Никому не приходило тогда в голову сомневаться в подлинности этих вещей, ибо их не научились еще так искусно подделывать; наконец, они стоили дороже, потому что считались очень редкими. Окружать себя такими разнородными предметами и жить среди пыли прошлого было модой, притом модой изысканной и распространенной лишь в высших слоях общества или среди изысканных художников. Отсюда-то и пошли в литературе всякие кубки, старинные ларцы и шкафики, подробные перечни домашней утвари и воинских трофеев, восторженные описания кольчуг, кинжалов и щитов и всякие иные увлечения в искусстве, ребяческие, но плодотворные, которые во все времена призваны были забавлять и разорять людей богатых, праздных и тех, кто им подражает, вроде нас с вами.
На простодушного Пьера все эти безделушки произвели огромное впечатление; он вообразил, что мадемуазель де Вильпрё – особая, артистическая натура, что она единственная на свете барышня, способная сидеть на стуле времен Карла Девятого[8 - …времен Карла Девятого… – Французский король Карл IX правил с 1560 по 1574 г.] и отваживающаяся держать череп среди своих кружев и лент. Его восхищала эта девушка, которую, как ему теперь смутно припоминалось, он видел когда-то ребенком, и он чувствовал себя вдвойне счастливым при мысли, что благородный труд, предстоявший ему в часовне, будет совершаться под покровительством той, кто способна оценить по достоинству его искусство. Затем он долго, с наслаждением вглядывался в гравюру Моргена[9 - Морген Рафаэль (1758–1833) – итальянский гравер.] – то была «Мадонна на стуле» Рафаэля, и юная хозяйка замка вдруг представилась ему именно такой – ангельски доброй и сильной. Взволнованный, восхищенный, он позабыл обо всем на свете и остался бы здесь до самого вечера, когда бы не шум, раздавшийся неожиданно за окном, – то шли по аллеям парка, насвистывая, ученики, спешившие в мастерскую. И Пьер поскорее выбрался из башенки и вернулся в мастерскую, не забыв предварительно вновь приколотить ковер.
С этого дня господин Лербур не раз спрашивал у него, когда же дверь в комнату мадемуазель де Вильпрё будет наконец починена и навешена. Управляющий начал даже гневаться: он говорил, что через ковер туда проникает пыль, что, того и гляди, приедут господа, и барышня будет крайне недовольна, если ей сразу же по приезде нельзя будет запереться у себя в башенке, потому что это ее самая любимая комната, словом – что дверь надлежит навесить незамедлительно; он то ласково просил, то грозно требовал, негодующе вращая своими маленькими глазками. Пьер всякий раз обещал, но сам и не думал выполнять обещание. Он так искусно запрятал эту дверь среди досок, что никто, кроме него, не мог бы ее там найти. К тому же остальная работа так и кипела, и господин Лербур просто не осмеливался слишком выказывать свой гнев.
А дело было в том, что Пьер уже не однажды оставался в башенке далеко за полночь; часами простаивал он в немом восторге перед какой-нибудь гравюрой, слепком или старинной мебелью. Но больше всего манили его красивые, с золотым тиснением, корешки книг, мерцавшие на полках небольшого старинного шкафика черного дерева. Ему стоило только протянуть руку, чтобы удовлетворить свое любопытство, но что-то удерживало его. У него было такое чувство, словно он злоупотребит чьим-то доверием, если коснется этих роскошных переплетов своими загрубевшими от работы руками. Но однажды в воскресенье, когда в замке никого не было, даже господина Лербура, Пьер все же поддался искушению. По воскресным дням он ходил особенно чисто одетым, потому что обладал врожденным чувством изящного и малейшее пятнышко на одежде, слегка запачканные руки или волосы беспокоили его гораздо больше, чем это, быть может, следовало ожидать от благоразумного ремесленника. Он взглянул на себя в высокое зеркало, стоявшее в кабинете, и, убедившись, что одет он хоть и более скромно, чем одеваются буржуа, но все же вполне прилично, решился наконец взять с полки книгу и раскрыть ее. Это оказался «Эмиль»[10 - «Эмиль, или О воспитании» (1762) – педагогический роман Ж.-Ж. Руссо.] Жан-Жака Руссо, которого Пьер знал чуть ли не наизусть. Он раздобыл его в свое время в Лионе и читал ночами с несколькими подмастерьями, с которыми близко сошелся в пору своего хождения по Франции. На той же полке Пьер обнаружил «Мучеников» Шатобриана[11 - Шатобриан Франсуа-Рене (1768–1848) – французский писатель. Его эпопея «Мученики, или Торжество христианства» (1809) рассказывает о гонениях на христиан в IV в.], томик трагедий Расина, «Жития святых», письма госпожи де Севинье[12 - Де Севинье Мари (1626–1696) – великосветская дама. Ее письма к дочери получили признание как образец эпистолярного жанра.], «Общественный договор»[13 - «Общественный договор», точнее – «Об Общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) – социально-политическое сочинение Жан-Жака Руссо.], «Республику»[14 - «Республика». – Имеется в виду сочинение Платона «Государство», посвященное исследованию природы общественной справедливости и наилучших форм государственного устройства.] Платона, несколько томов «Энциклопедии»[15 - «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» – 33-томное издание, осуществленное во второй половине XVIII в. группой французских философов и ученых во главе с Д. Дидро и Ж.-Л. д’Аламбером.], различные исторические сочинения и много других книг, которые довольно странно было видеть рядом. Ему понадобилось три месяца, точнее – двенадцать воскресений, а всего часов шестьдесят, чтобы залпом проглотить большую часть этих сочинений, хотя читал он не подряд, а только просматривал, стараясь схватить самую суть. Эти часы, не раз говорил он впоследствии, были лучшими в его жизни. Некий романический привкус, сопровождавший это чтение, делал для него еще пленительнее поэтичность одних книг и придавал особую значительность другим. Но более всего захватывали его те, в которых он обнаруживал философские рассуждения, касающиеся истории законодательств. Он жадно искал в них объяснение великой загадки возникновения в обществе обособленных классов и находил подтверждение тем мыслям, которые возникали у него прежде под влиянием двух-трех популярных брошюр и отзвуков политической борьбы, доносившихся до него издалека. Как много знаний мог бы он почерпнуть из этих книг, как обогатил бы свои понятия и представления, будь у него больше времени! Но ему надо было работать, а между тем, проведя в башенке несколько бессонных ночей, Пьер заметил, что днем у него болит голова и немеют руки. И он решил отказаться в будние дни от этих духовных наслаждений, тем более что всякий раз опасался, как бы его рабочие башмаки не оставили на полу кабинета какой-нибудь след. Он был бы просто в отчаянии, если бы от прикосновения его рук на тонких страницах этих прекрасных книг осталось хоть какое-нибудь пятнышко. Что таилось за этими детскими опасениями? Он и сам бы не мог объяснить эту причуду, если бы его спросили об этом. Какие-то странные, смутные мысли неотступно бродили в его мозгу. Он ощущал в себе некое благородство чувств, благородство куда более истинное и высокое, нежели то, что даруется и освящается действующими в мире законами. Вынужденный постоянно подавлять порывы своей воистину аристократической души, жившей в его теле ремесленника, он безропотно подчинялся необходимости, проявляя стойкость и самообладание, лишний раз свидетельствующие о благородстве его натуры. Но в те тайные часы, что он проводил в башенке на турецком диване, непринужденно облокотившись на бархатные подушки, глаза его могли созерцать простирающийся перед окнами прелестный пейзаж, вся поэтичность которого выступала для него тем явственнее, чем больше поэзия раскрывала перед ним мудрость Творца, чьим зримым проявлением является мироздание. И в эти минуты Пьер начинал чувствовать себя царем вселенной; но тут взгляд его падал на зеркало, он видел в нем свое озабоченное лицо, свои огрубевшие, обветренные руки – это неистребимое клеймо раба; и горькие слезы исторгались из глаз его. И, упав на колени, он воздевал руки к небу, моля ниспослать ему терпение, моля о справедливости к своим собратьям, навеки обреченным в этом мире на одиночество, невежество и нищету.
Глубокие волнения ума, испытанные Пьером при чтении сочинений исторических, сменились восторгами пленительного вымысла: в руки ему попали романы Вальтера Скотта. Вы скоро узнаете, какая опасность таилась в этих наслаждениях и какое влияние оказало на него чтение книг.
– Охотно верю, – сказал, улыбаясь, Пьер, – но будь ваш сын сейчас здесь, он сам бы увидел, что ошибся, и начертил бы план заново.
– Уж не вы ли собираетесь ему указывать как, господин умник?
– На это ему указал бы его собственный здравый смысл, господин управляющий, тогда я мог бы точно следовать этому плану.
Папаша Гюгенен тихонько ухмылялся в седую бороду; он был в восторге: сын мстил господину Лербуру за те намеки, которые тот позволил себе в отношении бывшего Кассия.
– Ну-ка, поглядим, что за план, – сказал он с видом знатока и, вытащив из кармана своей длинной, доходящей до самых колен рабочей куртки роговые очки, оседлал ими нос и внимательно стал рассматривать чертеж, хотя ровно ничего в нем не понимал. Чертежи всегда были для старого мастера книгой за семью печатями, он относился к ним с презрением, но на этот раз чутьем понял, что прав его сын, и уверенно заявил, что план действительно не годится, это сразу же бросается в глаза. Он говорил так уверенно, что Пьер уже было подумал, не научился ли отец в его отсутствие читать чертежи, когда заметил, что тот держит план вверх ногами, и поспешил забрать у него бумагу, опасаясь, как бы управляющий, который, впрочем, и сам был не слишком сведущ в подобного рода материях, этого не заметил.
– Ваш уважаемый сынок, может, и весьма смышлен по части всяких там шоссейных дорог, – говорил папаша Гюгенен усмехаясь, – но только я что-то не слыхивал, чтобы на дорогах часто строили лестницы. Знай сверчок свой шесток! Так-то, господин Лербур, не в обиду будь вам сказано!
– Так, значит, вы не беретесь делать эту лестницу? – спросил господин Лербур, обращаясь к одному только Пьеру.
– Нет, почему же, берусь, – мягко ответил Пьер. – Только план я начерчу новый, хотя и в том же роде. Вот здесь будут дубовые перила с ажурною резьбой и скульптурными украшениями такого же стиля, что и на этих деревянных сводах.
– Так вы к тому же еще и скульптор? – колко спросил Лербур. – Выходит, на все руки мастер?
– О нет, далеко не на все, – простодушно отозвался Пьер и вздохнул. – Я многого не умею даже из того, что мне следовало бы уметь. Но попробуйте испытать меня, может быть, я вам угожу, и тогда вы простите меня за то, что я осмеливался вам перечить. Мне не хотелось вас обидеть, даю вам слово. Если бы нужно было строить мост или дорогу прокладывать, я рад был бы поработать под началом у господина Изидора и, уверен, многому бы у него научился.
Несколько смягчившись, господин Лербур согласился в конце концов выслушать суждения Пьера о недостатках в чертеже лестницы. Объяснение это, сделанное как нельзя более мягким тоном, оказалось столь ясным, что папаша Гюгенен сразу же все понял, ибо благодаря многолетней практике и врожденному здравому смыслу превосходно разбирался в своем ремесле. Зато господин Лербур, который так же мало смыслил в теории, как и в практике, обливался потом, силясь понять хоть что-нибудь в словах Пьера. В конце концов они сошлись на том, что Пьер сделает новый чертеж и чертеж этот будет показан архитектору, пользующемуся доверием семейства де Вильпрё.
Господину Лербуру пришлась по вкусу мысль проверить таким образом молодого столяра, прежде чем поручать ему работу. Разговор о смете и вознаграждении за труд решено было отложить до заключения архитектора.
По пути домой отец не сказал сыну ни единого слова. До вечера было еще далеко, и они вернулись к оставленной работе. Папаша Гюгенен передавал сыну доски, тот их обстругивал. Держался он без малейшего признака высокомерия, так же, как и обычно. Зато старик отдавал свои распоряжения менее самоуверенным тоном, да и с сыном разговаривал как-то более уважительно, нежели прежде. Он снизошел даже до того, что спросил у Пьера, оправдывает ли себя способ обработки, который тот применял при обстругивании некоторых досок.
– Ваш способ не хуже, – ответил ему на это Пьер.
– Но твой все-таки лучше? – продолжал допытываться старый мастер.
– Мне просто так легче, – ответил Пьер.
– Значит, ты считаешь все же, что мой способ хуже? – не отставал от него папаша Гюгенен.
– Вовсе нет, – ответил юноша, – у вас получается то же самое, только тратите вы на это немного больше времени и труда, вот и все.
Старый мастер понял деликатную критику и скривил было губы, но одобрительная усмешка тут же стерла эту невольную гримасу обиды.
После ужина Пьер взялся за дело. Он нашел карандаш, вооружился линейкой и циркулем, вытащил из своей папки большой лист бумаги, провел на нем ряд линий, потом принялся соединять прямые с кругами и полукружиями, развертывать проекции, и к полуночи план был готов. Папаша Гюгенен, который притворялся, будто дремлет, сидя у очага, украдкой через плечо сына следил за его работой. Но когда он увидел, что Пьер закрывает свою папку и, ни слова не говоря, собирается ложиться спать, старик не выдержал.
– Пьер, – произнес он немного сдавленным голосом, – не много ли ты берешь на себя? Ты что же, и вправду уверен, что лучше понимаешь в этих делах, нежели сынок господина Лербура, который обучался в разных там заведениях, а теперь состоит на государственной службе? Нынче утром, когда ты растолковывал, в чем его ошибки, мне показалось, что ты прав, хотя слова ты употреблял такие, каких я сроду не слыхивал. Но одно дело судить другого, а иное – сделать самому. Откуда ты знаешь, что ты не напутал чего-нибудь во всех этих линиях, какие начертил здесь, на бумаге? Вот как наложишь одно на другое да приладишь, тут оно сразу видно, так ты сделал или не так. Даже если и ошибешься – беда не так уж велика: пропал день да дерево зря извел, только и всего. Переделаешь потихоньку, никто ничего не заметит, и все в порядке. А здесь – проведи ты не так одну какую-нибудь черту, как все эти милые господа ученые, к которым ты так льнешь, поднимут крик: ничего, мол, он не знает, ничего не умеет – и прости-прощай твое доброе имя. А ты ведь только начинаешь. Возьмем хотя бы меня; я сорок лет уже занимаюсь этим ремеслом, и ничего, слава богу: и люди уважают и заказами не обижен. А ошибись я в свое время хоть разок на бумаге – пиши пропало! Потому я никогда и не тягался с теми, кто воображал, будто знает больше меня. Я шел себе спокойно своей дорожкой и жил всегда по пословице: «Мастера узнают по работе». Берегись, сынок, смири свою гордыню!
– Гордыня здесь ни при чем, дорогой отец, – отвечал Пьер, – я ведь вовсе не хочу кого-то унизить или набить себе цену. Но есть вещи неоспоримые, существующие помимо нас, и никакая зависть, никакая гордость над ними не властны. Это истины, основанные на расчетах и опыте. Всякий, кто понял это и хоть раз применил их на деле, никогда не станет работать иначе. Способ, которым работаете вы, я уже говорил вам это давеча, способ хороший, потому что вам всегда удается осуществить задуманное. Чем больше я присматриваюсь к тому, как вы работаете, отец, тем больше вами восхищаюсь: каким же умом, какой сообразительностью, какой сноровкой надобно обладать, какая должна быть память, чтобы, не зная геометрии, делать все так, как делаете это вы. Вас, с вашим талантом, теория уже ничему научить не может. Но вам понятна станет благодетельная роль теории, если я скажу, что с ее помощью самый тупой из ваших учеников в короткий срок может усвоить наше ремесло. Разумеется, искусства вашего он не достигнет, но зато никогда и не ошибется, и ему не нужно будет для этого проработать сорок пять лет подряд. Всякая точная наука – не что иное, как результат практического опыта всех людей, обобщенного и истолкованного посредством специальных терминов, которых вы зря пугаетесь, потому что с помощью этих точных терминов рабочие приемы усваиваются легче, чем при том обучении на глазок, которое принято у нас. Умей вы в свое время чертить, вы бы уже в двадцать лет умели делать то, что усвоили лишь к сорока ценою упорного труда, и свой недюжинный ум могли бы направить на что-либо другое.
– В твоих словах есть доля правды, – сказал папаша Гюгенен, – да только что с того? Ты думаешь, управляющий обрадуется, если окажется, что его сынок дал маху? Только рассердится, а работу, о которой утром толковали, отдаст кому-нибудь другому.
– Ведь ему важно угодить своим господам. Вспомните, отец, господин де Вильпрё – человек горячий, требовательный, расчетливый; Лербур прекрасно понимает, что работа должна быть выполнена хорошо, но недорого. Потому-то он к вам и обратился, даром что терпеть не может бывших патриотов. Не бойтесь, работа в замке достанется вам, тем более что архитектор, конечно, скажет ему, что вы работаете лучше многих.
Папаша Гюгенен, успокоенный разумными доводами сына, уснул безмятежным сном, а спустя три дня его уже вызвали в замок для разговора с архитектором, прибывшим сюда, чтобы осмотреть все собственными глазами и составить смету предстоящих владельцу расходов.
Архитектор с самого начала был склонен решить спор в пользу более влиятельной стороны, то есть господина Лербура и его отпрыска, а потому, быстро бросив взгляд на оба чертежа, сразу же воскликнул:
– Тут и говорить не о чем, план вашего сына превосходен, любезный мой Лербур! Ну а ваш, милейший Пьер, ваш, увы, хромает на все четыре ноги! – С этими словами он небрежно отбросил чертеж чиновника управления шоссейных дорог, совершенно уверенный, что это план столяра.
– Позвольте, сударь, – с обычным спокойствием проговорил Пьер, – план, который вы отбросили, вовсе не мой. Соблаговолите взглянуть на тот, что у вас в руках: там на последней ступеньке лестницы мелкими буквами значится мое имя.
– Черт возьми, верно! – воскликнул архитектор, весело расхохотавшись. – Что ж, мне очень жаль, мой бедный Лербур, но сынок ваш явно ошибся в расчетах. Ну ладно, не огорчайтесь, это со всяким может случиться. А ты, дружок, – и, повернувшись к Пьеру, он похлопал его по плечу, – свое дело знаешь и, если работаешь так же хорошо, как и чертишь, не пропадешь. План сделан с большим вкусом и разумением, – продолжал он, вглядываясь в чертеж, – лестница будет и удобной и красивой. Берите-ка этого столяра и не раздумывайте, почтенный Лербур, от добра добра не ищут, неизвестно еще, на кого нападете, если станете выписывать мастера издалека.
– Я и без того собирался это сделать, – ответил Лербур с невозмутимостью истинного дипломата. – Я умею ценить таланты и отдавать должное достойнейшему, кто бы он ни был. Мой сын в геометрии человек весьма сведущий, но он так молод, так горяч…
– Ну, разумеется, разумеется, думал небось о какой-нибудь красоточке, пока чертил, – сказал архитектор. – Собой он недурен, наверно от них отбоя нет…
Управляющий захихикал своим деревянным смехом, напоминающим звук трещотки, в ответ ему, словно колокол, загудел густой смех архитектора. Исчерпав весь свой запас соленых шуток, они приступили к составлению общей сметы, между тем как столяры подсчитывали стоимость своей работы. Цены называл Пьер и, хотя господин Лербур отчаянно торговался, твердо стоял на своем. Впрочем, цены он назначал весьма умеренные, и папаша Гюгенен, предвидевший, что управляющий еще заставит их сократить, в душе сетовал на неопытность сына, не знающего, как дела делаются. Однако Пьер твердо стоял на своем, и архитектор, вынужденный признать, что лишнего он не запрашивает, разрешил наконец спор, прошептав управляющему на ухо:
– Соглашайтесь-ка лучше, а то как бы старик не раздумал.
И договор был подписан. Архитектор пообещал самолично проверить работу по ее окончании. В итоге старый мастер был отнюдь не в проигрыше, особенно если вспомнить, что при существующем еще пока порядке вещей интересы рабочего всегда приносятся в жертву предпринимателю.
– Ну, – сказал он сыну по пути домой, – ты, как видно, и вправду мастер на все руки. Первый раз в жизни со мной такое случается: сколько запросил, столько и получу.
Глава IV
Спустя неделю отец и сын Гюгенены, полностью рассчитавшись со своими деревенскими заказчиками, водворились в часовне и приступили к работе. В Париже в подобных случаях мастера имеют обыкновение почти всю работу делать у себя на дому, а на месте лишь устанавливают и пригоняют уже готовые части. Но в усадьбах и замках само ремонтируемое помещение нередко превращается в мастерскую, где вся работа производится с начала до конца.
Обычно Пьер поднимался на рассвете. Первые лучи солнца только еще начинали золотить верхушки деревьев парка, а он уже стоял в часовне со своим циркулем, делая разметку на дубовой резной панели, и когда ученики с еще припухшими от сна глазами вбегали в мастерскую, каждому приготовлена была его часть дневной работы.
Однажды вечером Пьер задержался в часовне допоздна; внимательно всматриваясь в резьбу панели, он мелом намечал на ее почерневшей от времени поверхности очертания орнаментов, которые предстояло восстановить, и так углубился в это занятие, что не заметил, как наступила ночь. В мастерской уже никого не было. Отец вместе с учениками давно ушел домой, все замковые ворота были заперты, а во дворах спущены сторожевые псы. Бдительный управляющий, с удивлением заметив среди полной темноты пробивающийся сквозь окно часовни свет, поспешил туда со связкой ключей в одной руке и потайным фонарем – в другой.
– Как, это вы, мастер Пьер? – воскликнул он, осторожно заглядывая через полуоткрытую дверь. – Неужто вам дня мало?
Но когда Пьер объяснил, что ему надо поработать еще около часа, господин Лербур совершенно успокоился и отправился к себе предаваться отдыху, наказав столяру не забыть перед уходом задуть лампу и хорошенько запереть двери. Уходя, он дал Пьеру ключик от одной из калиток парка.
Пьер поработал еще часа два и, покончив наконец с затруднявшими его расчетами, уже собрался было домой, когда услышал, как на замковых часах бьет два часа. И Пьер подумал, что если его возвращение из замка в столь поздний час будет замечено в деревне, это вызовет всякие пересуды. Ему не хотелось окончательно прослыть чудаком, и без того уже его страсть к учению создала ему такую репутацию. К тому же через несколько часов должны были прийти ученики, их следовало встретить и распределить между ними работу; если он сейчас уйдет домой, то может легко проспать. И Пьер решил провести остаток ночи в мастерской на куче опилок и стружек. Ложе оказалось достаточно мягким. Под голову он подложил свою куртку, а укрылся рабочей блузой. Однако уже перед рассветом через окна, из которых вынуты были рамы, стала проникать утренняя сырость, и Пьер, – а его еще днем изрядно просквозило, пока он стоял на лестнице, – почувствовал, что совсем закоченел. Он поглядел вокруг, ища, чем бы ему еще накрыться, и взгляд его упал на старый ковер, прикрывавший ту маленькую дверь, о которой шла речь в предыдущей главе нашего повествования. Дверь была теперь снята с петель для починки, ее заменял ковер. Пьер взобрался по лестничке на хоры, чтобы взять этот ковер, и тут только вспомнил, что предусмотрительный управляющий накрепко прибил его со всех сторон к стене, дабы ни пыль, ни чей-нибудь дерзкий взгляд не могли проникнуть в заветный кабинет мадемуазель де Вильпрё.
Пьер вспомнил также, какой многозначительный вид был у господина Лербура в тот день, когда он не позволил ему даже приоткрыть эту дверь, чтобы разглядеть резьбу на противоположной ее стороне. И непреодолимое любопытство вдруг овладело им, но не то пошлое, праздное любопытство, что свойственно натурам ограниченным, а та жажда нового, которая присуща человеку с живым воображением, не получающим всего того, что могло бы быть ему доступно.
«Наверно, в кабинете этой самой барышни из замка собраны разные произведения искусства, которые будут потом перенесены в залу, – подумал он, – не иначе, как там полно всяких книг и картин, и, уж конечно, – а для меня это самое интересное, – там есть и редкая, старинная мебель. А что, если взглянуть? Для этого достаточно вытащить два-три гвоздика. Ведь не шпион же я, не вор какой-нибудь. И чем может дыхание моей груди, взгляд моих глаз, благоговеющих перед прекрасным, осквернить это святилище?»
И Пьер решился. Быстро вытащив с одной стороны гвозди, он откинул край ковра и вошел. Кабинет мадемуазель де Вильпрё помещался в небольшой полукруглой ротонде, занимавшей третий этаж одной из башенок замка. Это была прелестная комната, освещенная широким окном, откуда открывался вид на далеко простирающиеся сады, леса и поля. Все убранство комнаты говорило об изысканном вкусе ее хозяйки. Прекрасный турецкий ковер, узорчатые шелковые занавеси, старинные гравюры в роскошных рамах, мольберт, красивый ларь эпохи Возрождения, такого же стиля поставец, слепки, книги, распятие, позолоченная, раскрашенная старинная лютня, череп, китайские вазы и еще множество других примет современного вкуса – того особого ученого, изысканного и эксцентрического стиля, который требует бесцельного, беспорядочного нагромождения старинных предметов различных времен и под видом почитания прошлого выражает непочтение к настоящему. Такова была кунсткамера, представшая взору молодого рабочего. В ту пору интерес к разного рода редкостям не проник еще в обыденную жизнь. Лавка со старым хламом не превратилась еще в неизбежную принадлежность парижских улиц, какой она сделалась теперь даже на окраине, подобно булочной или вывеске на винной лавке. Считалось хорошим тоном разыскивать эти остатки потускневшей роскоши наших предков на набережных Сены. Не так просто, как в наши дни, было найти искусных мастеров-реставраторов. Все, что в свое время было похищено из бывших дворцов или изгнано Империей, объявившей моду на все греческое и римское, еще оставалось в лачугах или валялось по чердакам, откуда всего несколько лет тому назад их стала являть на свет волшебная палочка современной моды. Никому не приходило тогда в голову сомневаться в подлинности этих вещей, ибо их не научились еще так искусно подделывать; наконец, они стоили дороже, потому что считались очень редкими. Окружать себя такими разнородными предметами и жить среди пыли прошлого было модой, притом модой изысканной и распространенной лишь в высших слоях общества или среди изысканных художников. Отсюда-то и пошли в литературе всякие кубки, старинные ларцы и шкафики, подробные перечни домашней утвари и воинских трофеев, восторженные описания кольчуг, кинжалов и щитов и всякие иные увлечения в искусстве, ребяческие, но плодотворные, которые во все времена призваны были забавлять и разорять людей богатых, праздных и тех, кто им подражает, вроде нас с вами.
На простодушного Пьера все эти безделушки произвели огромное впечатление; он вообразил, что мадемуазель де Вильпрё – особая, артистическая натура, что она единственная на свете барышня, способная сидеть на стуле времен Карла Девятого[8 - …времен Карла Девятого… – Французский король Карл IX правил с 1560 по 1574 г.] и отваживающаяся держать череп среди своих кружев и лент. Его восхищала эта девушка, которую, как ему теперь смутно припоминалось, он видел когда-то ребенком, и он чувствовал себя вдвойне счастливым при мысли, что благородный труд, предстоявший ему в часовне, будет совершаться под покровительством той, кто способна оценить по достоинству его искусство. Затем он долго, с наслаждением вглядывался в гравюру Моргена[9 - Морген Рафаэль (1758–1833) – итальянский гравер.] – то была «Мадонна на стуле» Рафаэля, и юная хозяйка замка вдруг представилась ему именно такой – ангельски доброй и сильной. Взволнованный, восхищенный, он позабыл обо всем на свете и остался бы здесь до самого вечера, когда бы не шум, раздавшийся неожиданно за окном, – то шли по аллеям парка, насвистывая, ученики, спешившие в мастерскую. И Пьер поскорее выбрался из башенки и вернулся в мастерскую, не забыв предварительно вновь приколотить ковер.
С этого дня господин Лербур не раз спрашивал у него, когда же дверь в комнату мадемуазель де Вильпрё будет наконец починена и навешена. Управляющий начал даже гневаться: он говорил, что через ковер туда проникает пыль, что, того и гляди, приедут господа, и барышня будет крайне недовольна, если ей сразу же по приезде нельзя будет запереться у себя в башенке, потому что это ее самая любимая комната, словом – что дверь надлежит навесить незамедлительно; он то ласково просил, то грозно требовал, негодующе вращая своими маленькими глазками. Пьер всякий раз обещал, но сам и не думал выполнять обещание. Он так искусно запрятал эту дверь среди досок, что никто, кроме него, не мог бы ее там найти. К тому же остальная работа так и кипела, и господин Лербур просто не осмеливался слишком выказывать свой гнев.
А дело было в том, что Пьер уже не однажды оставался в башенке далеко за полночь; часами простаивал он в немом восторге перед какой-нибудь гравюрой, слепком или старинной мебелью. Но больше всего манили его красивые, с золотым тиснением, корешки книг, мерцавшие на полках небольшого старинного шкафика черного дерева. Ему стоило только протянуть руку, чтобы удовлетворить свое любопытство, но что-то удерживало его. У него было такое чувство, словно он злоупотребит чьим-то доверием, если коснется этих роскошных переплетов своими загрубевшими от работы руками. Но однажды в воскресенье, когда в замке никого не было, даже господина Лербура, Пьер все же поддался искушению. По воскресным дням он ходил особенно чисто одетым, потому что обладал врожденным чувством изящного и малейшее пятнышко на одежде, слегка запачканные руки или волосы беспокоили его гораздо больше, чем это, быть может, следовало ожидать от благоразумного ремесленника. Он взглянул на себя в высокое зеркало, стоявшее в кабинете, и, убедившись, что одет он хоть и более скромно, чем одеваются буржуа, но все же вполне прилично, решился наконец взять с полки книгу и раскрыть ее. Это оказался «Эмиль»[10 - «Эмиль, или О воспитании» (1762) – педагогический роман Ж.-Ж. Руссо.] Жан-Жака Руссо, которого Пьер знал чуть ли не наизусть. Он раздобыл его в свое время в Лионе и читал ночами с несколькими подмастерьями, с которыми близко сошелся в пору своего хождения по Франции. На той же полке Пьер обнаружил «Мучеников» Шатобриана[11 - Шатобриан Франсуа-Рене (1768–1848) – французский писатель. Его эпопея «Мученики, или Торжество христианства» (1809) рассказывает о гонениях на христиан в IV в.], томик трагедий Расина, «Жития святых», письма госпожи де Севинье[12 - Де Севинье Мари (1626–1696) – великосветская дама. Ее письма к дочери получили признание как образец эпистолярного жанра.], «Общественный договор»[13 - «Общественный договор», точнее – «Об Общественном договоре, или Принципы политического права» (1762) – социально-политическое сочинение Жан-Жака Руссо.], «Республику»[14 - «Республика». – Имеется в виду сочинение Платона «Государство», посвященное исследованию природы общественной справедливости и наилучших форм государственного устройства.] Платона, несколько томов «Энциклопедии»[15 - «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» – 33-томное издание, осуществленное во второй половине XVIII в. группой французских философов и ученых во главе с Д. Дидро и Ж.-Л. д’Аламбером.], различные исторические сочинения и много других книг, которые довольно странно было видеть рядом. Ему понадобилось три месяца, точнее – двенадцать воскресений, а всего часов шестьдесят, чтобы залпом проглотить большую часть этих сочинений, хотя читал он не подряд, а только просматривал, стараясь схватить самую суть. Эти часы, не раз говорил он впоследствии, были лучшими в его жизни. Некий романический привкус, сопровождавший это чтение, делал для него еще пленительнее поэтичность одних книг и придавал особую значительность другим. Но более всего захватывали его те, в которых он обнаруживал философские рассуждения, касающиеся истории законодательств. Он жадно искал в них объяснение великой загадки возникновения в обществе обособленных классов и находил подтверждение тем мыслям, которые возникали у него прежде под влиянием двух-трех популярных брошюр и отзвуков политической борьбы, доносившихся до него издалека. Как много знаний мог бы он почерпнуть из этих книг, как обогатил бы свои понятия и представления, будь у него больше времени! Но ему надо было работать, а между тем, проведя в башенке несколько бессонных ночей, Пьер заметил, что днем у него болит голова и немеют руки. И он решил отказаться в будние дни от этих духовных наслаждений, тем более что всякий раз опасался, как бы его рабочие башмаки не оставили на полу кабинета какой-нибудь след. Он был бы просто в отчаянии, если бы от прикосновения его рук на тонких страницах этих прекрасных книг осталось хоть какое-нибудь пятнышко. Что таилось за этими детскими опасениями? Он и сам бы не мог объяснить эту причуду, если бы его спросили об этом. Какие-то странные, смутные мысли неотступно бродили в его мозгу. Он ощущал в себе некое благородство чувств, благородство куда более истинное и высокое, нежели то, что даруется и освящается действующими в мире законами. Вынужденный постоянно подавлять порывы своей воистину аристократической души, жившей в его теле ремесленника, он безропотно подчинялся необходимости, проявляя стойкость и самообладание, лишний раз свидетельствующие о благородстве его натуры. Но в те тайные часы, что он проводил в башенке на турецком диване, непринужденно облокотившись на бархатные подушки, глаза его могли созерцать простирающийся перед окнами прелестный пейзаж, вся поэтичность которого выступала для него тем явственнее, чем больше поэзия раскрывала перед ним мудрость Творца, чьим зримым проявлением является мироздание. И в эти минуты Пьер начинал чувствовать себя царем вселенной; но тут взгляд его падал на зеркало, он видел в нем свое озабоченное лицо, свои огрубевшие, обветренные руки – это неистребимое клеймо раба; и горькие слезы исторгались из глаз его. И, упав на колени, он воздевал руки к небу, моля ниспослать ему терпение, моля о справедливости к своим собратьям, навеки обреченным в этом мире на одиночество, невежество и нищету.
Глубокие волнения ума, испытанные Пьером при чтении сочинений исторических, сменились восторгами пленительного вымысла: в руки ему попали романы Вальтера Скотта. Вы скоро узнаете, какая опасность таилась в этих наслаждениях и какое влияние оказало на него чтение книг.