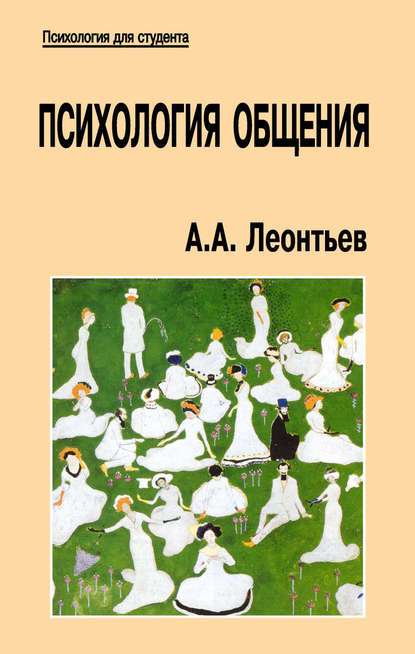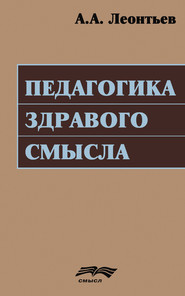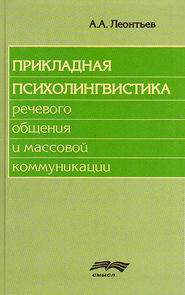По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Психология общения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Темпы развития человека совершенно не сравнимы с темпами эволюции в животном мире: за время, прошедшее от появления первого каменного топора на деревянной ручке до первого полета человека в космос, лошадь, например, едва успела сменить три пальца на копыто. Но при таких невероятных темпах эволюции морфологические признаки человека существенно не изменились: если бы можно было одеть кроманьонца в европейский костюм и пройти с ним по улицам современного города, никто, пожалуй, и не обернулся бы. Значит, эволюция вида “человек” протекала в какой-то иной, а не биологической сфере, и накопление видовых признаков опыта происходило не в форме морфологических изменений, а в какой-то иной. Эта сфера – сфера социальной жизни человека, эта форма – закрепление достижений человеческой деятельности в общественно-историческом опыте человечества. Теперь видовой опыт отражается не в изменении, скажем, строения руки человека, а в изменении того орудия, которым рука действует, т. е. закрепленных в этом орудии, обобщенных в нем приемов и способов действия с ним. “В орудиях труда человек приобретает как бы новые органы, изменяющие его анатомическое строение. С того времени, как он возвысился до их употребления, он придает совершенно новый вид истории своего развития: прежде она, как у всех остальных животных, сводилась к видоизменениям его естественных органов; теперь она становится прежде всего историей усовершенствования его искусственных органов”[97 - Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю//Избранные философские произведения. М., 1956. Т.1. С. 610.].
Оттого и темпы эволюции человека несоизмеримы с темпами эволюции у животных, что человек никогда не сталкивается с природой, как животное, один на один: даже Робинзон Крузо на своем острове имел в своем распоряжении многовековой опыт всего человечества.
Отношение человека к природе опосредованно его отношением к обществу: он всегда может вволю черпать необходимые навыки, умения, способности из общей кладовой социально-исторического опыта человечества, не дожидаясь, пока природа поставит его перед необходимостью выработать все эти способности в порядке индивидуального приспособления. И возвращаются эти способности “с процентами”: особенности жизни и деятельности одного человека или группы людей обогащают не только их личный опыт, но и коллективный, социально-исторический опыт. Джеймсу Уатту достаточно было однажды изобрести паровой двигатель (или, точнее, обществу было достаточно, чтобы паровой двигатель был однажды изобретен Уаттом), Христофору Колумбу – однажды открыть Америку, Рафаэлю – однажды создать Сикстинскую Мадонну.
Можно сказать, что человек всегда как бы на один шаг опережает природу, не давая ей застать себя врасплох, в то время как животное на шаг отстает от природы. Человек учится на ошибках, – а еще более на достижениях, – других людей, животное же – только на своих собственных.
Но если принять тот тезис, что эволюция человека есть прежде всего эволюция его искусственных органов[98 - Pieron H. Le developpement de la pensйe conceptuelle et l’hominisation//Les processus de l’hominisation. Paris, 1958.], то очевидно, что субъектом этой эволюции, равно как и вообще взаимоотношений с природой, является не человеческий индивид, а человеческий род как целое, социум. С биологической средой взаимодействует не отдельный человек, а человеческое общество в целом; именно поэтому внутри этого общества теряют силу такие законы эволюции, как например, закон естественного отбора. Недаром название самого морального принципа, отрицающего правомерность, “естественность” естественного отбора, – мы имеем в виду гуманизм, – произведено от имени человека.
Сказанное распространяется не только на практическую, трудовую деятельность человека, опосредствуемую орудиями труда, но и на его теоретическую, в первую очередь познавательную деятельность, опосредствуемую тем, что Л.С. Выготский называл “психологическими орудиями”, т. е. знаками. “Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций”[99 - Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 255.].
Усваивая значения слов, ребенок усваивает аккумулированные в этих словах элементы общественной практики, например, объективно значимые свойства предметов. Язык является для ребенка передатчиком общественных знаний человечества о мире. И усвоение языкового знака – это в первую очередь “распредмечивание” его значения, усвоение опредмеченных в слове способов его употребления – включая сюда как семантику, т. е. означение, так и синтаксис (правила сочетания знаков) и прагматику.
Но если так, то значит, говоря о человеке как биологическом существе, игнорируя то, что субъектом в его взаимоотношениях с природой, с окружающей действительностью выступает не индивид, а социум (или, точнее, индивид как представитель социума, как носитель социальных, а не только биологических признаков), мы допускаем не только философскую, но и собственно психологическую некорректность. Между тем в ряде направлений современной психологии, в частности, психологии речевого общения, мы сталкиваемся именно с таким – биологизирующим пониманием. Охарактеризуем хотя бы точку зрения Э. Леннеберга по этому вопросу. Наследственность, по его мнению, обеспечивает индивиду “готовность к языку” (language readiness), в которой мы находим “латентную языковую структуру” (latent language structure); приобретение человеком языка есть процесс “актуализации”, превращения этой латентной структуры в реальную. “Социальные условия могут рассматриваться как своего рода спусковой крючок, включающий реакцию. Может быть, лучшей метафорой будет понятие резонанса”[100 - Lenneberg E.H. Biological foundations of language. N.Y., 1967. С. 378.]. При этом характерно, что индивид рассматривается как causa sui: причиной его языкового развития является исключительно внутренняя “потребность” (need), но ни в коей мере не “произвольные внешние факторы”, как например, влияние окружающих ребенка взрослых.
Даже если не обращаться к теоретико-методологической стороне проблемы, эти тезисы Леннеберга не представляются бесспорными. Приведем для экономии места только два примера. Исследуя структуру процесса восприятия речи, и в частности механизм перекодировки акустических образов в субъективные признаки, В.И. Галунов вслед за Л.А.Чистович показал, что эти субъективные признаки ни в коей мере не являются врожденными и не просто актуализируются, но заново формируются в процессе обучения[101 - Галунов В.Н. Структура множества речевых образов: Автореф. дис… канд. психол. наук. Л., 1967.]. Относительно роли “внешних факторов” в свое время убедительный материал, как известно, привели А.Р.Лурия и Ф.Я.Юдович, наблюдавшие за пятилетними близнецами с задержанным речевым развитием и весьма развитой автономной речью до и после изменения внешней ситуации (оба ребенка были помещены в детский сад, а один из них проходил систематическое обучение речи)[102 - Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. Речь и развитие психических процессов у ребенка. М., 1956.].
Весьма показателен тот факт, что в книге Леннеберга, безусловно представляющей собой выдающееся явление в психологической литературе о речи, прекрасно аргументировано биологическими, анатомо-физиологическими и патопсихологическими данными только то, что относится к низшим уровням речевой организации.
Итак, еще раз повторим основную мысль предшествующей части этого параграфа: язык есть орудие активной деятельности человека, одна из форм взаимодействия субъекта и объекта деятельности, связующее звено между общественно-историческим опытом и коллективной деятельностью общества, с одной стороны, и с другой – психикой, сознанием, личностным опытом отдельного человека[103 - Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 214.]. Именно в этом своем качестве слово (или какая-либо иная языковая единица) выступает как знак. Перейдем к более подробному анализу этого понятия.
Познавая действительность, познавая предметы и явления в их связях и отношениях с другими предметами и явлениями, человек выделяет в этих предметах существенные признаки (существенные с точки зрения общественной практики), абстрагирует их, закрепляет и передает другим людям, которые проецируют закрепленное таким образом общественное знание, общественный опыт на новую действительность, опосредуя им свое познание. Этот процесс переживает историческое развитие, проходя по крайней мере два последовательных этапа.
Первым, относительно простым способом закрепления общественного знания является то, что Л.С.Выготский условно называл “удвоением” предмета, т. е. проецирование выделенных и абстрагированных признаков предмета непосредственно на сам этот предмет, как бы взгляд на него с другой точки зрения – тот взгляд, который, по Энгельсу, отличает глаз человека от глаза орла. На этом этапе “обобщение означает, что из конкретного содержания предметов выделяются черты и свойства, которые существенны для действия и являются его специфическим объектом. Выделяются, но не отделяются! Когда же действие переносится в речевой план, эти средства закрепляются за отдельными словами, превращаются в значение слов, отрываются от конкретных вещей и таким путем становятся абстракциями.… Перенесение действия в речевой план означает не только выражение действия в речи, но прежде всего речевое выполнение предметного действия – не только сообщение о действии, но действие в новой, речевой форме”[104 - Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий//Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. I. С. 456.].
По-видимому, некоторые идеи, выработанные школой Л.С. Выготского применительно к особенностям онтогенетического развития языкового мышления, могут быть использованы и при анализе его филогенеза. Разумеется, в постановке вопроса здесь имеются принципиальные отличия. В первом случае мы имеем исторически сложившуюся систему знаний, умений, способностей, “задаваемую” каждому индивиду для усвоения и с той или иной степенью полноты усвояемую (по Марксу, “присваиваемую”) им. Во втором случае налицо двусторонний процесс возникновения этой системы, с одной стороны, и психофизиологических предпосылок для формирования соответствующих способностей у индивида – с другой. Мы будем подходить к вопросу с этой точки зрения, отвлекаясь пока от исследования соответствующей социальной системы.
Остановимся прежде всего на противоположности специфически человеческого умственного действия, т. е. мысли, и высших форм поведения животных. У животных принципиально невозможен процесс интериоризации, так как у них немыслимо формирование новых действий по образцу[105 - Т.е. осознанное подражание, предполагающее понимание по крайней мере цели и средств действия, умения повторить действие с любым материалом и в изменившихся конкретных условиях. См.: Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий//Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. I. С. 447–448.], лежащее в основе присвоения человеком социально-исторического опыта. “Формирование новых действий идет у них двумя путями: или путем проб и ошибок с постепенным отсевом неудачных движений, или на основе восприятия правильного пути между предметами; в обоих случаях контролем служит только подкрепление или неподкрепление. Даже подражание является у животных лишь одним из средств второго пути.… Действие по заданному образцу выражает общественную природу человеческого обучения, а контроль за этим действием – характерное общественное отношение к своему действию: как бы со стороны других людей и с помощью ими данного критерия”[106 - Там же. С. 461.].
Таким образом, действие по заданному образцу, сопровождаемое контролем, “удвоенное”, предполагает общественный контроль, осуществляемый в социальных, экстериоризованных формах. Какими могли быть формы такого контроля у истоков формирования языкового мышления? Они не могли быть ничем иным, кроме абстракций действия, закрепленных во внешней, следовательно, кинестетической или речевой форме. Едва ли, впрочем, мы вправе говорить здесь о “кинестетической или речевой” форме, так как процесс абстрагирования непременно должен был иметь связь с обеими этими формами. С одной стороны, дальнейший переход к чисто речевому действию необходимо предполагает отделение действия от конкретного предмета, от конкретной предметной ситуации, принципиальную возможность его имитации; по А.Валлону[107 - Валлон А. От действия к мысли. М., 1956.], в основе такого отделения лежит ритуальное использование действия. С другой стороны, этот переход предполагает на каком-то этапе сосуществование этих форм.
По-видимому, когда речевое действие еще не было отделено от предметного, система речевых средств выступала в двоякой функции. С одной стороны, это была форма обобщения действия, первичная форма мышления наряду с мышлением “ручным”, кинестетическим. При этом следует иметь в виду, что конкретные предметные условия действия едва ли отражались в речи даже в обобщенной форме: не случайно даже в большинстве современных языков мира орудия и предметы труда называются, как правило, по действию. С другой стороны, необходимость обобщения сама по себе не приводит к необходимости перехода от предметного к чисто речевому действию и, следовательно, у речевого действия должны были быть какие-то дополнительные преимущества по сравнению с предметным.
Мы не можем допустить, что таким преимуществом являлась членораздельность речи со всеми вытекавшими из нее последствиями, так как членораздельность, как это видно из палеоантропологических данных[108 - Бунак В.В. Происхождение речи по данным антропологии//Происхождение человека и древнее расселение человечества. М., 1951. С. 232–233; Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963. С. 69–70, 85.] – достижение сравнительно позднего этапа в развитии языкового мышления. Вероятно, речевые средства уже использовались в какой-то функции, отличной от функции обобщения, но совместимой с ней. И естественно предположить, что это и была коммуникативная функция, функция общения.
Как видно из сказанного, на этапе “удвоенного” действия у нас еще нет оснований говорить о знаковости. Она связана со следующим этапом развития описываемого способа познания действительности, начинающимся тогда, когда общественно значимые признаки предметов и явлений закрепляются в особой, специфической форме – форме так называемых квазиобъектов[109 - Сам термин “квазиобъект” не представляется нам удачным. Однако, чтобы не вводить дополнительных терминологических сложностей, мы будем придерживаться его в тексте настоящей работы.].
Понятие квазиобъекта введено советскими философами в связи с анализом марксова понятия “превращенной формы” – понятия, неоднократно встречающегося на страницах “Теорий прибавочной стоимости” и “Капитала”. Особенность превращенной формы, “отличающая ее от классического отношения формы и содержания, состоит в объективной устраненности здесь содержательных определений: форма проявления получает самостоятельное “сущностное” значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным отношением, которое сливается со свойствами материального носителя (субстрата) самой формы (например, в случаях символизма) и становится на место действительного отношения. Эта видимая форма действительных отношений, отличная от их внутренней связи, играет вместе с тем – именно своей обособленностью и бытийностью – роль самостоятельного механизма в управлении реальными процессами на поверхности системы. При этом связи действительного происхождения оказываются “снятыми” в ней. Прямое отображение содержания в форме здесь исключается”[110 - Мамардашвили М.К. Форма превращенная//Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 387.]. Примером может являться денежная форма, которая является превращенной товарной. В превращенной форме важна, во-первых, сама “превращенность” отношений, во-вторых, ее качественно новый характер. Структуру превращенной формы “можно представить в виде следующей последовательности: выключение отношения из связи – восполнение его иной предметностью и свойствами – синкретическое замещение предшествующего уровня системы этим формообразованием”[111 - Мамардашвили М. К. Указ. соч. С. 387.].
Итак, квазиобъект, будучи поставлен на место системы отношений, в которую включен своими существенными признаками познаваемый нами предмет или явление, как бы “привязывает” “проявление этих отношений в какой-либо субстанции, конечной и нерасчленяемой”, и восполняет их “в зависимости от ее “свойств””[112 - Там же. С. 388.]. Отсюда возникают “мнимые предметы”: труд и капитал, знаки языка и т. д. “В предметах нет и на деле не может быть непосредственной связи между стоимостью и трудом, между знаком и объектом и т. д.”[113 - Там же.] При определенных условиях эти мнимости мистифицируют сознание, выступая в качестве “независимых” от человека, наделенных видимой “самостоятельностью” феноменов (отсюда фетишизм, феномены духовного отчуждения и т. п.).
Очерченное понимание исключительно важно и для собственно психологического исследования, для полноценной марксистской трактовки явлений сознания. Оно прежде всего требует отвлечения от замкнутого “в себе” изучения механизмов индивидуального сознания. “Чтобы проникнуть в процессы, происходящие в сознании, Маркс производит следующую абстракцию: в промежутке между двумя членами отношения “объект (вещественное тело, знак социальных значений) – человеческая субъективность”, которые только и даны на поверхности, он вводит особое звено: целостную систему содержательных общественных связей, связей обмена деятельностью между людьми, складывающихся в дифференцированную и иерархическую структуру. Затем он изучает процессы и механизмы, вытекающие из факта многократных переплетений и наслоений отношений в этой системе, по уровням и этажам которой объективно “растекается” человеческая деятельность, ее предметно закрепляемые общественные силы.
Введение этого посредствующего звена переворачивает все отношение, в рамках которого сознание изучалось. Формы, принимаемые отдельными объектами (и воспринимаемые субъективностно) оказываются кристаллизациями системы (или подсистем) отношений, черпающими свою жизнь из их сочленений. А движение сознания и восприятия субъекта совершается в пространствах, создаваемых этими же отношениями, или, если угодно, ими замыкается. Через эти отношения и должен пролегать реальный путь изучения сознания, то есть того вида сознательной жизни мотивов, интересов и духовных смыслов, который приводится в движение данной общественной системой”[114 - Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса//Вопросы философии. 1968. № 6. С. 17.] (курсив наш. – А.Л.).
“Объективные мыслительные формы” – смыслы, значения и т. п. – это и есть результат движения в “пространстве” реальных отношений, но не прямое отображение этих отношений. Будучи перенесены на квазиобъект и в этом качестве став достоянием сознания, признаки, свойства, отношения действительности претерпевают кардинальное преобразование: форма, в которой они выступают, оказывается “снятой”, свернутой, переструктурированной и дополненной тем, что содержится уже в самом квазиобъекте. Отсюда огромной важности гносеологическая задача – при каждом анализе конкретной “превращенной формы” четко разделять те связи, признаки и отношения, которые перенесены нами на квазиобъект и преобразованы в нем, и те, которые мы находим в самом квазиобъекте, которые образуют его сущность и специфику.
Как уже отмечалось выше, язык есть именно такая система квазиобъектов, где на место реальных отношений подставлена их “видимая форма”. Если понимать язык таким образом, то ряд псевдопроблем в исследовании языкового знака сам собой отпадает, как например “проблема” идеальности и материальности знака, “проблема” предметной отнесенности (и вместе с нею знаменитый “треугольник” Огдена – Ричардса и все его модификации в последующих работах других авторов). То, что дано нашему сознанию в наблюдении, то в языке, что предлежит сознанию, ни в коей мере не исчерпывает сути дела. Поэтому-то семиотический и лингвистический подходы к знаку при всей видимой тонкости анализа принципиально не могут вскрыть его сущности.
Понятие квазиобъекта как “превращенной формы” действительных отношений неразрывно с понятием идеального. Квазиобъект, прежде всего языковой знак, как раз и является “непосредственным телом идеального образа внешней вещи”[115 - Ильенков Э.В. Идеальное//Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 224.], основной составной частью системы общезначимых форм и способов внешнего выражения идеальных явлений, продолжая в то же время иметь “чувственную природу” (Маркс). Естественно, что при этом мы не можем забывать, что само идеальное “непосредственно существует только как форма (способ, образ) деятельности общественного человека, т. е. вполне предметного, материального существа, направленной на внешний мир. Поэтому, если говорить о материальной системе, функцией и способом существования которой выступает идеальное, то этой системой является только общественный человек в единстве с тем предметным миром, посредством которого он осуществляет свою специфически человеческую жизнедеятельность. Идеальное ни в коем случае не сводимо на состояние той материи, которая находится под черепной крышкой индивида, т. е. мозга.… Идеальное есть особая функция человека как субъекта общественно-трудовой деятельности, совершающейся в формах, созданных предшествующим развитием”[116 - Ильенков Э.В. Там же. С. 221.] (курсив наш. – А.Л.). Идеальный образ “опредмечен в теле языка”.
Понятие знака, собственно, и возникает как следствие из такого понимания идеального. Знак – это квазиобъект в его отношении к реальному объекту, как его заместитель в определенных ситуациях деятельности[117 - Полторацкий А., Швырев В. Знак и деятельность. М., 1970. С. 16–18.]. Квазиобъект, выступая как знак, может сохранять свое “материальное существование” (Маркс), свое “вещественное бытие”. Но у знаков “функциональное бытие поглощает, так сказать, их материальное бытие” (23, 140). Это означает, что в качестве знака (по терминологии Э.В. Ильенкова – “символа”) может выступать сама вещь как таковая (“когда, например, руководитель работ в первобытном обществе в определенной ситуации брал в руки топор, то это воспринималось как приказ начать, скажем, рубку леса”)[118 - Там же. С. 27.]. Но эта его материальная, вещественная оболочка является для него чем-то несущественным, и “далее материальное тело этой вещи приводится в согласие с ее функцией.
В результате символ превращается в знак, то есть в предмет, который сам по себе не значит уже ничего, а только представляет, выражает другой предмет, с которым он непосредственно не имеет ничего общего, как например, название вещи с самой вещью”[119 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 224. Ср. также: Коршунов А.М. Теория отражения и творчество. М., 1971. С. 31.]. Это – путь к появлению языкового знака, который и есть, таким образом, знак “в чистом виде”, знак, “материя” которого подчинена его функциональному бытию.
Известную сложность представляет, однако, тот факт, что под одним и тем же названием “знака” в практике научного исследования выступают три различных аспекта, по существу три несовпадающих понятия. Это, во-первых, знак как реальный компонент реальной деятельности, как вещь или материальное языковое “тело”, включенное в деятельность человека (знак
). Это, во-вторых, знак как идеальный образ, как эквивалент “реального знака” в обыденном сознании (знак
). Вслед за Е.Н. Соколовым[120 - Соколов Е.Н. О моделирующих свойствах нервной системы//Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964.] мы вправе понимать этот внутренний образ как внутреннюю модель, в известном (но ограниченном!) смысле программирующую деятельность субъекта благодаря тому, что она соответствующим образом моделирует внешний мир. Для языковых знаков выделение этого аспекта особенно существенно в связи с понятием значения (см. об этом ниже). Наконец, в-третьих, под знаком можно понимать продукт научного осмысления структуры и функций объективного знака, т. е. знаковую модель (знак
). Все три аспекта, как правило, нечетко разграничиваются или вообще не разграничиваются в практике научного исследования. Между тем для наших – психологических – целей их разделение исключительно важно[121 - Быть может, целесообразно ввести вместо одного термина “знак”, получившего в тексте данной работы цифровые индексы, соответственно понятия знака (знак
), знакового образа (знак
) и знаковой модели (знак
).].
Оттого и темпы эволюции человека несоизмеримы с темпами эволюции у животных, что человек никогда не сталкивается с природой, как животное, один на один: даже Робинзон Крузо на своем острове имел в своем распоряжении многовековой опыт всего человечества.
Отношение человека к природе опосредованно его отношением к обществу: он всегда может вволю черпать необходимые навыки, умения, способности из общей кладовой социально-исторического опыта человечества, не дожидаясь, пока природа поставит его перед необходимостью выработать все эти способности в порядке индивидуального приспособления. И возвращаются эти способности “с процентами”: особенности жизни и деятельности одного человека или группы людей обогащают не только их личный опыт, но и коллективный, социально-исторический опыт. Джеймсу Уатту достаточно было однажды изобрести паровой двигатель (или, точнее, обществу было достаточно, чтобы паровой двигатель был однажды изобретен Уаттом), Христофору Колумбу – однажды открыть Америку, Рафаэлю – однажды создать Сикстинскую Мадонну.
Можно сказать, что человек всегда как бы на один шаг опережает природу, не давая ей застать себя врасплох, в то время как животное на шаг отстает от природы. Человек учится на ошибках, – а еще более на достижениях, – других людей, животное же – только на своих собственных.
Но если принять тот тезис, что эволюция человека есть прежде всего эволюция его искусственных органов[98 - Pieron H. Le developpement de la pensйe conceptuelle et l’hominisation//Les processus de l’hominisation. Paris, 1958.], то очевидно, что субъектом этой эволюции, равно как и вообще взаимоотношений с природой, является не человеческий индивид, а человеческий род как целое, социум. С биологической средой взаимодействует не отдельный человек, а человеческое общество в целом; именно поэтому внутри этого общества теряют силу такие законы эволюции, как например, закон естественного отбора. Недаром название самого морального принципа, отрицающего правомерность, “естественность” естественного отбора, – мы имеем в виду гуманизм, – произведено от имени человека.
Сказанное распространяется не только на практическую, трудовую деятельность человека, опосредствуемую орудиями труда, но и на его теоретическую, в первую очередь познавательную деятельность, опосредствуемую тем, что Л.С. Выготский называл “психологическими орудиями”, т. е. знаками. “Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, как техническое орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму трудовых операций”[99 - Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 255.].
Усваивая значения слов, ребенок усваивает аккумулированные в этих словах элементы общественной практики, например, объективно значимые свойства предметов. Язык является для ребенка передатчиком общественных знаний человечества о мире. И усвоение языкового знака – это в первую очередь “распредмечивание” его значения, усвоение опредмеченных в слове способов его употребления – включая сюда как семантику, т. е. означение, так и синтаксис (правила сочетания знаков) и прагматику.
Но если так, то значит, говоря о человеке как биологическом существе, игнорируя то, что субъектом в его взаимоотношениях с природой, с окружающей действительностью выступает не индивид, а социум (или, точнее, индивид как представитель социума, как носитель социальных, а не только биологических признаков), мы допускаем не только философскую, но и собственно психологическую некорректность. Между тем в ряде направлений современной психологии, в частности, психологии речевого общения, мы сталкиваемся именно с таким – биологизирующим пониманием. Охарактеризуем хотя бы точку зрения Э. Леннеберга по этому вопросу. Наследственность, по его мнению, обеспечивает индивиду “готовность к языку” (language readiness), в которой мы находим “латентную языковую структуру” (latent language structure); приобретение человеком языка есть процесс “актуализации”, превращения этой латентной структуры в реальную. “Социальные условия могут рассматриваться как своего рода спусковой крючок, включающий реакцию. Может быть, лучшей метафорой будет понятие резонанса”[100 - Lenneberg E.H. Biological foundations of language. N.Y., 1967. С. 378.]. При этом характерно, что индивид рассматривается как causa sui: причиной его языкового развития является исключительно внутренняя “потребность” (need), но ни в коей мере не “произвольные внешние факторы”, как например, влияние окружающих ребенка взрослых.
Даже если не обращаться к теоретико-методологической стороне проблемы, эти тезисы Леннеберга не представляются бесспорными. Приведем для экономии места только два примера. Исследуя структуру процесса восприятия речи, и в частности механизм перекодировки акустических образов в субъективные признаки, В.И. Галунов вслед за Л.А.Чистович показал, что эти субъективные признаки ни в коей мере не являются врожденными и не просто актуализируются, но заново формируются в процессе обучения[101 - Галунов В.Н. Структура множества речевых образов: Автореф. дис… канд. психол. наук. Л., 1967.]. Относительно роли “внешних факторов” в свое время убедительный материал, как известно, привели А.Р.Лурия и Ф.Я.Юдович, наблюдавшие за пятилетними близнецами с задержанным речевым развитием и весьма развитой автономной речью до и после изменения внешней ситуации (оба ребенка были помещены в детский сад, а один из них проходил систематическое обучение речи)[102 - Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. Речь и развитие психических процессов у ребенка. М., 1956.].
Весьма показателен тот факт, что в книге Леннеберга, безусловно представляющей собой выдающееся явление в психологической литературе о речи, прекрасно аргументировано биологическими, анатомо-физиологическими и патопсихологическими данными только то, что относится к низшим уровням речевой организации.
Итак, еще раз повторим основную мысль предшествующей части этого параграфа: язык есть орудие активной деятельности человека, одна из форм взаимодействия субъекта и объекта деятельности, связующее звено между общественно-историческим опытом и коллективной деятельностью общества, с одной стороны, и с другой – психикой, сознанием, личностным опытом отдельного человека[103 - Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 214.]. Именно в этом своем качестве слово (или какая-либо иная языковая единица) выступает как знак. Перейдем к более подробному анализу этого понятия.
Познавая действительность, познавая предметы и явления в их связях и отношениях с другими предметами и явлениями, человек выделяет в этих предметах существенные признаки (существенные с точки зрения общественной практики), абстрагирует их, закрепляет и передает другим людям, которые проецируют закрепленное таким образом общественное знание, общественный опыт на новую действительность, опосредуя им свое познание. Этот процесс переживает историческое развитие, проходя по крайней мере два последовательных этапа.
Первым, относительно простым способом закрепления общественного знания является то, что Л.С.Выготский условно называл “удвоением” предмета, т. е. проецирование выделенных и абстрагированных признаков предмета непосредственно на сам этот предмет, как бы взгляд на него с другой точки зрения – тот взгляд, который, по Энгельсу, отличает глаз человека от глаза орла. На этом этапе “обобщение означает, что из конкретного содержания предметов выделяются черты и свойства, которые существенны для действия и являются его специфическим объектом. Выделяются, но не отделяются! Когда же действие переносится в речевой план, эти средства закрепляются за отдельными словами, превращаются в значение слов, отрываются от конкретных вещей и таким путем становятся абстракциями.… Перенесение действия в речевой план означает не только выражение действия в речи, но прежде всего речевое выполнение предметного действия – не только сообщение о действии, но действие в новой, речевой форме”[104 - Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий//Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. I. С. 456.].
По-видимому, некоторые идеи, выработанные школой Л.С. Выготского применительно к особенностям онтогенетического развития языкового мышления, могут быть использованы и при анализе его филогенеза. Разумеется, в постановке вопроса здесь имеются принципиальные отличия. В первом случае мы имеем исторически сложившуюся систему знаний, умений, способностей, “задаваемую” каждому индивиду для усвоения и с той или иной степенью полноты усвояемую (по Марксу, “присваиваемую”) им. Во втором случае налицо двусторонний процесс возникновения этой системы, с одной стороны, и психофизиологических предпосылок для формирования соответствующих способностей у индивида – с другой. Мы будем подходить к вопросу с этой точки зрения, отвлекаясь пока от исследования соответствующей социальной системы.
Остановимся прежде всего на противоположности специфически человеческого умственного действия, т. е. мысли, и высших форм поведения животных. У животных принципиально невозможен процесс интериоризации, так как у них немыслимо формирование новых действий по образцу[105 - Т.е. осознанное подражание, предполагающее понимание по крайней мере цели и средств действия, умения повторить действие с любым материалом и в изменившихся конкретных условиях. См.: Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий//Психологическая наука в СССР. М., 1959. Т. I. С. 447–448.], лежащее в основе присвоения человеком социально-исторического опыта. “Формирование новых действий идет у них двумя путями: или путем проб и ошибок с постепенным отсевом неудачных движений, или на основе восприятия правильного пути между предметами; в обоих случаях контролем служит только подкрепление или неподкрепление. Даже подражание является у животных лишь одним из средств второго пути.… Действие по заданному образцу выражает общественную природу человеческого обучения, а контроль за этим действием – характерное общественное отношение к своему действию: как бы со стороны других людей и с помощью ими данного критерия”[106 - Там же. С. 461.].
Таким образом, действие по заданному образцу, сопровождаемое контролем, “удвоенное”, предполагает общественный контроль, осуществляемый в социальных, экстериоризованных формах. Какими могли быть формы такого контроля у истоков формирования языкового мышления? Они не могли быть ничем иным, кроме абстракций действия, закрепленных во внешней, следовательно, кинестетической или речевой форме. Едва ли, впрочем, мы вправе говорить здесь о “кинестетической или речевой” форме, так как процесс абстрагирования непременно должен был иметь связь с обеими этими формами. С одной стороны, дальнейший переход к чисто речевому действию необходимо предполагает отделение действия от конкретного предмета, от конкретной предметной ситуации, принципиальную возможность его имитации; по А.Валлону[107 - Валлон А. От действия к мысли. М., 1956.], в основе такого отделения лежит ритуальное использование действия. С другой стороны, этот переход предполагает на каком-то этапе сосуществование этих форм.
По-видимому, когда речевое действие еще не было отделено от предметного, система речевых средств выступала в двоякой функции. С одной стороны, это была форма обобщения действия, первичная форма мышления наряду с мышлением “ручным”, кинестетическим. При этом следует иметь в виду, что конкретные предметные условия действия едва ли отражались в речи даже в обобщенной форме: не случайно даже в большинстве современных языков мира орудия и предметы труда называются, как правило, по действию. С другой стороны, необходимость обобщения сама по себе не приводит к необходимости перехода от предметного к чисто речевому действию и, следовательно, у речевого действия должны были быть какие-то дополнительные преимущества по сравнению с предметным.
Мы не можем допустить, что таким преимуществом являлась членораздельность речи со всеми вытекавшими из нее последствиями, так как членораздельность, как это видно из палеоантропологических данных[108 - Бунак В.В. Происхождение речи по данным антропологии//Происхождение человека и древнее расселение человечества. М., 1951. С. 232–233; Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963. С. 69–70, 85.] – достижение сравнительно позднего этапа в развитии языкового мышления. Вероятно, речевые средства уже использовались в какой-то функции, отличной от функции обобщения, но совместимой с ней. И естественно предположить, что это и была коммуникативная функция, функция общения.
Как видно из сказанного, на этапе “удвоенного” действия у нас еще нет оснований говорить о знаковости. Она связана со следующим этапом развития описываемого способа познания действительности, начинающимся тогда, когда общественно значимые признаки предметов и явлений закрепляются в особой, специфической форме – форме так называемых квазиобъектов[109 - Сам термин “квазиобъект” не представляется нам удачным. Однако, чтобы не вводить дополнительных терминологических сложностей, мы будем придерживаться его в тексте настоящей работы.].
Понятие квазиобъекта введено советскими философами в связи с анализом марксова понятия “превращенной формы” – понятия, неоднократно встречающегося на страницах “Теорий прибавочной стоимости” и “Капитала”. Особенность превращенной формы, “отличающая ее от классического отношения формы и содержания, состоит в объективной устраненности здесь содержательных определений: форма проявления получает самостоятельное “сущностное” значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным отношением, которое сливается со свойствами материального носителя (субстрата) самой формы (например, в случаях символизма) и становится на место действительного отношения. Эта видимая форма действительных отношений, отличная от их внутренней связи, играет вместе с тем – именно своей обособленностью и бытийностью – роль самостоятельного механизма в управлении реальными процессами на поверхности системы. При этом связи действительного происхождения оказываются “снятыми” в ней. Прямое отображение содержания в форме здесь исключается”[110 - Мамардашвили М.К. Форма превращенная//Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 387.]. Примером может являться денежная форма, которая является превращенной товарной. В превращенной форме важна, во-первых, сама “превращенность” отношений, во-вторых, ее качественно новый характер. Структуру превращенной формы “можно представить в виде следующей последовательности: выключение отношения из связи – восполнение его иной предметностью и свойствами – синкретическое замещение предшествующего уровня системы этим формообразованием”[111 - Мамардашвили М. К. Указ. соч. С. 387.].
Итак, квазиобъект, будучи поставлен на место системы отношений, в которую включен своими существенными признаками познаваемый нами предмет или явление, как бы “привязывает” “проявление этих отношений в какой-либо субстанции, конечной и нерасчленяемой”, и восполняет их “в зависимости от ее “свойств””[112 - Там же. С. 388.]. Отсюда возникают “мнимые предметы”: труд и капитал, знаки языка и т. д. “В предметах нет и на деле не может быть непосредственной связи между стоимостью и трудом, между знаком и объектом и т. д.”[113 - Там же.] При определенных условиях эти мнимости мистифицируют сознание, выступая в качестве “независимых” от человека, наделенных видимой “самостоятельностью” феноменов (отсюда фетишизм, феномены духовного отчуждения и т. п.).
Очерченное понимание исключительно важно и для собственно психологического исследования, для полноценной марксистской трактовки явлений сознания. Оно прежде всего требует отвлечения от замкнутого “в себе” изучения механизмов индивидуального сознания. “Чтобы проникнуть в процессы, происходящие в сознании, Маркс производит следующую абстракцию: в промежутке между двумя членами отношения “объект (вещественное тело, знак социальных значений) – человеческая субъективность”, которые только и даны на поверхности, он вводит особое звено: целостную систему содержательных общественных связей, связей обмена деятельностью между людьми, складывающихся в дифференцированную и иерархическую структуру. Затем он изучает процессы и механизмы, вытекающие из факта многократных переплетений и наслоений отношений в этой системе, по уровням и этажам которой объективно “растекается” человеческая деятельность, ее предметно закрепляемые общественные силы.
Введение этого посредствующего звена переворачивает все отношение, в рамках которого сознание изучалось. Формы, принимаемые отдельными объектами (и воспринимаемые субъективностно) оказываются кристаллизациями системы (или подсистем) отношений, черпающими свою жизнь из их сочленений. А движение сознания и восприятия субъекта совершается в пространствах, создаваемых этими же отношениями, или, если угодно, ими замыкается. Через эти отношения и должен пролегать реальный путь изучения сознания, то есть того вида сознательной жизни мотивов, интересов и духовных смыслов, который приводится в движение данной общественной системой”[114 - Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса//Вопросы философии. 1968. № 6. С. 17.] (курсив наш. – А.Л.).
“Объективные мыслительные формы” – смыслы, значения и т. п. – это и есть результат движения в “пространстве” реальных отношений, но не прямое отображение этих отношений. Будучи перенесены на квазиобъект и в этом качестве став достоянием сознания, признаки, свойства, отношения действительности претерпевают кардинальное преобразование: форма, в которой они выступают, оказывается “снятой”, свернутой, переструктурированной и дополненной тем, что содержится уже в самом квазиобъекте. Отсюда огромной важности гносеологическая задача – при каждом анализе конкретной “превращенной формы” четко разделять те связи, признаки и отношения, которые перенесены нами на квазиобъект и преобразованы в нем, и те, которые мы находим в самом квазиобъекте, которые образуют его сущность и специфику.
Как уже отмечалось выше, язык есть именно такая система квазиобъектов, где на место реальных отношений подставлена их “видимая форма”. Если понимать язык таким образом, то ряд псевдопроблем в исследовании языкового знака сам собой отпадает, как например “проблема” идеальности и материальности знака, “проблема” предметной отнесенности (и вместе с нею знаменитый “треугольник” Огдена – Ричардса и все его модификации в последующих работах других авторов). То, что дано нашему сознанию в наблюдении, то в языке, что предлежит сознанию, ни в коей мере не исчерпывает сути дела. Поэтому-то семиотический и лингвистический подходы к знаку при всей видимой тонкости анализа принципиально не могут вскрыть его сущности.
Понятие квазиобъекта как “превращенной формы” действительных отношений неразрывно с понятием идеального. Квазиобъект, прежде всего языковой знак, как раз и является “непосредственным телом идеального образа внешней вещи”[115 - Ильенков Э.В. Идеальное//Философская энциклопедия. М., 1962. Т. 2. С. 224.], основной составной частью системы общезначимых форм и способов внешнего выражения идеальных явлений, продолжая в то же время иметь “чувственную природу” (Маркс). Естественно, что при этом мы не можем забывать, что само идеальное “непосредственно существует только как форма (способ, образ) деятельности общественного человека, т. е. вполне предметного, материального существа, направленной на внешний мир. Поэтому, если говорить о материальной системе, функцией и способом существования которой выступает идеальное, то этой системой является только общественный человек в единстве с тем предметным миром, посредством которого он осуществляет свою специфически человеческую жизнедеятельность. Идеальное ни в коем случае не сводимо на состояние той материи, которая находится под черепной крышкой индивида, т. е. мозга.… Идеальное есть особая функция человека как субъекта общественно-трудовой деятельности, совершающейся в формах, созданных предшествующим развитием”[116 - Ильенков Э.В. Там же. С. 221.] (курсив наш. – А.Л.). Идеальный образ “опредмечен в теле языка”.
Понятие знака, собственно, и возникает как следствие из такого понимания идеального. Знак – это квазиобъект в его отношении к реальному объекту, как его заместитель в определенных ситуациях деятельности[117 - Полторацкий А., Швырев В. Знак и деятельность. М., 1970. С. 16–18.]. Квазиобъект, выступая как знак, может сохранять свое “материальное существование” (Маркс), свое “вещественное бытие”. Но у знаков “функциональное бытие поглощает, так сказать, их материальное бытие” (23, 140). Это означает, что в качестве знака (по терминологии Э.В. Ильенкова – “символа”) может выступать сама вещь как таковая (“когда, например, руководитель работ в первобытном обществе в определенной ситуации брал в руки топор, то это воспринималось как приказ начать, скажем, рубку леса”)[118 - Там же. С. 27.]. Но эта его материальная, вещественная оболочка является для него чем-то несущественным, и “далее материальное тело этой вещи приводится в согласие с ее функцией.
В результате символ превращается в знак, то есть в предмет, который сам по себе не значит уже ничего, а только представляет, выражает другой предмет, с которым он непосредственно не имеет ничего общего, как например, название вещи с самой вещью”[119 - Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 224. Ср. также: Коршунов А.М. Теория отражения и творчество. М., 1971. С. 31.]. Это – путь к появлению языкового знака, который и есть, таким образом, знак “в чистом виде”, знак, “материя” которого подчинена его функциональному бытию.
Известную сложность представляет, однако, тот факт, что под одним и тем же названием “знака” в практике научного исследования выступают три различных аспекта, по существу три несовпадающих понятия. Это, во-первых, знак как реальный компонент реальной деятельности, как вещь или материальное языковое “тело”, включенное в деятельность человека (знак
). Это, во-вторых, знак как идеальный образ, как эквивалент “реального знака” в обыденном сознании (знак
). Вслед за Е.Н. Соколовым[120 - Соколов Е.Н. О моделирующих свойствах нервной системы//Кибернетика, мышление, жизнь. М., 1964.] мы вправе понимать этот внутренний образ как внутреннюю модель, в известном (но ограниченном!) смысле программирующую деятельность субъекта благодаря тому, что она соответствующим образом моделирует внешний мир. Для языковых знаков выделение этого аспекта особенно существенно в связи с понятием значения (см. об этом ниже). Наконец, в-третьих, под знаком можно понимать продукт научного осмысления структуры и функций объективного знака, т. е. знаковую модель (знак
). Все три аспекта, как правило, нечетко разграничиваются или вообще не разграничиваются в практике научного исследования. Между тем для наших – психологических – целей их разделение исключительно важно[121 - Быть может, целесообразно ввести вместо одного термина “знак”, получившего в тексте данной работы цифровые индексы, соответственно понятия знака (знак
), знакового образа (знак
) и знаковой модели (знак
).].