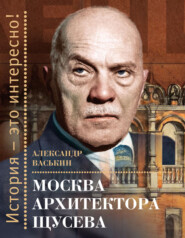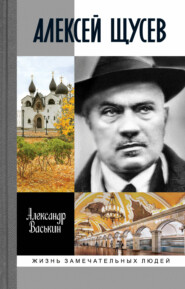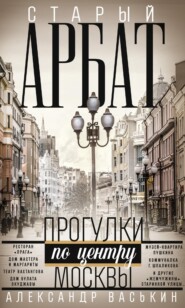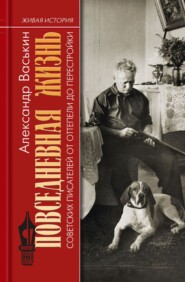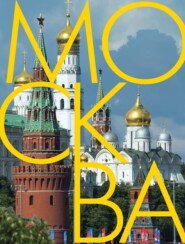По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей
Жанр
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Освободившаяся квартира (триста метров!) частично перешла к публицисту Иосифу Айзенштадту, мало похожему на Чехова во всех отношениях. Прошло много лет, и в бывшей квартире подросла правнучка публициста, унаследовавшая от него страсть к литературе. Свои сочинения она подписывает как Мария Арбатова (по паспорту Гаврилина). В коммунальной квартире прошло все ее счастливое советское детство: «В 1919 году мой прадед приехал из Белоруссии и купил на Арбате часть огромной квартиры – одну лишь гостиную, которую впоследствии разделили на три комнаты. Одну из частей этого “мира” занимали знаменитый режиссер, актер Александр Санин и его жена Лика Мизинова. Именно в этой квартире Лика пыталась соблазнить Антона Павловича Чехова, а ее горничная Оленька, которую я знала глубокой старушкой, стала прообразом чеховской “Душечки”, хотя дома ее называли душенькой. Жил здесь секретарь посольства Персии, его дочка впоследствии вышла замуж за директора ЦДЛ. В соседней комнате обитала секретарша Михаила Фрунзе, она была ученицей Константина Циолковского и страшно этим гордилась. Жил генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Иван Афонин. Даже кладовка в этом доме была занята женщиной, которая преподавала философию в Плехановском институте. Все эти люди были друг другу глубокими родственниками, если можно так сказать. Они вообще нисколько не стеснялись того, что живут вот так, в коммунальной квартире, все вместе.
В 15 лет я получила ключи от двух комнат по этому адресу: Арбат, 27, 11. Мои окна выходили на квартиру Александра Пороховщикова (актер А. Пороховщиков жил по адресу: Староконюшенный переулок, 36. – А.В.). На 39 троллейбусе, от движения которого в сервантах приятно звенела посуда, я добиралась до Красной площади, абсолютно счастливая и не понимающая, за что мне досталось такое счастье. Сын белогвардейского офицера Олег Масаинов, тоже проживавший там, постоянно вызывал милицию, когда я открыла дома “салон Маши Арбатовой”, куда приглашала друзей-хиппи. Мы рисовали на стенах совершенно невообразимые картины. Тогда за мной закрепилось прозвище “Маша с Арбата”, которое я потом сделала своим псевдонимом. Позже родились дети и недолго успели пожить в этом месте.
Собственно, из-за детей мы и решились переехать. Двоих близнецов нужно было нести на руках из комнаты до ванной минут пять, такие были расстояния. Эти сложности невозможно ощущать только по молодости, с детьми они стали заметны. И врачи сказали нам, что если мы хотим, чтобы у сыновей были здоровые легкие, надо переезжать. Такое говорили почти 40 лет назад, понятно, что сказали бы сейчас…
Но Арбат мне снится, в том прежнем своем обличии, и когда я заболеваю, я обязательно еду туда, меня не остановит, даже если в этот момент идет град размером с куриное яйцо. Мне необходимо надышаться каждым его камушком, и от этой терапии всегда становится легче (…). Мой дом не обошли “преобразования”. На крыше уникального памятника архитектуры появился пентхаус. Когда я увидела его в первый раз, хотела подать в суд, с точки зрения охраны памятников архитектуры, но потом подумала, как необыкновенно хорошо живется людям там, наверху, какой невообразимо красивый вид открывается у них на Арбат».
Ныне дом заявлен как объект культурного наследия, ну а та самая рюмка есть не что иное, как итог перестройки крыши здания, устроенной одним из представителей новой староконюшенной «аристократии» уже в наше время.
Дом «под рюмкой», наши дни
2. Ярослав Смеляков на Арбате: «К врачам обращаться не стану»
Плутая по старой Москве, то и дело натыкаешься на тот или иной дом, несущий в себе отголоски былого, давно отставшего времени. И сколько бы путеводителей ни брал я в руки, не найти в них того, о чем иногда хочется прочитать. В неказистом старом доме № 38/1, что притулился на перекрестье Арбата и Спасопесковского переулка, более 65 лет назад происходили драматические события. Теплым августовским вечером 1951 года в гости к поэту Ярославу Смелякову пришли его молодые коллеги Константин Ваншенкин и Евгений Винокуров.
Однокомнатная квартирка Смелякова была такой маленькой, что кухня в ней не помещалась. Газовая плитка и та стояла в коридоре, на ней и готовила жена поэта, Евдокия Васильевна (известная в писательских и иных кругах как Дуся). Просидели долго, читая стихи, уговорили три бутылки. Когда их не хватило, раскупорили стоящую на окне бутыль-четверть со смородинной наливкой. Как вспоминает Ваншенкин, Смеляков «был словно чем-то озабочен, расстроен, но пытался отвлечься, попросил нас почитать стихи. Время от времени подходил к распахнутому окну и вглядывался в темноту». Что он мог там увидеть, разве что силуэт храма Спаса на Песках, который угодил на знаменитый поленовский пейзаж «Московский дворик»? В честь этого храма-картинки и получил свое название Спасопесковский переулок.
Смеляков попросил Винокурова: «Посмотрите, там, напротив, никого нет на крыше?» Винокуров высунулся из окна, а Смеляков сказал ему: «Только не блевать!» Винокуров обиделся – его ведь даже не тошнило, а из окна он никого не увидел.
Ваншенкин и Винокуров покинули дом в Спасопесковском уже затемно. А потом в квартиру Смеляковых пришли незваные гости, и в карманах у них была не водка, а ордера на арест и обыск. Хозяина квартиры они забрали с собой. Было ли это неожиданностью для Смелякова? Похоже, что нет. Незадолго до ареста он признался жене: «Скоро меня посадят». Причиной плохого предчувствия послужила несдержанность Смелякова. Однажды, выпивая с Дусей и еще одним приятелем-поэтом, он сболтнул: «Странное дело! О Ленине я могу писать стихи, а о Сталине не получается. Я его уважаю, конечно, но не люблю». И все. Приятель ушел, а Дуся разрыдалась: «Если б ты видел, какие у него сделались глаза, когда ты это сказал!» – «А что я такого сказал? Сказал – уважаю».
В этом доме в третий раз арестовали Ярослава Смелякова
Есть и другая версия причины ареста. Летом 1951 года в Москву приехал турецкий поэт и политический эмигрант Назым Хикмет, поселили его в гостинице «Москва». Смеляков пришел к нему под проливным дождем. Хикмет отдал промокшему поэту свою рубашку, а Смеляков подарил ему книгу «Кремлевские ели». Хикмет был рад книге: «Твое лицо похоже на лицо Маяковского, и я боялся, брат, что ты и пишешь, как он, лестницами. Но второй Маяковский, как второй Шекспир или второй Толстой, литературе не нужен. Нам всем надо стараться идти своей дорогой. А это самое тяжелое дело». После той встречи в «Москве» Смеляков стал ходить к Хикмету чуть ли не ежедневно. А потом пропал. Хикмет все пытался выяснить – в чем дело? Лишь по прошествии полутора лет одна знакомая шепотом сообщила – Смеляков арестован и будто бы без Хикмета не обошлось.
Якобы Смеляков во время одного из своих визитов в «Москву», находясь подшофе, спросил Хикмета о том, как его содержали в турецких тюрьмах, били ли его на допросах и тому подобное. На это Хикмет ответил, что его и пальцем не тронули. И тогда Смеляков бросил опасную фразу: «Считай, Назым, что ты и тюрьмы не нюхал. Подумаешь, одиночка! Да у нас за год следствия ты бы такое крещение прошел, что и ад показался бы раем». И тогда Хикмет официально попросил Союз писателей «оградить себя от дружбы» со Смеляковым, после чего последнего и арестовали.
Хикмет, дабы опровергнуть этот слух, обратился к Александру Фадееву, пытаясь защитить и Смелякова, и свое честное имя. Но руководитель Союза писателей все возможные ходатайства отверг, заявив, что помогать Смелякову бесполезно, он осужден на 25 лет по обвинению в антисоветской агитации и измене Родине. Но зато Фадеев где-то «проверил», упоминается ли имя Хикмета в уголовном деле Смелякова – оказалось, что нет. Впоследствии вышедший на свободу Смеляков подтвердил порядочность Хикмета. При Сталине хорошей привычкой было хранить в доме чемоданчик со сменой белья и тем, что может понадобиться, когда такой вот глубокой ночью настойчиво позвонят в дверь. Но дело было даже не в чемоданчике. Смелякова на квартире в Спасопесковском переулке взяли в третий раз. И уже в последний. Ведь срок ему дали на всю катушку – четвертак (двадцать пять лет), после чего уже не возвращаются.
Черный воронок на улицах Москвы
О чем думал Смеляков, вновь оказавшись пассажиром черного воронка? Вспоминал ли, как приехал в Москву, где в 1932 году вышла его первая книга «Работа и любовь»? Интересно, что он сам же ее и набирал в типографии, где работал тогда. Комсомольский поэт Смеляков воспевал новую Москву, нарекая ее «городом весенним, звонкотрубым, на пороге солнечных времен». А по улицам Москвы ходили герои его стихотворений: и «хорошая девочка Лида», и «Любка Фейгельман» (Любовь Саввишна Руднева (Фейгельман), которая в более чем зрелые годы утверждала, что «все, что Смеляков написал про меня, это чушь, мы с Яром никогда не целовались»). И те, к кому он обращался в самом известном своем стихотворении:
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.
Порошков или капель – не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
Было у него два закадычных друга-поэта: Павел Васильев и Борис Корнилов. Оба сгинули в мясорубке сталинских репрессий. А Смелякову повезло – он выжил, правда, лучшие годы своей жизни провел за колючей проволокой. Первый раз взяли его в 1934 году; узнав об убийстве Кирова, он неосмотрительно заметил: «Теперь пойдут аресты, пострадает много невинных людей» (Евгений Евтушенко называет иную причину: «Смеляков публично справил малую нужду на портрет Сталина»). Выпустили поэта в 1937 году, когда многие шли в обратном направлении.
После освобождения он пришел к функционеру Союза писателей Ставскому. Тот приободрил Смелякова, сказал, что поможет устроиться в заводскую газету, а еще поделился злободневной проблемой: нужно вот срочно посадить Васильева и Корнилова, чем он сейчас и занимается. Как вспоминал Смеляков, услыхав это, он сидел «ни жив, ни мертв». Позднее, обращаясь к матери расстрелянного Корнилова, Смеляков напишет:
Он бы стал сейчас лауреатом,
Я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
Он-то предо мной не виноват.
Он продолжал писать, но времени до новых тяжелых испытаний оставалось немного. В 1941 году Смеляков ушел на фронт, а вскоре попал в плен, причем в финский. Поведение его в плену было безупречно, когда в лагерь пожаловала комиссия Красного Креста, он устроил ей разнос по причине плохого содержания военнопленных. И самое главное, что после этого пленных стали даже лечить.
Интересно, что в изданном в 1943 году сборнике стихов, куда были включены произведения лучших (по мнению цензуры) на тот момент советских поэтов, помимо стихов Ахматовой и Пастернака есть и стихи Смелякова. А все потому, что его считали погибшим. Так, в письме от декабря 1942 года Лиля Брик и Василий Катанян сообщали Николаю Глазкову, который находился в эвакуации в Горьком: «Слуцкий был легко ранен и, выздоровев, вернулся на фронт. Но вот уже два месяца о нем снова ничего неизвестно. Коган и Смеляков убиты». Через некоторое время Борис Слуцкий объявился, подтвердилась документально гибель Павла Когана в бою под Новороссийском. А вот о Смелякове по-прежнему ничего нового: если убит, то где? И тогда приятель Смелякова Евгений Долматовский решил посвятить памяти коллеги стихотворение «Последняя вечеринка»:
Вразвалку, грузно входит в дверь
Угрюмый Ярослав.
Где ты, мой друг, лежишь теперь,
Как пламя, отпылав?
«Когда слух о гибели Смелякова дошел и до нашего Брянского фронта, – вспоминал Яков Хелемский, – мой давний друг, а тогда и армейский однокашник, Даниил Данин одновременно получил из Москвы с оказией стихотворение Ярослава, ходившее в списках и считавшееся п о с л е д н и м. Даня, хоть и сам побывал в окружении, принял эту версию на веру и внушил свое восприятие мне. Стихотворение Ярослава, теперь знаменитое, начиналось строкой “Если я заболею, к врачам обращаться не стану…”. Потрясенные очередной утратой, мы все время повторяли: “Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду…” А концовка “Не больничным уйду коридором, а Млечным Путем…” и впрямь напоминала автоэпитафию. Скорбные слухи и смеляковский шедевр слились в нашем сознании воедино. Мы тоже решили, что Ярослава больше нет. А он был. Только в плену у финнов. Когда маленькая северная страна вышла из войны, он возник, увы, ненадолго. Его сразу же спровадили на наш север. После финского плена он оказался узником ГУЛАГа».
А стихотворение «Последняя вечеринка», посвященное собственной гибели, Смеляков все же прочитал, сказав автору с юмором: «Спасибо, гражданин начальник. Оказывается, вы, как говаривали мои солагерники, в гробу меня видали… Беда в том, что мы даже не можем с тобой раздавить полбанки в честь возвращения с того света». Трудно судить – что более всего огорчило Смелякова, то ли само стихотворение, то ли сухой закон, которого придерживался Долматовский – после ранения в голову врачи категорически запретили ему употреблять спиртное. Так он и жил трезвенником, а Смеляков жалел его.
Возвратившись из финского плена, Смеляков опять угодил в лагерь, где его несколько лет «фильтровали». Вместе с ним сидел и брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря Смелякову въезд в Москву был заказан. Работал он в многотиражке на подмосковной угольной шахте. В Москву ездил украдкой, никогда не ночевал.
Но благодаря Константину Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь воскреснуть. Вскоре его уже печатал «Новый мир», а в 1948 году вышла книга «Кремлевские ели». Он писал правильные стихи. В переполненных патетикой стихотворениях «Наш герб» и «Мое поколение» нет и намека на пережитые автором горести. Все как будто бы шло хорошо. Смеляков активно сочинял, зарабатывал в основном переводами национальных поэтов.
Константин Ваншенкин
Как-то он получил крупный гонорар, решив тысячи три рублей утаить от жены Дуси в качестве заначки. Едет Смеляков домой, в Спасопесковский переулок, и думает: куда бы их спрятать, чтобы Дуся не дозналась? С ним в такси ехал один поэт-собутыльник, он и подсказал: «А я заначку всегда прячу в одно место – в диван, между сиденьем и спинкой». Так Смеляков и сделал, причем немедля. Утром, продрав глаза, Ярослав Васильевич, пересчитывая гонорар, обнаружил, что не хватает трех тысяч. Большого труда ему стоило вспомнить, куда именно он схоронил свою заначку – между спинкой и сиденьем… такси. Но пить он не перестал. Его часто можно было встретить в ресторане ЦДЛ. Однако все опять сорвалось в тот злополучный августовский вечер 1951 года.
На следующее утро после ночного сидения у Смелякова в Спасопесковском, зайдя в «Литературную газету» к Семену Гудзенко, Константин Ваншенкин узнал от него, что «ночью взяли Ярослава». Опытные люди пояснили, почему Смелякова взяли только после ухода Ваншенкина и Винокурова – с ними пришлось бы возиться, вносить в протокол.
А Смеляков вскоре оказался «в казенной шапке, в лагерном бушлате, / полученном в интинской стороне, / без пуговиц, но с черною печатью, / поставленной чекистом на спине». Эти строки были написаны им в 1953 году, в заполярной Инте, печально прославившейся своими лагерями. Упоминаемая черная печать – это лагерный номер Смелякова: Л-222.
В 15 лет я получила ключи от двух комнат по этому адресу: Арбат, 27, 11. Мои окна выходили на квартиру Александра Пороховщикова (актер А. Пороховщиков жил по адресу: Староконюшенный переулок, 36. – А.В.). На 39 троллейбусе, от движения которого в сервантах приятно звенела посуда, я добиралась до Красной площади, абсолютно счастливая и не понимающая, за что мне досталось такое счастье. Сын белогвардейского офицера Олег Масаинов, тоже проживавший там, постоянно вызывал милицию, когда я открыла дома “салон Маши Арбатовой”, куда приглашала друзей-хиппи. Мы рисовали на стенах совершенно невообразимые картины. Тогда за мной закрепилось прозвище “Маша с Арбата”, которое я потом сделала своим псевдонимом. Позже родились дети и недолго успели пожить в этом месте.
Собственно, из-за детей мы и решились переехать. Двоих близнецов нужно было нести на руках из комнаты до ванной минут пять, такие были расстояния. Эти сложности невозможно ощущать только по молодости, с детьми они стали заметны. И врачи сказали нам, что если мы хотим, чтобы у сыновей были здоровые легкие, надо переезжать. Такое говорили почти 40 лет назад, понятно, что сказали бы сейчас…
Но Арбат мне снится, в том прежнем своем обличии, и когда я заболеваю, я обязательно еду туда, меня не остановит, даже если в этот момент идет град размером с куриное яйцо. Мне необходимо надышаться каждым его камушком, и от этой терапии всегда становится легче (…). Мой дом не обошли “преобразования”. На крыше уникального памятника архитектуры появился пентхаус. Когда я увидела его в первый раз, хотела подать в суд, с точки зрения охраны памятников архитектуры, но потом подумала, как необыкновенно хорошо живется людям там, наверху, какой невообразимо красивый вид открывается у них на Арбат».
Ныне дом заявлен как объект культурного наследия, ну а та самая рюмка есть не что иное, как итог перестройки крыши здания, устроенной одним из представителей новой староконюшенной «аристократии» уже в наше время.
Дом «под рюмкой», наши дни
2. Ярослав Смеляков на Арбате: «К врачам обращаться не стану»
Плутая по старой Москве, то и дело натыкаешься на тот или иной дом, несущий в себе отголоски былого, давно отставшего времени. И сколько бы путеводителей ни брал я в руки, не найти в них того, о чем иногда хочется прочитать. В неказистом старом доме № 38/1, что притулился на перекрестье Арбата и Спасопесковского переулка, более 65 лет назад происходили драматические события. Теплым августовским вечером 1951 года в гости к поэту Ярославу Смелякову пришли его молодые коллеги Константин Ваншенкин и Евгений Винокуров.
Однокомнатная квартирка Смелякова была такой маленькой, что кухня в ней не помещалась. Газовая плитка и та стояла в коридоре, на ней и готовила жена поэта, Евдокия Васильевна (известная в писательских и иных кругах как Дуся). Просидели долго, читая стихи, уговорили три бутылки. Когда их не хватило, раскупорили стоящую на окне бутыль-четверть со смородинной наливкой. Как вспоминает Ваншенкин, Смеляков «был словно чем-то озабочен, расстроен, но пытался отвлечься, попросил нас почитать стихи. Время от времени подходил к распахнутому окну и вглядывался в темноту». Что он мог там увидеть, разве что силуэт храма Спаса на Песках, который угодил на знаменитый поленовский пейзаж «Московский дворик»? В честь этого храма-картинки и получил свое название Спасопесковский переулок.
Смеляков попросил Винокурова: «Посмотрите, там, напротив, никого нет на крыше?» Винокуров высунулся из окна, а Смеляков сказал ему: «Только не блевать!» Винокуров обиделся – его ведь даже не тошнило, а из окна он никого не увидел.
Ваншенкин и Винокуров покинули дом в Спасопесковском уже затемно. А потом в квартиру Смеляковых пришли незваные гости, и в карманах у них была не водка, а ордера на арест и обыск. Хозяина квартиры они забрали с собой. Было ли это неожиданностью для Смелякова? Похоже, что нет. Незадолго до ареста он признался жене: «Скоро меня посадят». Причиной плохого предчувствия послужила несдержанность Смелякова. Однажды, выпивая с Дусей и еще одним приятелем-поэтом, он сболтнул: «Странное дело! О Ленине я могу писать стихи, а о Сталине не получается. Я его уважаю, конечно, но не люблю». И все. Приятель ушел, а Дуся разрыдалась: «Если б ты видел, какие у него сделались глаза, когда ты это сказал!» – «А что я такого сказал? Сказал – уважаю».
В этом доме в третий раз арестовали Ярослава Смелякова
Есть и другая версия причины ареста. Летом 1951 года в Москву приехал турецкий поэт и политический эмигрант Назым Хикмет, поселили его в гостинице «Москва». Смеляков пришел к нему под проливным дождем. Хикмет отдал промокшему поэту свою рубашку, а Смеляков подарил ему книгу «Кремлевские ели». Хикмет был рад книге: «Твое лицо похоже на лицо Маяковского, и я боялся, брат, что ты и пишешь, как он, лестницами. Но второй Маяковский, как второй Шекспир или второй Толстой, литературе не нужен. Нам всем надо стараться идти своей дорогой. А это самое тяжелое дело». После той встречи в «Москве» Смеляков стал ходить к Хикмету чуть ли не ежедневно. А потом пропал. Хикмет все пытался выяснить – в чем дело? Лишь по прошествии полутора лет одна знакомая шепотом сообщила – Смеляков арестован и будто бы без Хикмета не обошлось.
Якобы Смеляков во время одного из своих визитов в «Москву», находясь подшофе, спросил Хикмета о том, как его содержали в турецких тюрьмах, били ли его на допросах и тому подобное. На это Хикмет ответил, что его и пальцем не тронули. И тогда Смеляков бросил опасную фразу: «Считай, Назым, что ты и тюрьмы не нюхал. Подумаешь, одиночка! Да у нас за год следствия ты бы такое крещение прошел, что и ад показался бы раем». И тогда Хикмет официально попросил Союз писателей «оградить себя от дружбы» со Смеляковым, после чего последнего и арестовали.
Хикмет, дабы опровергнуть этот слух, обратился к Александру Фадееву, пытаясь защитить и Смелякова, и свое честное имя. Но руководитель Союза писателей все возможные ходатайства отверг, заявив, что помогать Смелякову бесполезно, он осужден на 25 лет по обвинению в антисоветской агитации и измене Родине. Но зато Фадеев где-то «проверил», упоминается ли имя Хикмета в уголовном деле Смелякова – оказалось, что нет. Впоследствии вышедший на свободу Смеляков подтвердил порядочность Хикмета. При Сталине хорошей привычкой было хранить в доме чемоданчик со сменой белья и тем, что может понадобиться, когда такой вот глубокой ночью настойчиво позвонят в дверь. Но дело было даже не в чемоданчике. Смелякова на квартире в Спасопесковском переулке взяли в третий раз. И уже в последний. Ведь срок ему дали на всю катушку – четвертак (двадцать пять лет), после чего уже не возвращаются.
Черный воронок на улицах Москвы
О чем думал Смеляков, вновь оказавшись пассажиром черного воронка? Вспоминал ли, как приехал в Москву, где в 1932 году вышла его первая книга «Работа и любовь»? Интересно, что он сам же ее и набирал в типографии, где работал тогда. Комсомольский поэт Смеляков воспевал новую Москву, нарекая ее «городом весенним, звонкотрубым, на пороге солнечных времен». А по улицам Москвы ходили герои его стихотворений: и «хорошая девочка Лида», и «Любка Фейгельман» (Любовь Саввишна Руднева (Фейгельман), которая в более чем зрелые годы утверждала, что «все, что Смеляков написал про меня, это чушь, мы с Яром никогда не целовались»). И те, к кому он обращался в самом известном своем стихотворении:
Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.
Порошков или капель – не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
Вот чем стоит лечить.
От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь, почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.
Было у него два закадычных друга-поэта: Павел Васильев и Борис Корнилов. Оба сгинули в мясорубке сталинских репрессий. А Смелякову повезло – он выжил, правда, лучшие годы своей жизни провел за колючей проволокой. Первый раз взяли его в 1934 году; узнав об убийстве Кирова, он неосмотрительно заметил: «Теперь пойдут аресты, пострадает много невинных людей» (Евгений Евтушенко называет иную причину: «Смеляков публично справил малую нужду на портрет Сталина»). Выпустили поэта в 1937 году, когда многие шли в обратном направлении.
После освобождения он пришел к функционеру Союза писателей Ставскому. Тот приободрил Смелякова, сказал, что поможет устроиться в заводскую газету, а еще поделился злободневной проблемой: нужно вот срочно посадить Васильева и Корнилова, чем он сейчас и занимается. Как вспоминал Смеляков, услыхав это, он сидел «ни жив, ни мертв». Позднее, обращаясь к матери расстрелянного Корнилова, Смеляков напишет:
Он бы стал сейчас лауреатом,
Я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
Он-то предо мной не виноват.
Он продолжал писать, но времени до новых тяжелых испытаний оставалось немного. В 1941 году Смеляков ушел на фронт, а вскоре попал в плен, причем в финский. Поведение его в плену было безупречно, когда в лагерь пожаловала комиссия Красного Креста, он устроил ей разнос по причине плохого содержания военнопленных. И самое главное, что после этого пленных стали даже лечить.
Интересно, что в изданном в 1943 году сборнике стихов, куда были включены произведения лучших (по мнению цензуры) на тот момент советских поэтов, помимо стихов Ахматовой и Пастернака есть и стихи Смелякова. А все потому, что его считали погибшим. Так, в письме от декабря 1942 года Лиля Брик и Василий Катанян сообщали Николаю Глазкову, который находился в эвакуации в Горьком: «Слуцкий был легко ранен и, выздоровев, вернулся на фронт. Но вот уже два месяца о нем снова ничего неизвестно. Коган и Смеляков убиты». Через некоторое время Борис Слуцкий объявился, подтвердилась документально гибель Павла Когана в бою под Новороссийском. А вот о Смелякове по-прежнему ничего нового: если убит, то где? И тогда приятель Смелякова Евгений Долматовский решил посвятить памяти коллеги стихотворение «Последняя вечеринка»:
Вразвалку, грузно входит в дверь
Угрюмый Ярослав.
Где ты, мой друг, лежишь теперь,
Как пламя, отпылав?
«Когда слух о гибели Смелякова дошел и до нашего Брянского фронта, – вспоминал Яков Хелемский, – мой давний друг, а тогда и армейский однокашник, Даниил Данин одновременно получил из Москвы с оказией стихотворение Ярослава, ходившее в списках и считавшееся п о с л е д н и м. Даня, хоть и сам побывал в окружении, принял эту версию на веру и внушил свое восприятие мне. Стихотворение Ярослава, теперь знаменитое, начиналось строкой “Если я заболею, к врачам обращаться не стану…”. Потрясенные очередной утратой, мы все время повторяли: “Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду…” А концовка “Не больничным уйду коридором, а Млечным Путем…” и впрямь напоминала автоэпитафию. Скорбные слухи и смеляковский шедевр слились в нашем сознании воедино. Мы тоже решили, что Ярослава больше нет. А он был. Только в плену у финнов. Когда маленькая северная страна вышла из войны, он возник, увы, ненадолго. Его сразу же спровадили на наш север. После финского плена он оказался узником ГУЛАГа».
А стихотворение «Последняя вечеринка», посвященное собственной гибели, Смеляков все же прочитал, сказав автору с юмором: «Спасибо, гражданин начальник. Оказывается, вы, как говаривали мои солагерники, в гробу меня видали… Беда в том, что мы даже не можем с тобой раздавить полбанки в честь возвращения с того света». Трудно судить – что более всего огорчило Смелякова, то ли само стихотворение, то ли сухой закон, которого придерживался Долматовский – после ранения в голову врачи категорически запретили ему употреблять спиртное. Так он и жил трезвенником, а Смеляков жалел его.
Возвратившись из финского плена, Смеляков опять угодил в лагерь, где его несколько лет «фильтровали». Вместе с ним сидел и брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря Смелякову въезд в Москву был заказан. Работал он в многотиражке на подмосковной угольной шахте. В Москву ездил украдкой, никогда не ночевал.
Но благодаря Константину Симонову, замолвившему слово за Смелякова, ему удалось вновь воскреснуть. Вскоре его уже печатал «Новый мир», а в 1948 году вышла книга «Кремлевские ели». Он писал правильные стихи. В переполненных патетикой стихотворениях «Наш герб» и «Мое поколение» нет и намека на пережитые автором горести. Все как будто бы шло хорошо. Смеляков активно сочинял, зарабатывал в основном переводами национальных поэтов.
Константин Ваншенкин
Как-то он получил крупный гонорар, решив тысячи три рублей утаить от жены Дуси в качестве заначки. Едет Смеляков домой, в Спасопесковский переулок, и думает: куда бы их спрятать, чтобы Дуся не дозналась? С ним в такси ехал один поэт-собутыльник, он и подсказал: «А я заначку всегда прячу в одно место – в диван, между сиденьем и спинкой». Так Смеляков и сделал, причем немедля. Утром, продрав глаза, Ярослав Васильевич, пересчитывая гонорар, обнаружил, что не хватает трех тысяч. Большого труда ему стоило вспомнить, куда именно он схоронил свою заначку – между спинкой и сиденьем… такси. Но пить он не перестал. Его часто можно было встретить в ресторане ЦДЛ. Однако все опять сорвалось в тот злополучный августовский вечер 1951 года.
На следующее утро после ночного сидения у Смелякова в Спасопесковском, зайдя в «Литературную газету» к Семену Гудзенко, Константин Ваншенкин узнал от него, что «ночью взяли Ярослава». Опытные люди пояснили, почему Смелякова взяли только после ухода Ваншенкина и Винокурова – с ними пришлось бы возиться, вносить в протокол.
А Смеляков вскоре оказался «в казенной шапке, в лагерном бушлате, / полученном в интинской стороне, / без пуговиц, но с черною печатью, / поставленной чекистом на спине». Эти строки были написаны им в 1953 году, в заполярной Инте, печально прославившейся своими лагерями. Упоминаемая черная печать – это лагерный номер Смелякова: Л-222.