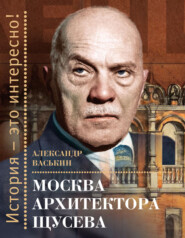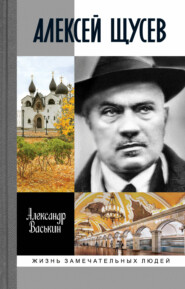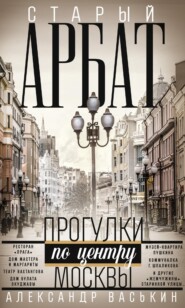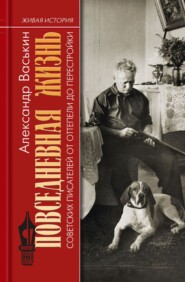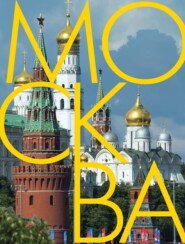По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повседневная жизнь советской богемы от Лили Брик до Галины Брежневой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На вечерах (поэтам выделили понедельник и пятницу) выступали Борис Пастернак, Валерий Брюсов, Илья Эренбург, Анатолий Мариенгоф, Павел Антокольский, а также брат Брюсова бывший народоволец Юрий, критик-махновец Иуда Гроссман-Рощин, потомок исследователя Камчатки Степана Крашенинникова, и прочие экзотические персонажи. Приходили обедать и Алексей Ремизов с женой. Ремизов столовался во дворце осенью 1920 года незадолго до эмиграции в 1921 году, ему даже купили за счет дворца обратный билет до Петрограда, о чем свидетельствует сохранившаяся в архиве расписка. Страстный поклонник дарвиновской теории, странноватый Ремизов провозгласил себя главой «Обезьяньей великой и вольной палаты» – Обезвелволпала. Рукавишникову он пожаловал в 1920 году обезьяний знак I степени с бобровыми хвостами и печать поставил. Надо полагать, Рукавишников после очередного возлияния мог поверить во что угодно, даже в происхождение от обезьяны. Подарок пришелся «ко дворцу».
Однажды появился на Поварской и «председатель земного шара» Велимир Хлебников, как известно, не нуждавшийся в каком-либо комфорте в принципе (богема!). «Он был молод и безмолвен. Разговаривал он – и то тихо – с одним Рукавишниковым, – вспоминала Эсфирь Шуб. – Я знала от Ивана Сергеевича, что под одеждой Хлебников носит вериги. Как говорили, он не мылся и не причесывал выросших без стрижки пепельных волос. Глаза его тоже были застывшим пеплом. Он мог часами сидеть в венецианской комнате, у двери, открытой на балкон, не произнося ни слова. Спал он, не раздеваясь, на больших подушках, крытых старинной парчой. Затем он исчез. Рукавишников скучал без него, ждал его возвращения». Ну что здесь скажешь – парчу жалко!
Старая дева и по совместительству графиня Елена Федоровна Соллогуб и ее не менее ветхая экономка Дарья Трофимовна, поменявшиеся при новой власти местом жительства, но отнюдь не обязанностями, уживались во дворце прекрасно. Дарья Трофимовна заведовала столовой в подвале – бывшей трапезной со сводами, а летом распоряжалась во дворе, обустроенном под манер итальянского патио с опутавшим все диким виноградом. Бывшая графская экономка, сообщает Серпинская, «в монашеском черном платье, вышколенная и аккуратная, раздавала торжественно порции чечевичного супа с воблой и пшенную кашу». Ее тоже бывшая хозяйка непременно заявлялась на обед с серебряным судком, унося все с собой: «…ходила она обношенная, в рваных перчатках, в стоптанных туфлях на веревочных подметках».
В один прекрасный день старушка не пришла со своим судком. Оказалось, ее ночью забрали в ЧК: в усадьбе нашли те самые несметные богатства, о которых рассказывал Рукавишников, в том числе запасы изъеденного молью шелка и мехов, 60 (!) пар импортных женских шелковых чулок и кучу обуви. Истинные ценности нашли в домовом храме усадьбы – золотые и серебряные изделия. Графиню отправили на исправление в концлагерь под Москвой, но тогда это был почти санаторий по сравнению с позднейшими учреждениями ГУЛАГа. Бабуля там на свежем воздухе поправилась, посвежела, привозила гостинцы экономке (ее отпускали из лагеря домой два раза в неделю).
У «бывших» тоже был свой круг общения, в частности, граф и художник Сергей Шереметев, съехавший из огромного фамильного дома на Воздвиженке, а также купчиха Елизавета Алексеевна Красильщикова, державшая до 1917 года салон в усадьбе на Моховой улице, куда частенько захаживали Шаляпин с Рахманиновым. Ее парадный портрет «под Ермолову» писал в 1906 году Валентин Серов, когда купчиха еще слыла женщиной своенравной, амбициозной и властной, с претензиями на светскость. У графа и купчихи закрутился роман, впоследствии они уехали в Париж, где у Шереметева была квартира-студия.
Но не все художники, как Шереметев, покинули родину, тем более что некоторым и ехать-то было некуда. Вот они-то и остались во дворце, один из них – Николай Вышеславцев, создатель галереи графических портретов фигур Серебряного века – Андрея Белого, Вяч. Иванова, Павла Флоренского, Владислава Ходасевича, Густава Шпета, Марины Цветаевой. По окончании в Москве Студии живописи и рисунка Ильи Машкова с 1908 по 1914 год Вышеславцев жил в Италии и во Франции. Участник Первой мировой войны, он был ранен, контужен, стал заикаться. В 1920 году во дворце прошла его выставка, на которую пришли и герои его полотен. «Надо прежде всего делать свое дело, – повторял художник, – притом возможно лучше для самого себя делать… а сделаешь хорошо для себя – смотришь, и для других получилось неплохо». Владимир Лидин вспоминал, как ловко управлялся Вышеславцев с ластиком, игравшим не меньшую роль, чем карандаш: «Для него это была гамма, которой он неустанно упражнял свои руки: правой рукой он рисовал, а левой стирал ненужное».
Книголюб Вышеславцев был оформлен во дворце библиотекарем и по совместительству раздавал хлеб его членам. Главное было не опаздывать к раздаче – педантичный заика Вышеславцев был строг. Но даже опоздавших женщин он очаровывал: «Молчаливый, замкнутый, рассудочный и культурный, с непроницаемым выражением светлых зеленоватых глаз и подобранного тонкого рта, он не тратил “зря” время на болтовню во время общей еды или “чаев” на очередных вечерах», – пишет Серпинская. Не скрывала чувств и Цветаева, познакомившаяся с ним весной 1920 года: «Это единственный человек, которого я чувствую выше себя, кроме С.». Под буквой С. скрывался муж Сергей Эфрон, воевавший в это время с большевиками. Цветаева посвятила Вышеславцеву 27 стихотворений, а он оформил обложку сборника ее стихов «Версты» в 1922 году. А позировала ему все равно Серпинская, с которой он расплачивался хлебом.
Еще один художник, видный представитель символизма Василий Миллиоти (в некоторых источниках упоминается как Милиоти) жил в правом флигеле усадьбы. Одаренный человек, не имевший художественного образования, он тем не менее приобрел заслуженный авторитет в театральной среде (оформил в 1906 году спектакль Мейерхольда в петербургском театре Веры Комиссаржевской), а также и у коллег, участвуя в объединении «Золотое руно». Показывал он свои работы и на выставках Союза русских художников и «Мира искусства». Самое интересное, что по профессии Миллиоти был уголовным следователем, перемежая эту работу с занятием живописью. После 1917 года он окончательно порвал с правоохранительной деятельностью, от греха подальше, был членом Комиссии по закупке картин в музейный фонд Москвы.
К Василию Миллиоти на Поварскую часто до эмиграции приходил его старший брат Николай – не менее известный художник. Он не уступал ему по таланту, к тому же имел художественное образование, с 1894 по 1900 год занимался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Серова. Поступив в 1898 году на историко-филологический факультет Московского университета, Николай закончил образование в Сорбонне, параллельно учился в знаменитой Академии Жюльена. Братья Миллиоти участвовали почти во всех известных художественных выставках эпохи Серебряного века. Однако в 1920 году их пути разошлись. Василий остался в России, а Николай выехал в Болгарию, а оттуда в Берлин, где в 1921 году стал одним из организаторов русского Дома искусств. За границей для него начался новый этап творчества, он много работал, писал портреты, оформлял спектакли, занимался активной общественной деятельностью в эмигрантской среде, его имя стоит в одном ряду с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой. Прожил Николай Миллиоти 88 лет и умер в 1962 году. А вот брат Василий не нашел себя в стране, где главным методом творчества объявили соцреализм. Последняя его значительная работа относится к 1927 году – цикл рисунков к «Пиру во время чумы» Пушкина. Художник перестал участвовать в выставках, жил уединенно. Умер в 1943 году в 68 лет. Судьбы братьев на редкость показательны.
Жена третьего брата Юрия – Марина Миллиоти бывала во Дворце искусств и в 1951 году записала свои яркие бытовые зарисовки: «Комната крошечная. От потолка почти до пола картины, картины и еще раз картины и свои и других художников, последнее все, несомненно, подаренное друзьями-художниками. У окна – бюро, старинное бюро без подделки. На нем череп встречает гостя оскалом мертвых зубов. Черепа всюду, даже пепельница – череп! Целый мешок черепов человеческих притащил Василию Дмитриевичу какой-то приятель. В закуте мольберт, куча красок, маленькая кушетка, заменяющая кровать, масса книг…
Не успела я присесть, как раздался стук в дверь. На пороге открывшейся двери оказалось что-то высокое, тонкое, бледноглазое, изысканно-породистое – все блеклых тонов, как долго лежалый лист, в красной кофте с моноклем в глазу. Хочется опять протереть глаза. Галлюцинация? Нет, это сосед Василия Дмитриевича, жилец следующей комнаты флигеля, художник, истый парижанин, влюбленный в Париж, парижские шантаны, бывший товарищ по играм великих князей, так как его отец был их воспитателем – Сергей Сергеевич Шереметев. Всем обликом напоминает старую даму. Все время кудахчет, но кудахчет мило и забавно. Приглашает посмотреть свои картины. Идем. У него две комнаты, заполненные до отказа вещами из дворцов Шереметевых. Вещи прекрасные, ценные, особенно табакерки. На стенах какие-то предки. Пастель – виды Парижа. Все такое же бледноглазое, блеклое, давно ушедшее, как автор картин. Приходится хвалить. Все втроем возвращаемся в комнату Василия Дмитриевича…
Стук в дверь: входят В. О. Массалитинова (актриса Малого театра. – А. В.) и поэтесса Марина Цветаева – обе, конечно, приятельницы Василия Дмитриевича. Сидеть уже негде, но мы потеснились – место нашлось. У поэтессы хорошие стихи, очень дамские и огрубевшие руки с толстыми пальцами, на одном из них, по ее выражению, “символическое кольцо”. Оно медное и толстое. Обе дамы явно неравнодушны к Василию Дмитриевичу, хотя Массалитинова ведет какие-то разговоры о прекрасных мальчиках. Кто же эти “прекрасные мальчики”, я так и не поняла. Снова стук. Протереть глаза? Галлюцинация? Не стоит тереть глаз. Эго тоже череп, но еще непогребенный и, кстати, знакомый. “Череп” прехорошенький, необычайно густо намазанный, но сквозь краску оскал настоящего черепа – что-то мертвое, изжитое – все пути-дороги исхожены, все изведано, остался эфир, кокаин, привычка остроумно болтать. Это танцовщица, кинематографическая актриса Л. И. Джалалова или, по замечанию моего мужа, увидевшего ее, “комариная моща с профессиональной дрожью”. “Комариная моща” пришла к Василию Дмитриевичу с горем: ее очередной муж выменял ее квартиру на муку, перевез ее к себе, а когда она попробовала лечь на один из старинных диванов, то этот милый “джентльмен” заявил: “Ну, матушка, этот диван дороже тебя, встань, пожалуйста, а не порти его”. “Комариная моща” оскорбилась, повернулась и ушла. Все гости горячо обсуждают горе танцовщицы. Но где же ей жить? И танцовщица просто говорит Василию Дмитриевичу: “Придется мне поселиться у вас”. Хозяин не возражает».
Жаль, что мемуаристка не уточняет – сколько муки можно было получить за квартиру. Но бытовая подробность, согласитесь, интересная. Зарисовка эта напоминает сказку про гриб, под которым искали спасение от дождя лесные жители – зайчик, лягушка, муравей и прочие. А ведь если посмотреть, то Дворец искусств очень похож на этот гриб – не такой уж и большой (он в итоге вырос), но дающий приют всем, кто в нем нуждался. Последним, кто постучался в каморку Миллиоти, стал его сосед Вышеславцев – «на пороге высокая заикающаяся фигура… В его лице что-то скопческое. Он долго и мучительно пытается спросить, не было ли ему писем. Его приглашают войти. Не только сидеть, уже стоять негде, но мы потеснились – место нашлось. Всей компанией идем смотреть его рисунки. Рисунки портретные прекрасные».
Наговорившись, компания идет обедать в подвал: «Пахнет средневековьем: низкие сводчатые темные потолки, деревянные широкие столы, скамьи, огромная плита, но закройте глаза, и вы увидите очаг, там на вертеле жарится туша быка, а за маленьким, над землей, окном лондонский туман». Что и говорить, фантазия богатая, прямо-таки по Станиславскому. Настоящим потрясением для Марины Миллиоти стал… священник в лиловой рясе, синеглазый и кроткий, раздававший талоны на обед, состоящий из пшенной каши, постного борща, восьмушки хлеба с соломой и воблы, главного деликатеса времен военного (да и просто) коммунизма.
Но откуда же здесь, в богемной коммуне взялся русский батюшка, под одной крышей с Луначарским? Это каким-то чудом уцелевший отец Александр Богданов, служивший в домовом храме усадьбы Соллогубов[10 - Храм в усадьбе возник в 1859 году и был освящен в память митрополита Московского Филиппа, убиенного, как мы помним, по наущению Ивана Грозного. Этому способствовало горячее усердие потомка митрополита, коллекционера церковной старины М. Л. Боде-Колычева. Интерьер был выполнен в стиле зодчества Русского Севера XVII века. Храм закрыли в августе 1921 года, алтарь превратили в кладовую, а церковную главку разобрали. В настоящее время здесь ресторан.]. Про отца Александра – московскую знаменитость – говорили, что он изгоняет бесов, заставляя паству каждый день причащаться, но «уж слишком быстро и нервно бегает вокруг престола над чашей – точно скачет: соблазн!». Среди адептов Богданова был философ и переводчик Григорий Рачинский – фигура интереснейшая: «Дымя папиросой, захлебываясь, целыми страницами гремел по-славянски из Ветхого Завета, перебивал себя немецкими строфами Гёте, и вдруг, размашисто перекрестясь, перебивал Гёте великолепными стихирами (знал службы назубок), и все заканчивал таинственным, на ухо, сообщением из оккультных кругов – тоже ему близких», – вспоминала поэтесса Евгения Герцык. В 1919 году Рачинского арестовали первый раз как организатора Союза объединенных приходов города Москвы, но освободили по причине невменяемости (богемная шизофрения!). Видимо, после ареста он и появился во дворце. Один из бывших его студентов Н. Н. Вильям-Вильмонт вспоминал его «барский шепелявый голос, дворянски-простонародные “туды-сюды”, “аглицкой породы”, его старомодное острословие…, загробные “бывалоча у Фета”, “моя тетка, жена известного поэта Баратынского”…».
Тем временем, получив от отца Александра талончик на обед, все рассаживаются, в том числе бывшая соллогубовская челядь (куда же их девать!) – повариха, дворник, горничная, кучер, сапожник, а еще всякого рода приблудившиеся «бывшие»: старуха-француженка, такого же возраста графиня Коновницына, граф Шереметев с Красильщиковой. И все с одними и теми же аксессуарами: «кастрюлищи, кастрюльки, кастрюли – все заполнено борщом, воблой, там же и каша. Все это понесется домой, семье, знакомым, чтобы не истратить своего, лишнего и глубже запрятать фамильные ценности».
А вот еще одна странная пара к обеду: «Она – тонкое, профилеобразное, дохлое существо на спичках вместо ног. Он – высокий, скуластый, с глазами рыси». Это Валерий Брюсов и Адалис. Массалитинова комментирует: «Адалис, Адалис, кому вы отдались…» Адалис – поэтесса и переводчица Аделина Адалис, она же урожденная Аделина Алексеевна Висковатова, она же Аделина Ефимовна Ефрон (Эфрон). Не путать с Ариадной Эфрон! Последняя любовь Брюсова, Адалис, тяжело переживала его кончину в 1924 году. Позже, как и многие талантливые советские поэты, она нашла пристанище в переводах среднеазиатских авторов, за что удостоилась ордена «Знак Почета» в 1939 году. Самым известным ее переводом стало стихотворение из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма», положенное на музыку Алексеем Рыбниковым и прозвучавшее в фильме «Вам и не снилось…» в 1981 году. Но ровесница века Адалис фантастической популярности своего перевода не застала, скончавшись в 1969 году.
Тут и Рукавишников подоспел, да не один, а с братом-скульптором Митрофаном, которого он по-семейному приютил во дворце (видный ваятель Митрофан Рукавишников где только не работал – и в Реввоенсовете, и даже в отделе вывесок Московского военкомата, изваял Марата, Дантона, Робеспьера и в придачу Ивана Грозного с Кутузовым). Трапезу Ивана Сергеевича нарушает какая-то шустрая бабенка, которая влетает пулей в столовую и «не своим голосом, не стесняясь, на всю столовую кричит: “Иван Сергеевич, долго буду ждать-то тебя? Чего же ты? Вода стынет, иди, штоль, мыться-то. Жду, жду… без тебя делов много, иди скореича…”». Шустрая бабенка – это домработница Катя, Иван Сергеевич ее побаивается: «А то возьмет да и выльет воду, она у нас такая», – и спешит помыться.
Остальные начинают обедать без руководителя Дворца искусств, его отсутствие восполняет брат-скульптор: «Митрофан Сергеевич элегантен, верхняя куртка в бесконечных пуговках, лицо напоминает прелата, нос крючком почти свисает над верхней губой. Он по-настоящему культурен и внутренне благовоспитан – это сразу чувствуется… Стучат разномастные ножи, оловянные вилки, насыщаются все – и имеющие право на столовую, и не имеющие права, и все постепенно растекаются в разные стороны. Наш стол застрял – беседа продолжается. И, право, беседа настоящая и о настоящем искусстве». Под конец трапезы пришли Пильняк и опекавший его Ремизов с женой… Считавший Пильняка малоразвитым, он занимался его «окультуриванием». А вечером – концерт мастеров искусств.
Во дворце устраивались не только концерты, но и спектакли, крутили кино, работали научные и художественные курсы, где преподавали видные ученые и деятели искусств, например, курс «Северная литература» читал Юлий Айхенвальд, «Немецкую литературу XVIII века» – Рачинский, «Семинарий по искусству живописи» вел Юон. Слушатели курсов сдавали экзамены и зачеты. А 18 мая 1920 года во дворце на Поварской торжественно открылась Первая выставка картин, рисунков и скульптуры Дворца искусств, в которой участвовали 42 художника и экспонировалось 217 произведений, в том числе Сергея Герасимова, Сергея Коненкова, Маргариты Сабашниковой, Шереметева и Юона.
9 февраля 1921 года Дворец искусств был закрыт «ввиду несоответствия деятельности задачам Наркомпроса и неоднократного нарушения отчетного порядка». Не давалась Рукавишникову отчетность и прочая бюрократия! Здесь вспоминается характеристика, данная Маяковским, не любившим выступать в этом богемном оазисе, – «Дворец паскудства». Вместо дворца на Поварской открылось вполне приличное заведение – Высший литературно-художественный институт во главе с ректором Брюсовым, где учились Михаил Светлов, Елена Благинина, Артем Веселый и др. Наконец, в 1932 году усадьбу отдали в распоряжение вновь созданному Союзу писателей СССР, где бывали, пожалуй, все мало-мальски известные советские литераторы. В 1940 году здесь прощались с Михаилом Булгаковым.
И все же польза от Дворца искусств очевидна – многим он помог выжить. Не зря известный музыковед и журналист Леонид Сабанеев, эмигрировавший в 1926 году и успешно доживший во Франции до восьмидесяти шести лет (умер в 1968-м), прекрасно знавший богему дореволюционную, в своих «Воспоминаниях о России» пишет, что богемный стиль «перекочевал в некоторые учреждения, организованные уже советской властью, – в частности во Дворец искусств, но в несколько сморщенном и прибедненном стиле. При большевиках артисты имели верного друга в лице наркома Луначарского, который сам был, в сущности, артистической богемой».
Примечательно, что у многих упомянутых действующих лиц, будь то Цветаева или Пильняк, дальнейшая судьба сложилась печально, как и у Рукавишникова – первое время он преподавал в институте у Брюсова, чему явно мешал его алкоголизм – от него всегда пахло водкой. Незадолго до его смерти в 1930 году бывший студент Борис Голицын встретил своего опустившегося преподавателя в трамвае: «Была осень, шел дождь. Только трамвай тронулся от остановки, как на ходу, держась за поручни, попытался в него взобраться кто-то в мятой шляпе, в рваном мушкетерском плаще. По длинной бороде-мочалке и по всклокоченным кудрям я узнал Рукавишникова». Подоспевшая кондукторша выкинула поэта на улицу, он упал. Похоронен он на Ваганьковском кладбище, вместе с братом Митрофаном, основателем династии скульпторов. Сын Митрофана Иулиан пошел по стопам отца и является автором памятников Курчатову («Борода»), а также Суслову и Брежневу у Кремлевской стены в Москве. Но опередил всех по плодовитости внук скульптора – Александр: каждый год на планете Земля открывается по несколько монументов, автором которых он является, среди них – памятники Юрию Никулину, Вячеславу Иванькову («Япончику»), Муслиму Магомаеву, Мстиславу Ростроповичу, Владимиру Высоцкому, Иосифу Кобзону. Правда, один памятник москвичи ему все-таки поставить не дали – огромный примус на Патриарших в честь Булгакова, что мог бы прославить фамилию Рукавишникова в веках. Это как раз тот случай, когда скульптора долго будут помнить по неосуществленному замыслу. Проживание его деда во Дворце искусств не прошло даром для внука – так можно сказать.
Да, а куда же подевались богемные цыгане? Для них все только начиналось. В 1925 году на базе студии образовался Этнографический ансамбль старинной цыганской песни, записавший на пластинки немало популярных песен в исполнении в том числе и знаменитой Шуры Христофоровой. А с образованием в 1931 году первого в мире цыганского театра «Ромэн» яркое искусство этого древнего народа прочно вошло и заняло свое место в том, что называется «советская культура» (еще одно нововведение – цыганские колхозы – как-то не прижилось). Прима театра Ляля Черная была супругой Михаила Яншина, Николая Хмелева, Евгения Весника. У футболиста Андрея Старостина жена тоже была цыганкой. А в 1947 году основатель цыганской студии Николай Кручинин получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Первая творческая коммуна большевистской Москвы – Дворец искусств не прожил и двух лет, но сколько воспоминаний оставил он у современников. Как огромный корабль отчалил он от советской пристани, унеся с собою богемную атмосферу, в которой умудрялись сосуществовать личности самого разного пошиба, и «новые», и «бывшие», и те, кто ни при каких обстоятельствах не признал бы новую власть. Конечно, творческая жизнь в Москве не исчерпывалась одним лишь дворцом. Шумел своими диспутами Политехнический музей, работали книжные лавки писателей и деятелей искусств, где за прилавками стояли сами авторы – Михаил Осоргин, Владислав Ходасевич, Николай Телешов, Сергей Есенин, в марте 1920 года открылся Дом печати на Никитском бульваре, где выступали литераторы, художники, музыканты, артисты. Маяковский называл его «Домом скучати» и пытался, как мог, эту скуку развеять. Так, в феврале 1922 года во время литературного аукциона в помощь голодающим Поволжья поэт заявил, что лишь тот сможет выйти из Дома печати, кто внесет свою лепту в адрес голодающих.
Активной жизнью жили и художники различных направлений, выставки работ которых проходили в Доме ученых на Пречистенке, в бывшей галерее Лемерсье в Салтыковском переулке, в Третьяковке и Музее изящных искусств на Волхонке. Наконец, именно на первые послереволюционные годы пришелся всплеск интереса к театральному искусству, где значительное место уделялось эксперименту. Возникали театральные студии, а из них – полноценные художественные коллективы, так родились театры – Вахтанговский, Мейерхольда, Революции (ныне им. В. В. Маяковского), сатиры и многие другие.
Все это пока внушало оптимизм. Дух нового, многообещающего искусства бередил душу и пьянил, о чем в 1921 году написал критик Сергей Третьяков, словами которого хочется закончить эту главу: «Жадно пьются полуневидные сбитые строки московских газет – репертуар театров, народных домов и мест с такими названиями, как “Дворец Искусств”, “Дом Печати” и т. п. Читая репертуар театров и концертов, с радостью приветствуешь такие имена, как Шаляпин, Нежданова, Гельцер…, а пробегая строку “Шаляпин поет в Малаховке”, вспоминаешь, как мерз и ребра себе разламывал из недели в неделю в тройных жгутах ждущих людей вокруг Большого театра в Москве в 1910 году на того же Шаляпина. Разве это не гениальнейшие картины вынесены из салона и поставлены на площади для всех? …Вечера лирики, чтение новых произведений и дебаты по ним, споры и диспуты об эстетических идеях и вероучениях – ведь это же та атмосфера центрального плавильного тигля, где в калении животворящих антагонизмов заостряются души и перья для рожденья новых слов и где аудитория – опять те же “все”, а не одни только “эстетические дамы и снисходительные мэтры” стихотворных гостиных прежнего времени! Хочется учуять обстановку, в которой протекает эта ежедневная работа, этот непрерывный турнир искусств».
В следующей главе мы проследим – куда же испарилась эта многообещающая художественная атмосфера, в которой жила и работала советская богема, превратившаяся в творческую интеллигенцию.
Глава вторая. Путь, усеянный компромиссами: от богемы к творческой интеллигенции
«Гертруда» – звание Героя Социалистического Труда.
Из сленга московской богемы
Понятие «богема» при советской власти претерпело существенные изменения, а творческая деятельность для писателей, художников, актеров, музыкантов стала основным видом профессиональных занятий, обеспечивающих достойное существование. Впервые за всю историю русской культуры для них отпала необходимость подрабатывать – будь то врачом, вице-губернатором, цензором или хозяином золотоканительной фабрики. Основным содержанием жизни богемы стало творчество, создание новых произведений в музыке, литературе, живописи и на театральной сцене (конечно, если позволяли талант и соответствующая муза – дама крайне ветреная). Вот как было хорошо.
Есть, правда, один нюанс. Советское искусство было поставлено «на службу народу», созидающему материальные ценности коммунизма (а на самом деле – на службу вождям народа). А поскольку сами творческие работники материальных ценностей не создавали, то они оказывались перед этим народом в большом долгу. Вопрос о творческой свободе (как мы помним – непременном условии жизни богемы) мог рассматриваться лишь в рамках отдачи этого долга, для чего творцов необходимо было прежде всего поддержать материально, обеспечить заказами, а главным заказчиком становилось государство. Надежное и самое сильное в мире.
Успешный советский писатель Юрий Нагибин обращался к своей пятой жене, не менее благополучной поэтессе Белле Ахмадулиной: «Вот ты уехала, и свободно, как из плена, рванулся я в забытое торжество моего порядка! Ведь мне надо писать рассказы, сценарии, статьи и внутренние рецензии, зарабатывать деньги и тратить их на дачу, квартиру, двух шоферов, двух домработниц, счета, еду и мало ли еще на что. Мне надо ходить по редакциям, и я иду, и переступаю порог, и я совсем спокоен. Здесь всё так чуждо боли, страданию, всему живому, мучительно человечьему, всё так картонно, фанерно, так мертво и условно, что самый воздух, припахивающий карболкой и типографским жиром гранок, целебен для меня». Ахмадулину он, в конце концов, выгнал из дома из-за ревности, не смирившись с ее легкомысленностью и предполагаемой неверностью (сексуальная раскрепощенность, кстати, также одна из черт богемности, и не только советской).
А следующая жена Нагибина, Алла, вспоминала о его реакции на ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году: «В этой стране я не хочу иметь детей!» И действительно, детей у него не было, зато вновь появилась на свет всякого рода «фанерная халтура», как он ее называл, – сценарии про директоров, гардемаринов и оленят. Нагибин, как показал его «Дневник», изданный на следующий год после его кончины, в 1995 году, оказался среди немногочисленных честных советских писателей, трезво и откровенно поставивших диагноз самим себе. «Дневник» наделал много шума у не успевших опомниться его псевдобогемных коллег, до сих пор отрицающих суть происходившего.
Нагибин имел всё – отличную квартиру в писательском доме на улице Черняховского и шикарную каменную дачу в Красной Пахре (с подвалом!), машину, гараж, не вылезал из-за границы, выезжая раз по пять в год (что было позволено далеко не всем советским писателям и другим гражданам). Плата за полученные от родного государства блага была соизмеримой. «Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно хотя и с большим вредом позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то и другое – разрушение личности. Только халтура – более убийственное», – описывал он свое творчество в дневнике. Но порвать с халтурой Нагибин был не в силах: «Стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать, или в какую-нибудь другую вещь из мягкой, теплой, матовой, блестящей, хрусткой, нежной или грубой материи, тогда перестают быть противными измаранные чернилами листки, хочется марать много, много». Откровения Нагибина и других представителей творческой интеллигенции помогут нам понять и проследить, как и почему халтура стала вреднее водки.
Советская богема, как становится понятно, была полной противоположностью богеме истинной. Во-первых, она очень ценила комфорт и любила деньги (пить морковный чай и мерзнуть очень не хотелось), во-вторых, готова была пойти на любые компромиссы ради достижения этого самого комфорта, что само по себе ставило под вопрос художественную ценность создаваемых произведений. В-третьих, свобода материальных возможностей занимала в шкале нравственных ценностей советской богемы место куда более высокое, чем свобода творчества. И в-четвертых, она была слишком многочисленной и сплоченной, чтобы претендовать на некую избранность, что, в свою очередь, позволяло воспитывать в ее среде изгоев – по-настоящему богемных персонажей. Отщепенцев было немного, но каждый из них становился объектом презрения коллег и общества, ибо исповедовал ту самую свободу творчества, которой лишены были все остальные. Впрочем, презрение иногда уступало месту зависти или сочувствия по той же причине. Ни деньги, ни премии, ни машина с шофером, а именно свобода самовыражения и была тем водоразделом, что отличал богему настоящую от псевдобогемы советской, которая тем не менее упорно себя саму именовала именно богемой, а на самом деле была творческой интеллигенцией.
Но неужели в СССР никогда не было свободы творчества? Была, да еще какая, мало в какой стране право свободно говорить, сочинять и писать, что хочется, давала конституция (правда, с маленьким условием). В Конституции СССР 1977 года статья 47 провозглашала, что гражданам СССР гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества в соответствии с… целями коммунистического строительства. А реализация права на свободу творчества «всегда должна осуществляться в интересах народа, с позиции социалистической гражданственности» в целях «воспитания нового человека – человека коммунистического общества». Ну а как же быть с теми, кто не хочет строить коммунизм и жить в интересах народа? Их-то куда девать, если они не желают вместе со всеми на «нашем паровозе» лететь к светлому будущему? «Наш говновоз вперед летит, в коммуньке остановка», – любил повторять в таких случаях богемный и антисоветский художник Анатолий Зверев, наматывая на руку гирлянду сосисок, купленных на закуску в гастрономе. К счастью для советской власти, таких тунеядцев, как Зверев, Бродский, Ерофеев, Чудаков, было немного, основная масса творцов жила по установленным для них однажды правилам (а кто-то полагает, что по некоему негласному общественному договору), суть которых убедительно описана Нагибиным: «Делай, чего нам нужно, и, может быть, получишь, чего хочешь».
Вопрос вынужденного сотрудничества с властью был краеугольным для многих, приобретая нравственный аспект. К тому же важнейшим условием, повлиявшим на творческую деятельность, стало введение большевиками цензуры почти сразу после переворота, весной 1918 года. А в 1922 году была создана организация, роль которой можно сравнить с фундаментом всей советской системы – Главлит, или Главное управление по делам литературы и издательств, осуществлявшее повальный контроль над всем, начиная от спичечной этикетки и заканчивая театральным репертуаром. Появился в советском новоязе и глагол «литовать», что значит «цензурировать». Замени в глаголе одну букву – и вместо «литовать» выйдет «лютовать». И ведь правда – лютовали цензоры не хуже инквизиции в Средние века, заставляя деятелей искусства переделывать свои произведения – романы, пьесы, оперы, спектакли, картины и кинофильмы. Конфликтовать с цензурой было крайне опасно – могли и вовсе перекрыть кислород, запретить публикацию или выход в прокат, в конце концов, сломать судьбу человеку. Для многих больших художников желание создавать то, что им хочется, а не то, что от них требуют, привело к преждевременному уходу из жизни, список имен велик: Сергей Эйзенштейн, Александр Твардовский, Борис Пастернак, Всеволод Мейерхольд и многие другие. Борьба с цензурой превратилась в самостоятельное направление повседневной жизни советской богемы, обозначенное выражением «фига в кармане» – это когда для изображения правды жизни или собственного взгляда на эту правду использовался эзопов язык, испробованное уже много лет назад художественное средство.
И все же короткие и плодотворные периоды, внушавшие чувство если не полной, то относительной свободы, были – выражались они в плюрализме мнений по поводу поиска новых форм творчества, необходимость которого была унаследована от Серебряного века. Пришлась эта свобода на первое десятилетие советской власти (или Совдепии, как позволяли себе говорить ее противники). Процесс самоорганизации богемы при большевиках шел по уже знакомому сценарию – левые и правые сбивались в группы и ассоциации с ярко выраженной политической ориентацией. Например, в писательской среде возникла культурно-просветительская и литературно-художественная организация Пролеткульт, означающая совсем не пролетание культуры над гнездом кукушки, а гораздо более серьезную затею. В 1917 году Пролеткульт призвал к ликвидации культуры буржуазной и созданию новой пролетарской культуры, основанной в том числе на рабочей самодеятельности. Любопытно, что Ленин Пролеткульту и его идеологу Александру Богданову не доверял, опасаясь его превращения в параллельную партии структуру по управлению искусством. Как признавался Луначарский, «Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как его учреждение. Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству, в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии». Ленина, таким образом, очень волновал вопрос укрощения искусств, а не их свободного плавания. Ильичу надо отдать должное – он прекрасно понимал, что стоит хоть немного ослабить вожжи, и эта самая богема понесется куда глаза глядят, и ее уже не остановишь.
Однажды появился на Поварской и «председатель земного шара» Велимир Хлебников, как известно, не нуждавшийся в каком-либо комфорте в принципе (богема!). «Он был молод и безмолвен. Разговаривал он – и то тихо – с одним Рукавишниковым, – вспоминала Эсфирь Шуб. – Я знала от Ивана Сергеевича, что под одеждой Хлебников носит вериги. Как говорили, он не мылся и не причесывал выросших без стрижки пепельных волос. Глаза его тоже были застывшим пеплом. Он мог часами сидеть в венецианской комнате, у двери, открытой на балкон, не произнося ни слова. Спал он, не раздеваясь, на больших подушках, крытых старинной парчой. Затем он исчез. Рукавишников скучал без него, ждал его возвращения». Ну что здесь скажешь – парчу жалко!
Старая дева и по совместительству графиня Елена Федоровна Соллогуб и ее не менее ветхая экономка Дарья Трофимовна, поменявшиеся при новой власти местом жительства, но отнюдь не обязанностями, уживались во дворце прекрасно. Дарья Трофимовна заведовала столовой в подвале – бывшей трапезной со сводами, а летом распоряжалась во дворе, обустроенном под манер итальянского патио с опутавшим все диким виноградом. Бывшая графская экономка, сообщает Серпинская, «в монашеском черном платье, вышколенная и аккуратная, раздавала торжественно порции чечевичного супа с воблой и пшенную кашу». Ее тоже бывшая хозяйка непременно заявлялась на обед с серебряным судком, унося все с собой: «…ходила она обношенная, в рваных перчатках, в стоптанных туфлях на веревочных подметках».
В один прекрасный день старушка не пришла со своим судком. Оказалось, ее ночью забрали в ЧК: в усадьбе нашли те самые несметные богатства, о которых рассказывал Рукавишников, в том числе запасы изъеденного молью шелка и мехов, 60 (!) пар импортных женских шелковых чулок и кучу обуви. Истинные ценности нашли в домовом храме усадьбы – золотые и серебряные изделия. Графиню отправили на исправление в концлагерь под Москвой, но тогда это был почти санаторий по сравнению с позднейшими учреждениями ГУЛАГа. Бабуля там на свежем воздухе поправилась, посвежела, привозила гостинцы экономке (ее отпускали из лагеря домой два раза в неделю).
У «бывших» тоже был свой круг общения, в частности, граф и художник Сергей Шереметев, съехавший из огромного фамильного дома на Воздвиженке, а также купчиха Елизавета Алексеевна Красильщикова, державшая до 1917 года салон в усадьбе на Моховой улице, куда частенько захаживали Шаляпин с Рахманиновым. Ее парадный портрет «под Ермолову» писал в 1906 году Валентин Серов, когда купчиха еще слыла женщиной своенравной, амбициозной и властной, с претензиями на светскость. У графа и купчихи закрутился роман, впоследствии они уехали в Париж, где у Шереметева была квартира-студия.
Но не все художники, как Шереметев, покинули родину, тем более что некоторым и ехать-то было некуда. Вот они-то и остались во дворце, один из них – Николай Вышеславцев, создатель галереи графических портретов фигур Серебряного века – Андрея Белого, Вяч. Иванова, Павла Флоренского, Владислава Ходасевича, Густава Шпета, Марины Цветаевой. По окончании в Москве Студии живописи и рисунка Ильи Машкова с 1908 по 1914 год Вышеславцев жил в Италии и во Франции. Участник Первой мировой войны, он был ранен, контужен, стал заикаться. В 1920 году во дворце прошла его выставка, на которую пришли и герои его полотен. «Надо прежде всего делать свое дело, – повторял художник, – притом возможно лучше для самого себя делать… а сделаешь хорошо для себя – смотришь, и для других получилось неплохо». Владимир Лидин вспоминал, как ловко управлялся Вышеславцев с ластиком, игравшим не меньшую роль, чем карандаш: «Для него это была гамма, которой он неустанно упражнял свои руки: правой рукой он рисовал, а левой стирал ненужное».
Книголюб Вышеславцев был оформлен во дворце библиотекарем и по совместительству раздавал хлеб его членам. Главное было не опаздывать к раздаче – педантичный заика Вышеславцев был строг. Но даже опоздавших женщин он очаровывал: «Молчаливый, замкнутый, рассудочный и культурный, с непроницаемым выражением светлых зеленоватых глаз и подобранного тонкого рта, он не тратил “зря” время на болтовню во время общей еды или “чаев” на очередных вечерах», – пишет Серпинская. Не скрывала чувств и Цветаева, познакомившаяся с ним весной 1920 года: «Это единственный человек, которого я чувствую выше себя, кроме С.». Под буквой С. скрывался муж Сергей Эфрон, воевавший в это время с большевиками. Цветаева посвятила Вышеславцеву 27 стихотворений, а он оформил обложку сборника ее стихов «Версты» в 1922 году. А позировала ему все равно Серпинская, с которой он расплачивался хлебом.
Еще один художник, видный представитель символизма Василий Миллиоти (в некоторых источниках упоминается как Милиоти) жил в правом флигеле усадьбы. Одаренный человек, не имевший художественного образования, он тем не менее приобрел заслуженный авторитет в театральной среде (оформил в 1906 году спектакль Мейерхольда в петербургском театре Веры Комиссаржевской), а также и у коллег, участвуя в объединении «Золотое руно». Показывал он свои работы и на выставках Союза русских художников и «Мира искусства». Самое интересное, что по профессии Миллиоти был уголовным следователем, перемежая эту работу с занятием живописью. После 1917 года он окончательно порвал с правоохранительной деятельностью, от греха подальше, был членом Комиссии по закупке картин в музейный фонд Москвы.
К Василию Миллиоти на Поварскую часто до эмиграции приходил его старший брат Николай – не менее известный художник. Он не уступал ему по таланту, к тому же имел художественное образование, с 1894 по 1900 год занимался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у Серова. Поступив в 1898 году на историко-филологический факультет Московского университета, Николай закончил образование в Сорбонне, параллельно учился в знаменитой Академии Жюльена. Братья Миллиоти участвовали почти во всех известных художественных выставках эпохи Серебряного века. Однако в 1920 году их пути разошлись. Василий остался в России, а Николай выехал в Болгарию, а оттуда в Берлин, где в 1921 году стал одним из организаторов русского Дома искусств. За границей для него начался новый этап творчества, он много работал, писал портреты, оформлял спектакли, занимался активной общественной деятельностью в эмигрантской среде, его имя стоит в одном ряду с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой. Прожил Николай Миллиоти 88 лет и умер в 1962 году. А вот брат Василий не нашел себя в стране, где главным методом творчества объявили соцреализм. Последняя его значительная работа относится к 1927 году – цикл рисунков к «Пиру во время чумы» Пушкина. Художник перестал участвовать в выставках, жил уединенно. Умер в 1943 году в 68 лет. Судьбы братьев на редкость показательны.
Жена третьего брата Юрия – Марина Миллиоти бывала во Дворце искусств и в 1951 году записала свои яркие бытовые зарисовки: «Комната крошечная. От потолка почти до пола картины, картины и еще раз картины и свои и других художников, последнее все, несомненно, подаренное друзьями-художниками. У окна – бюро, старинное бюро без подделки. На нем череп встречает гостя оскалом мертвых зубов. Черепа всюду, даже пепельница – череп! Целый мешок черепов человеческих притащил Василию Дмитриевичу какой-то приятель. В закуте мольберт, куча красок, маленькая кушетка, заменяющая кровать, масса книг…
Не успела я присесть, как раздался стук в дверь. На пороге открывшейся двери оказалось что-то высокое, тонкое, бледноглазое, изысканно-породистое – все блеклых тонов, как долго лежалый лист, в красной кофте с моноклем в глазу. Хочется опять протереть глаза. Галлюцинация? Нет, это сосед Василия Дмитриевича, жилец следующей комнаты флигеля, художник, истый парижанин, влюбленный в Париж, парижские шантаны, бывший товарищ по играм великих князей, так как его отец был их воспитателем – Сергей Сергеевич Шереметев. Всем обликом напоминает старую даму. Все время кудахчет, но кудахчет мило и забавно. Приглашает посмотреть свои картины. Идем. У него две комнаты, заполненные до отказа вещами из дворцов Шереметевых. Вещи прекрасные, ценные, особенно табакерки. На стенах какие-то предки. Пастель – виды Парижа. Все такое же бледноглазое, блеклое, давно ушедшее, как автор картин. Приходится хвалить. Все втроем возвращаемся в комнату Василия Дмитриевича…
Стук в дверь: входят В. О. Массалитинова (актриса Малого театра. – А. В.) и поэтесса Марина Цветаева – обе, конечно, приятельницы Василия Дмитриевича. Сидеть уже негде, но мы потеснились – место нашлось. У поэтессы хорошие стихи, очень дамские и огрубевшие руки с толстыми пальцами, на одном из них, по ее выражению, “символическое кольцо”. Оно медное и толстое. Обе дамы явно неравнодушны к Василию Дмитриевичу, хотя Массалитинова ведет какие-то разговоры о прекрасных мальчиках. Кто же эти “прекрасные мальчики”, я так и не поняла. Снова стук. Протереть глаза? Галлюцинация? Не стоит тереть глаз. Эго тоже череп, но еще непогребенный и, кстати, знакомый. “Череп” прехорошенький, необычайно густо намазанный, но сквозь краску оскал настоящего черепа – что-то мертвое, изжитое – все пути-дороги исхожены, все изведано, остался эфир, кокаин, привычка остроумно болтать. Это танцовщица, кинематографическая актриса Л. И. Джалалова или, по замечанию моего мужа, увидевшего ее, “комариная моща с профессиональной дрожью”. “Комариная моща” пришла к Василию Дмитриевичу с горем: ее очередной муж выменял ее квартиру на муку, перевез ее к себе, а когда она попробовала лечь на один из старинных диванов, то этот милый “джентльмен” заявил: “Ну, матушка, этот диван дороже тебя, встань, пожалуйста, а не порти его”. “Комариная моща” оскорбилась, повернулась и ушла. Все гости горячо обсуждают горе танцовщицы. Но где же ей жить? И танцовщица просто говорит Василию Дмитриевичу: “Придется мне поселиться у вас”. Хозяин не возражает».
Жаль, что мемуаристка не уточняет – сколько муки можно было получить за квартиру. Но бытовая подробность, согласитесь, интересная. Зарисовка эта напоминает сказку про гриб, под которым искали спасение от дождя лесные жители – зайчик, лягушка, муравей и прочие. А ведь если посмотреть, то Дворец искусств очень похож на этот гриб – не такой уж и большой (он в итоге вырос), но дающий приют всем, кто в нем нуждался. Последним, кто постучался в каморку Миллиоти, стал его сосед Вышеславцев – «на пороге высокая заикающаяся фигура… В его лице что-то скопческое. Он долго и мучительно пытается спросить, не было ли ему писем. Его приглашают войти. Не только сидеть, уже стоять негде, но мы потеснились – место нашлось. Всей компанией идем смотреть его рисунки. Рисунки портретные прекрасные».
Наговорившись, компания идет обедать в подвал: «Пахнет средневековьем: низкие сводчатые темные потолки, деревянные широкие столы, скамьи, огромная плита, но закройте глаза, и вы увидите очаг, там на вертеле жарится туша быка, а за маленьким, над землей, окном лондонский туман». Что и говорить, фантазия богатая, прямо-таки по Станиславскому. Настоящим потрясением для Марины Миллиоти стал… священник в лиловой рясе, синеглазый и кроткий, раздававший талоны на обед, состоящий из пшенной каши, постного борща, восьмушки хлеба с соломой и воблы, главного деликатеса времен военного (да и просто) коммунизма.
Но откуда же здесь, в богемной коммуне взялся русский батюшка, под одной крышей с Луначарским? Это каким-то чудом уцелевший отец Александр Богданов, служивший в домовом храме усадьбы Соллогубов[10 - Храм в усадьбе возник в 1859 году и был освящен в память митрополита Московского Филиппа, убиенного, как мы помним, по наущению Ивана Грозного. Этому способствовало горячее усердие потомка митрополита, коллекционера церковной старины М. Л. Боде-Колычева. Интерьер был выполнен в стиле зодчества Русского Севера XVII века. Храм закрыли в августе 1921 года, алтарь превратили в кладовую, а церковную главку разобрали. В настоящее время здесь ресторан.]. Про отца Александра – московскую знаменитость – говорили, что он изгоняет бесов, заставляя паству каждый день причащаться, но «уж слишком быстро и нервно бегает вокруг престола над чашей – точно скачет: соблазн!». Среди адептов Богданова был философ и переводчик Григорий Рачинский – фигура интереснейшая: «Дымя папиросой, захлебываясь, целыми страницами гремел по-славянски из Ветхого Завета, перебивал себя немецкими строфами Гёте, и вдруг, размашисто перекрестясь, перебивал Гёте великолепными стихирами (знал службы назубок), и все заканчивал таинственным, на ухо, сообщением из оккультных кругов – тоже ему близких», – вспоминала поэтесса Евгения Герцык. В 1919 году Рачинского арестовали первый раз как организатора Союза объединенных приходов города Москвы, но освободили по причине невменяемости (богемная шизофрения!). Видимо, после ареста он и появился во дворце. Один из бывших его студентов Н. Н. Вильям-Вильмонт вспоминал его «барский шепелявый голос, дворянски-простонародные “туды-сюды”, “аглицкой породы”, его старомодное острословие…, загробные “бывалоча у Фета”, “моя тетка, жена известного поэта Баратынского”…».
Тем временем, получив от отца Александра талончик на обед, все рассаживаются, в том числе бывшая соллогубовская челядь (куда же их девать!) – повариха, дворник, горничная, кучер, сапожник, а еще всякого рода приблудившиеся «бывшие»: старуха-француженка, такого же возраста графиня Коновницына, граф Шереметев с Красильщиковой. И все с одними и теми же аксессуарами: «кастрюлищи, кастрюльки, кастрюли – все заполнено борщом, воблой, там же и каша. Все это понесется домой, семье, знакомым, чтобы не истратить своего, лишнего и глубже запрятать фамильные ценности».
А вот еще одна странная пара к обеду: «Она – тонкое, профилеобразное, дохлое существо на спичках вместо ног. Он – высокий, скуластый, с глазами рыси». Это Валерий Брюсов и Адалис. Массалитинова комментирует: «Адалис, Адалис, кому вы отдались…» Адалис – поэтесса и переводчица Аделина Адалис, она же урожденная Аделина Алексеевна Висковатова, она же Аделина Ефимовна Ефрон (Эфрон). Не путать с Ариадной Эфрон! Последняя любовь Брюсова, Адалис, тяжело переживала его кончину в 1924 году. Позже, как и многие талантливые советские поэты, она нашла пристанище в переводах среднеазиатских авторов, за что удостоилась ордена «Знак Почета» в 1939 году. Самым известным ее переводом стало стихотворение из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма», положенное на музыку Алексеем Рыбниковым и прозвучавшее в фильме «Вам и не снилось…» в 1981 году. Но ровесница века Адалис фантастической популярности своего перевода не застала, скончавшись в 1969 году.
Тут и Рукавишников подоспел, да не один, а с братом-скульптором Митрофаном, которого он по-семейному приютил во дворце (видный ваятель Митрофан Рукавишников где только не работал – и в Реввоенсовете, и даже в отделе вывесок Московского военкомата, изваял Марата, Дантона, Робеспьера и в придачу Ивана Грозного с Кутузовым). Трапезу Ивана Сергеевича нарушает какая-то шустрая бабенка, которая влетает пулей в столовую и «не своим голосом, не стесняясь, на всю столовую кричит: “Иван Сергеевич, долго буду ждать-то тебя? Чего же ты? Вода стынет, иди, штоль, мыться-то. Жду, жду… без тебя делов много, иди скореича…”». Шустрая бабенка – это домработница Катя, Иван Сергеевич ее побаивается: «А то возьмет да и выльет воду, она у нас такая», – и спешит помыться.
Остальные начинают обедать без руководителя Дворца искусств, его отсутствие восполняет брат-скульптор: «Митрофан Сергеевич элегантен, верхняя куртка в бесконечных пуговках, лицо напоминает прелата, нос крючком почти свисает над верхней губой. Он по-настоящему культурен и внутренне благовоспитан – это сразу чувствуется… Стучат разномастные ножи, оловянные вилки, насыщаются все – и имеющие право на столовую, и не имеющие права, и все постепенно растекаются в разные стороны. Наш стол застрял – беседа продолжается. И, право, беседа настоящая и о настоящем искусстве». Под конец трапезы пришли Пильняк и опекавший его Ремизов с женой… Считавший Пильняка малоразвитым, он занимался его «окультуриванием». А вечером – концерт мастеров искусств.
Во дворце устраивались не только концерты, но и спектакли, крутили кино, работали научные и художественные курсы, где преподавали видные ученые и деятели искусств, например, курс «Северная литература» читал Юлий Айхенвальд, «Немецкую литературу XVIII века» – Рачинский, «Семинарий по искусству живописи» вел Юон. Слушатели курсов сдавали экзамены и зачеты. А 18 мая 1920 года во дворце на Поварской торжественно открылась Первая выставка картин, рисунков и скульптуры Дворца искусств, в которой участвовали 42 художника и экспонировалось 217 произведений, в том числе Сергея Герасимова, Сергея Коненкова, Маргариты Сабашниковой, Шереметева и Юона.
9 февраля 1921 года Дворец искусств был закрыт «ввиду несоответствия деятельности задачам Наркомпроса и неоднократного нарушения отчетного порядка». Не давалась Рукавишникову отчетность и прочая бюрократия! Здесь вспоминается характеристика, данная Маяковским, не любившим выступать в этом богемном оазисе, – «Дворец паскудства». Вместо дворца на Поварской открылось вполне приличное заведение – Высший литературно-художественный институт во главе с ректором Брюсовым, где учились Михаил Светлов, Елена Благинина, Артем Веселый и др. Наконец, в 1932 году усадьбу отдали в распоряжение вновь созданному Союзу писателей СССР, где бывали, пожалуй, все мало-мальски известные советские литераторы. В 1940 году здесь прощались с Михаилом Булгаковым.
И все же польза от Дворца искусств очевидна – многим он помог выжить. Не зря известный музыковед и журналист Леонид Сабанеев, эмигрировавший в 1926 году и успешно доживший во Франции до восьмидесяти шести лет (умер в 1968-м), прекрасно знавший богему дореволюционную, в своих «Воспоминаниях о России» пишет, что богемный стиль «перекочевал в некоторые учреждения, организованные уже советской властью, – в частности во Дворец искусств, но в несколько сморщенном и прибедненном стиле. При большевиках артисты имели верного друга в лице наркома Луначарского, который сам был, в сущности, артистической богемой».
Примечательно, что у многих упомянутых действующих лиц, будь то Цветаева или Пильняк, дальнейшая судьба сложилась печально, как и у Рукавишникова – первое время он преподавал в институте у Брюсова, чему явно мешал его алкоголизм – от него всегда пахло водкой. Незадолго до его смерти в 1930 году бывший студент Борис Голицын встретил своего опустившегося преподавателя в трамвае: «Была осень, шел дождь. Только трамвай тронулся от остановки, как на ходу, держась за поручни, попытался в него взобраться кто-то в мятой шляпе, в рваном мушкетерском плаще. По длинной бороде-мочалке и по всклокоченным кудрям я узнал Рукавишникова». Подоспевшая кондукторша выкинула поэта на улицу, он упал. Похоронен он на Ваганьковском кладбище, вместе с братом Митрофаном, основателем династии скульпторов. Сын Митрофана Иулиан пошел по стопам отца и является автором памятников Курчатову («Борода»), а также Суслову и Брежневу у Кремлевской стены в Москве. Но опередил всех по плодовитости внук скульптора – Александр: каждый год на планете Земля открывается по несколько монументов, автором которых он является, среди них – памятники Юрию Никулину, Вячеславу Иванькову («Япончику»), Муслиму Магомаеву, Мстиславу Ростроповичу, Владимиру Высоцкому, Иосифу Кобзону. Правда, один памятник москвичи ему все-таки поставить не дали – огромный примус на Патриарших в честь Булгакова, что мог бы прославить фамилию Рукавишникова в веках. Это как раз тот случай, когда скульптора долго будут помнить по неосуществленному замыслу. Проживание его деда во Дворце искусств не прошло даром для внука – так можно сказать.
Да, а куда же подевались богемные цыгане? Для них все только начиналось. В 1925 году на базе студии образовался Этнографический ансамбль старинной цыганской песни, записавший на пластинки немало популярных песен в исполнении в том числе и знаменитой Шуры Христофоровой. А с образованием в 1931 году первого в мире цыганского театра «Ромэн» яркое искусство этого древнего народа прочно вошло и заняло свое место в том, что называется «советская культура» (еще одно нововведение – цыганские колхозы – как-то не прижилось). Прима театра Ляля Черная была супругой Михаила Яншина, Николая Хмелева, Евгения Весника. У футболиста Андрея Старостина жена тоже была цыганкой. А в 1947 году основатель цыганской студии Николай Кручинин получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Первая творческая коммуна большевистской Москвы – Дворец искусств не прожил и двух лет, но сколько воспоминаний оставил он у современников. Как огромный корабль отчалил он от советской пристани, унеся с собою богемную атмосферу, в которой умудрялись сосуществовать личности самого разного пошиба, и «новые», и «бывшие», и те, кто ни при каких обстоятельствах не признал бы новую власть. Конечно, творческая жизнь в Москве не исчерпывалась одним лишь дворцом. Шумел своими диспутами Политехнический музей, работали книжные лавки писателей и деятелей искусств, где за прилавками стояли сами авторы – Михаил Осоргин, Владислав Ходасевич, Николай Телешов, Сергей Есенин, в марте 1920 года открылся Дом печати на Никитском бульваре, где выступали литераторы, художники, музыканты, артисты. Маяковский называл его «Домом скучати» и пытался, как мог, эту скуку развеять. Так, в феврале 1922 года во время литературного аукциона в помощь голодающим Поволжья поэт заявил, что лишь тот сможет выйти из Дома печати, кто внесет свою лепту в адрес голодающих.
Активной жизнью жили и художники различных направлений, выставки работ которых проходили в Доме ученых на Пречистенке, в бывшей галерее Лемерсье в Салтыковском переулке, в Третьяковке и Музее изящных искусств на Волхонке. Наконец, именно на первые послереволюционные годы пришелся всплеск интереса к театральному искусству, где значительное место уделялось эксперименту. Возникали театральные студии, а из них – полноценные художественные коллективы, так родились театры – Вахтанговский, Мейерхольда, Революции (ныне им. В. В. Маяковского), сатиры и многие другие.
Все это пока внушало оптимизм. Дух нового, многообещающего искусства бередил душу и пьянил, о чем в 1921 году написал критик Сергей Третьяков, словами которого хочется закончить эту главу: «Жадно пьются полуневидные сбитые строки московских газет – репертуар театров, народных домов и мест с такими названиями, как “Дворец Искусств”, “Дом Печати” и т. п. Читая репертуар театров и концертов, с радостью приветствуешь такие имена, как Шаляпин, Нежданова, Гельцер…, а пробегая строку “Шаляпин поет в Малаховке”, вспоминаешь, как мерз и ребра себе разламывал из недели в неделю в тройных жгутах ждущих людей вокруг Большого театра в Москве в 1910 году на того же Шаляпина. Разве это не гениальнейшие картины вынесены из салона и поставлены на площади для всех? …Вечера лирики, чтение новых произведений и дебаты по ним, споры и диспуты об эстетических идеях и вероучениях – ведь это же та атмосфера центрального плавильного тигля, где в калении животворящих антагонизмов заостряются души и перья для рожденья новых слов и где аудитория – опять те же “все”, а не одни только “эстетические дамы и снисходительные мэтры” стихотворных гостиных прежнего времени! Хочется учуять обстановку, в которой протекает эта ежедневная работа, этот непрерывный турнир искусств».
В следующей главе мы проследим – куда же испарилась эта многообещающая художественная атмосфера, в которой жила и работала советская богема, превратившаяся в творческую интеллигенцию.
Глава вторая. Путь, усеянный компромиссами: от богемы к творческой интеллигенции
«Гертруда» – звание Героя Социалистического Труда.
Из сленга московской богемы
Понятие «богема» при советской власти претерпело существенные изменения, а творческая деятельность для писателей, художников, актеров, музыкантов стала основным видом профессиональных занятий, обеспечивающих достойное существование. Впервые за всю историю русской культуры для них отпала необходимость подрабатывать – будь то врачом, вице-губернатором, цензором или хозяином золотоканительной фабрики. Основным содержанием жизни богемы стало творчество, создание новых произведений в музыке, литературе, живописи и на театральной сцене (конечно, если позволяли талант и соответствующая муза – дама крайне ветреная). Вот как было хорошо.
Есть, правда, один нюанс. Советское искусство было поставлено «на службу народу», созидающему материальные ценности коммунизма (а на самом деле – на службу вождям народа). А поскольку сами творческие работники материальных ценностей не создавали, то они оказывались перед этим народом в большом долгу. Вопрос о творческой свободе (как мы помним – непременном условии жизни богемы) мог рассматриваться лишь в рамках отдачи этого долга, для чего творцов необходимо было прежде всего поддержать материально, обеспечить заказами, а главным заказчиком становилось государство. Надежное и самое сильное в мире.
Успешный советский писатель Юрий Нагибин обращался к своей пятой жене, не менее благополучной поэтессе Белле Ахмадулиной: «Вот ты уехала, и свободно, как из плена, рванулся я в забытое торжество моего порядка! Ведь мне надо писать рассказы, сценарии, статьи и внутренние рецензии, зарабатывать деньги и тратить их на дачу, квартиру, двух шоферов, двух домработниц, счета, еду и мало ли еще на что. Мне надо ходить по редакциям, и я иду, и переступаю порог, и я совсем спокоен. Здесь всё так чуждо боли, страданию, всему живому, мучительно человечьему, всё так картонно, фанерно, так мертво и условно, что самый воздух, припахивающий карболкой и типографским жиром гранок, целебен для меня». Ахмадулину он, в конце концов, выгнал из дома из-за ревности, не смирившись с ее легкомысленностью и предполагаемой неверностью (сексуальная раскрепощенность, кстати, также одна из черт богемности, и не только советской).
А следующая жена Нагибина, Алла, вспоминала о его реакции на ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году: «В этой стране я не хочу иметь детей!» И действительно, детей у него не было, зато вновь появилась на свет всякого рода «фанерная халтура», как он ее называл, – сценарии про директоров, гардемаринов и оленят. Нагибин, как показал его «Дневник», изданный на следующий год после его кончины, в 1995 году, оказался среди немногочисленных честных советских писателей, трезво и откровенно поставивших диагноз самим себе. «Дневник» наделал много шума у не успевших опомниться его псевдобогемных коллег, до сих пор отрицающих суть происходившего.
Нагибин имел всё – отличную квартиру в писательском доме на улице Черняховского и шикарную каменную дачу в Красной Пахре (с подвалом!), машину, гараж, не вылезал из-за границы, выезжая раз по пять в год (что было позволено далеко не всем советским писателям и другим гражданам). Плата за полученные от родного государства блага была соизмеримой. «Халтура заменила для меня водку. Она почти столь же успешно хотя и с большим вредом позволяет отделаться от себя. Если бы родные это поняли, они должны были бы повести такую же самоотверженную борьбу с моим пребыванием за письменным столом, как прежде с моим пребыванием за бутылкой. Ведь и то и другое – разрушение личности. Только халтура – более убийственное», – описывал он свое творчество в дневнике. Но порвать с халтурой Нагибин был не в силах: «Стоит подумать, что бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так красиво облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать, или в какую-нибудь другую вещь из мягкой, теплой, матовой, блестящей, хрусткой, нежной или грубой материи, тогда перестают быть противными измаранные чернилами листки, хочется марать много, много». Откровения Нагибина и других представителей творческой интеллигенции помогут нам понять и проследить, как и почему халтура стала вреднее водки.
Советская богема, как становится понятно, была полной противоположностью богеме истинной. Во-первых, она очень ценила комфорт и любила деньги (пить морковный чай и мерзнуть очень не хотелось), во-вторых, готова была пойти на любые компромиссы ради достижения этого самого комфорта, что само по себе ставило под вопрос художественную ценность создаваемых произведений. В-третьих, свобода материальных возможностей занимала в шкале нравственных ценностей советской богемы место куда более высокое, чем свобода творчества. И в-четвертых, она была слишком многочисленной и сплоченной, чтобы претендовать на некую избранность, что, в свою очередь, позволяло воспитывать в ее среде изгоев – по-настоящему богемных персонажей. Отщепенцев было немного, но каждый из них становился объектом презрения коллег и общества, ибо исповедовал ту самую свободу творчества, которой лишены были все остальные. Впрочем, презрение иногда уступало месту зависти или сочувствия по той же причине. Ни деньги, ни премии, ни машина с шофером, а именно свобода самовыражения и была тем водоразделом, что отличал богему настоящую от псевдобогемы советской, которая тем не менее упорно себя саму именовала именно богемой, а на самом деле была творческой интеллигенцией.
Но неужели в СССР никогда не было свободы творчества? Была, да еще какая, мало в какой стране право свободно говорить, сочинять и писать, что хочется, давала конституция (правда, с маленьким условием). В Конституции СССР 1977 года статья 47 провозглашала, что гражданам СССР гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества в соответствии с… целями коммунистического строительства. А реализация права на свободу творчества «всегда должна осуществляться в интересах народа, с позиции социалистической гражданственности» в целях «воспитания нового человека – человека коммунистического общества». Ну а как же быть с теми, кто не хочет строить коммунизм и жить в интересах народа? Их-то куда девать, если они не желают вместе со всеми на «нашем паровозе» лететь к светлому будущему? «Наш говновоз вперед летит, в коммуньке остановка», – любил повторять в таких случаях богемный и антисоветский художник Анатолий Зверев, наматывая на руку гирлянду сосисок, купленных на закуску в гастрономе. К счастью для советской власти, таких тунеядцев, как Зверев, Бродский, Ерофеев, Чудаков, было немного, основная масса творцов жила по установленным для них однажды правилам (а кто-то полагает, что по некоему негласному общественному договору), суть которых убедительно описана Нагибиным: «Делай, чего нам нужно, и, может быть, получишь, чего хочешь».
Вопрос вынужденного сотрудничества с властью был краеугольным для многих, приобретая нравственный аспект. К тому же важнейшим условием, повлиявшим на творческую деятельность, стало введение большевиками цензуры почти сразу после переворота, весной 1918 года. А в 1922 году была создана организация, роль которой можно сравнить с фундаментом всей советской системы – Главлит, или Главное управление по делам литературы и издательств, осуществлявшее повальный контроль над всем, начиная от спичечной этикетки и заканчивая театральным репертуаром. Появился в советском новоязе и глагол «литовать», что значит «цензурировать». Замени в глаголе одну букву – и вместо «литовать» выйдет «лютовать». И ведь правда – лютовали цензоры не хуже инквизиции в Средние века, заставляя деятелей искусства переделывать свои произведения – романы, пьесы, оперы, спектакли, картины и кинофильмы. Конфликтовать с цензурой было крайне опасно – могли и вовсе перекрыть кислород, запретить публикацию или выход в прокат, в конце концов, сломать судьбу человеку. Для многих больших художников желание создавать то, что им хочется, а не то, что от них требуют, привело к преждевременному уходу из жизни, список имен велик: Сергей Эйзенштейн, Александр Твардовский, Борис Пастернак, Всеволод Мейерхольд и многие другие. Борьба с цензурой превратилась в самостоятельное направление повседневной жизни советской богемы, обозначенное выражением «фига в кармане» – это когда для изображения правды жизни или собственного взгляда на эту правду использовался эзопов язык, испробованное уже много лет назад художественное средство.
И все же короткие и плодотворные периоды, внушавшие чувство если не полной, то относительной свободы, были – выражались они в плюрализме мнений по поводу поиска новых форм творчества, необходимость которого была унаследована от Серебряного века. Пришлась эта свобода на первое десятилетие советской власти (или Совдепии, как позволяли себе говорить ее противники). Процесс самоорганизации богемы при большевиках шел по уже знакомому сценарию – левые и правые сбивались в группы и ассоциации с ярко выраженной политической ориентацией. Например, в писательской среде возникла культурно-просветительская и литературно-художественная организация Пролеткульт, означающая совсем не пролетание культуры над гнездом кукушки, а гораздо более серьезную затею. В 1917 году Пролеткульт призвал к ликвидации культуры буржуазной и созданию новой пролетарской культуры, основанной в том числе на рабочей самодеятельности. Любопытно, что Ленин Пролеткульту и его идеологу Александру Богданову не доверял, опасаясь его превращения в параллельную партии структуру по управлению искусством. Как признавался Луначарский, «Пролеткульт должен находиться под руководством Наркомпроса и рассматривать себя как его учреждение. Владимир Ильич хотел, чтобы мы подтянули Пролеткульт к государству, в то же время им принимались меры, чтобы подтянуть его и к партии». Ленина, таким образом, очень волновал вопрос укрощения искусств, а не их свободного плавания. Ильичу надо отдать должное – он прекрасно понимал, что стоит хоть немного ослабить вожжи, и эта самая богема понесется куда глаза глядят, и ее уже не остановишь.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: