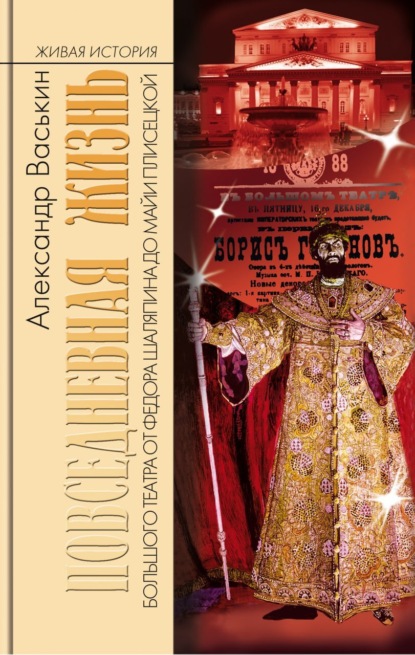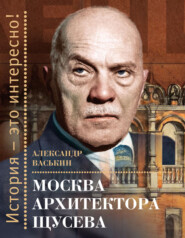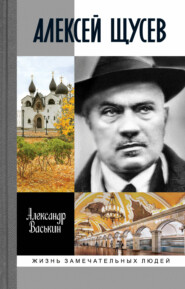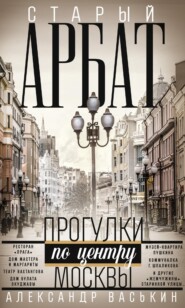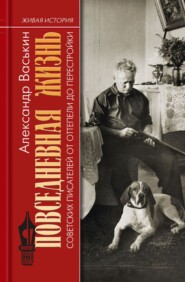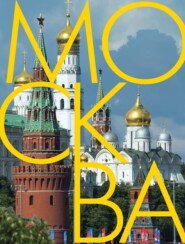По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Повседневная жизнь Большого театра от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Смерть супруги Антонины Неждановой в 1950 году подкосила здоровье не старого еще дирижера, все реже встававшего за пульт, а в марте 1953 года умер его главный покровитель Сталин. Уже в апреле министр культуры Пантелеймон Пономаренко направляет Георгию Маленкову письмо: «Ссылаясь на болезненное состояние, последние три года Н. Голованов не дирижирует спектаклями, не ведет никакой репетиционной и педагогической работы и по существу перестал руководить творческой деятельностью театра». В мае Голованова увольняют из театра в последний раз, вручив ему на проходной приказ. «Выходя из 16-го подъезда Большого театра, я словно воочию вижу идущего с палочкой Николая Семеновича. Он протягивает мне чуть одутловатую руку, она покрыта коричневыми пятнышками. Я видел эту руку, крепко державшую дирижерскую палочку, а теперь она сжимает приказ об освобождении его от работы в Большом театре», – вспоминал Борис Покровский. Уволили Голованова как-то нехорошо, без лишних объяснений, так же как за десять лет до этого выгнали Самосуда. Такова была безжалостная система. В августе 1953 года на фоне тяжелой депрессии сраженный инсультом Голованов скончался. К его мощной фигуре, во многом определившей стиль Большого театра прошлого века, мы еще не раз вернемся в книге.
А Борису Александровичу Покровскому суждено было самому испытать горечь и разочарование от увольнения из Большого театра после многолетнего служения (40 лет!). Впервые он пришел в театр году в 1920-м, но не как постановщик, а в качестве зрителя. Маленьким мальчиком он очень полюбил ходить в храм, где его дед был настоятелем. Боря особенно любил звонить в колокола: «Вставал в четыре часа утра и убегал в церковь. Мне и десяти лет нет, а я влезаю на колокольню и бью в колокол. Как сейчас помню это наслаждение. Темная ночь, среди белых сугробов: возникают черные фигуры, все идут в эту церковь, потому что звонит мой колокол! Я спускаюсь вниз, облачаюсь в стихарь, зажигаю лампады и свечи. Собирается народ, старики, старухи. Я тогда уже недурно читал по церковнославянски, меня никто не учил, сам научился. И я читаю “часы”, специальные молитвы перед службой». Отец Покровского, партийный директор школы, дабы отвадить сына от религии, поступил мудро: он просто купил ему билет в театр, на галерку, самый дешевый (попробуй-ка сейчас купи такие!). Так Боря бросил церковь и стал ходить в театр, как на работу. Дедушка-церковнослужитель смену занятий одобрил, сказав, что «Большой театр – тоже храм духа нашего». Капельдинеры знали Борьку Покровского в лицо, пропуская и без билета, делая ему «козу» и умиляясь: «Ух ты какой любитель оперы!»[25 - Кстати о колоколах. Звонница в Большом театре существовала с середины XIX века, когда по Высочайшему указу были отлиты колокола специально для театральных спектаклей. Одной из первых «колокольных» опер стала «Жизнь за царя» Михаила Глинки, премьера которой состоялась в Большом театре в 1842 году. А после 1917 года звонница послужила спасением для колоколов русских церквей, уничтожаемых большевиками. Так, летом 1932 года культкомиссия Президиума ВЦИК постановила изъять из московских храмов и передать Большому театру «во временное и безвозмездное пользование» более двадцати колоколов общим весом в 421 пуд. Таким образом удалось сберечь от уничтожения колокола храма Воскресения Христова в Кадашах. Среди спасенных – колокол работы самого Константина Слизова, колокольных дел мастера «золотые руки» (он специализировался в основном на отливке самых больших колоколов не только для двух столиц, но и для многих храмов России). Колокол был отлит на заводе П. И. Финляндского – единственном в России предприятии, на колоколах которого значилось сразу три государственных герба – случай уникальный за всю историю колокольного дела в России. Устроившийся в театре бывший звонарь Алексей Кусакин подобрал национализированные у церквей колокола по тону и звучанию, создав неповторимый и благозвучный ансамбль музыкальных инструментов. Кусакин являлся исполнителем колокольных партий в операх Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Ныне в звоннице Большого театра числится около сорока колоколов, друг на друга непохожих, громадных (более шести тонн и двух метров в диаметре) и маленьких, весом всего 9 килограммов. Самый старый колокол относится к 1678 году, еще четыре – к XVIII веку, остальные 30 созданы чуть более ста лет назад. На подавляющей части колоколов изображен государственный герб Российской империи, это своеобразный знак качества, который разрешалось ставить на продукции самых лучших предприятий. В частности, десять колоколов отлито на крупнейшем колокололитейном заводе Поволжья, принадлежавшем Товариществу «П. И. Оловянишников и сыновья». Еще в 1882 году этот завод на московской Всероссийской художественно-промышленной выставке за свой колокол удостоился высшей награды – права изображать на колоколах государственный герб.]
«В театре, – вспоминал Покровский, – на галерке было свое общество, вернее каста, и я был в нее принят. Люди разные по возрасту, днем чем-то занимавшиеся (это никого не интересовало), вечером сходились, пожимая руку капельдинеру, на верхотуру зала посмотреть, послушать, а главное, пообсуждать. Многое я там услышал об артистах, меньше о дирижерах и совсем ничего о режиссерах. Ничего!» Особенно понравилась юному меломану опера «Демон».
А работать в Большом театре Покровский стал в 1943 году, приехав из Горького, где он трудился художественным руководителем в местном театре оперы и балета. К тому времени тридцатилетний Покровский зарекомендовал себя как представитель «талантливой советской молодежи», поставив оперу Александра Серова «Юдифь», выдвинутую на Сталинскую премию. В Горький приехала специальная просмотровая комиссия – так было положено в ту эпоху: видные деятели культуры колесили по всему Советскому Союзу и смотрели спектакли, претендовавшие на премию имени вождя всех народов. Член комиссии завлит МХАТа Павел Марков заметил Покровского и, вернувшись в столицу, рассказал о нем Самуилу Самосуду, который резюмировал: «Надо его брать в Большой!» И в Горький пришла правительственная телеграмма из Москвы с вызовом в Большой театр. Мало сказать, что это известие огорчило театр и зрителей. Провожали молодого худрука торжественно, с речами и митингом, подарив на память от всего коллектива серебряную сахарницу, «чтобы сладко жилось». Некоторые солистки балета плакали, а старые билетерши всхлипывали.
Впоследствии Покровский расценил этот поворот в своей жизни как «чудо, не знавшее прецедентов». Учитывая военное время, добирался Борис Александрович до Москвы долго, съев все припасенные им 25 пончиков с вареньем. Приезжает он в столицу и прямиком идет в Комитет по делам искусств, гордо помахивая правительственной телеграммой на красивом бланке с советским гербом, но там никто не обратил на это ни малейшего внимания: «Время военное, не до вас!» Тогда Покровский, набравшись наглости, пошел прямо к Самосуду в директорский кабинет Большого театра. Просидев два часа в приемной, он предстал пред светлыми очами главного дирижера, не встретив «никаких восторгов, никакого интереса и уважительности». Самосуд разговаривал равнодушно и отчасти лениво: «Молодой человек, сами понимаете, это Большой театр, так что ни на что особо не рассчитывайте. Разве что помощником режиссера…» А Покровский уже думает, что зря приехал, пора обратно в Горький. И вдруг Самосуд словно проснулся: «Идете ли вы в своей работе от музыки?» – «Нет!» – «Правильно, дорогой мой, а то все объявляют, что идут от музыки и действительно ушли от нее очень далеко! Ха-ха-ха!..» Так и стал Борис Александрович служить в Большом театре, началось его «воспитание Самосудом».
Первая репетиция с корифеями осталась в его памяти навсегда, мало того что все – Козловский, Барсова, Пирогов, Лемешев, Михайлов – пришли заранее, так они еще и встали при появлении молоденького режиссера, коего они видели первый раз в жизни. Борис Александрович расценил это как пример «великой внутренней культуры, которая строится на почитании человека человеком», хотя речь могла идти об элементарной вежливости. А после репетиции Александр Степанович Пирогов посетовал: «Я пришел, думал попотеть, снял пиджак, а тут раз, два и готово, такие теперь режиссеры!» И это также запомнилось Покровскому, серьезно повлияв на его отношение к артистам, вскоре привыкшим к его длинным и подробным репетициям – чтобы потели, как в сауне. Труппа довольно быстро поменяла к нему свое отношение и после ареста одного известного солиста, попытавшегося публично урезонить «этого выскочку из провинции» Покровского (выражение Голованова). Фамилию солиста назовем в следующей главе.
Он поставил в Большом театре полсотни спектаклей, трижды был его главным режиссером (1952, 1955–1963, 1970–1982), пережил полтора десятка директоров, стал народным артистом СССР, получил четыре Сталинские премии и одну Ленинскую. Но не это главное – второго такого оперного режиссера нет и не было ни в СССР, ни в России. В 1982 году Покровского со всеми его регалиями отправили на пенсию: попросили уволиться по собственному желанию. Заявление он написал не в своем кабинете, а на приеме у министра культуры СССР Петра Демичева. Уходя, Борис Александрович честно обозначил причину увольнения: потому что не желает работать в театре, «который игнорирует русский язык». Все объяснялось довольно просто – ведущие солисты театра, активно гастролировавшие по миру с 1970-х годов (это вам не при Сталине!), стали тяготиться режиссерством Покровского, уверенного, что традиция исполнения всего репертуара на русском языке в Большом незыблема. Борис Покровский назвал их «непослушниками», которые, став знаменитыми, начали обвинять его в кровожадности и криках на репетициях. Первые солисты театра – Атлантов, Нестеренко, Образцова, Милашкина и другие – были желанными гостями за рубежом, где пели в операх итальянских композиторов на языке оригинала. А в своем театре они были вынуждены петь то, что ставил Покровский. Разное понимание смысла и значения работы оперного певца привело к очередному громкому скандалу в Большом, который окончился поражением Покровского. Понятно, что силы были неравны. С одной стороны – пожилой главный режиссер, с другой – сплоченная на основе в том числе и семейных отношений группа моложавых народных артистов, опирающаяся на поддержку месткома, парткома, райкома, дирекции и дирижера.
Вот как об этом рассказал Владимир Атлантов: «Конфликт возник из-за того, что мы ощущали себя невостребованными в спектаклях, которые могли бы быть на нас поставлены. Ведь Покровский в принципе ставил то, что он хотел как главный режиссер. Может быть, кроме “Тоски” и “Отелло”. Появление этих двух спектаклей в театре не было его инициативой. И потом мы выступали не против него как режиссера, а против его стиля руководства. Просто отталкивающее впечатление производило то, как главный позволял себе в недопустимом тоне разговаривать с ведущими режиссерами, артистами хора, вообще с артистами… Его лишили приставки “главный”. А если он не главный, то он не будет работать. Он согласен работать только на положении главного режиссера. Его лишили возможности диктата, к чему он привык. У него эту игрушку отняли, и ему стал не очень интересен Большой театр… Когда Покровский что-то ставил, то ставил это только для себя. Я тоже пел для себя, но я ничего ни у кого не отнимал. Пел я Хозе, и остальные вместе со мной пели Хозе. Да и все партии. А Покровский, пользуясь административными возможностями, имел власть решать, что он хочет ставить. И на этом заканчивались все разговоры. Власть – вещь страшная, она портит души. Страшно, когда человек, как Покровский, например, десятилетиями находится у власти. Каждый, сидящий там на месте главного дирижера или режиссера, занимался не судьбой театра, а совсем другим. Главные занимались осуществлением своих персональных желаний, говоря о том, что это нужно театру и должно стать ядром развития театра. Это несправедливость и безобразие!.. Не использовать поколение прекрасных голосов в новых постановках мировой оперной классики это, мягко говоря, невосполнимая потеря»[26 - Режиссера полюбить непросто, да еще такого, как Борис Александрович Покровский с его грозными «рачьими» глазами (эпитет его друга Кондрашина). Как вспоминал Евгений Нестеренко, он не терпел никакого пижонства или премьерства: «У нас в Большом даже малейшие проявления этого порока он умел уничтожить на корню. Например, если вдруг кто-то на репетиции появлялся в щегольском костюме или в белых брюках, то для такого не в меру нарядного артиста он обязательно придумывал мизансцены с валянием на полу или стоянием на коленях. А как-то вдруг выяснилось, что “звездной болезнью” захворала Галина Павловна Вишневская: перестала отвечать на приветствия, словно забыла, как кого зовут. Однако тот же Покровский любил с ней работать, потому что свою не слишком богатую певческую и актерскую одаренность она компенсировала исключительным трудолюбием».].
Поводом для обострения давно копившихся противоречий послужила премьера театра – «Обручение в монастыре» Сергея Прокофьева, вызвавшая шквал критики ведущих солистов, обвинивших режиссера в превращении оперы выдающегося советского композитора в банальную оперетту. Кощунство, по их мнению, состояло и в том, что Покровский будто не замечает вокруг себя орденоносцев и народных артистов СССР, не задействуя большую их часть в своих новых постановках. Дирижером выступал Геннадий Рождественский. Заведующий оперной труппой театра в 1980–1984 годах Анатолий Орфенов приводит такую версию той самой искры, из которой и разгорелось пламя: певшая в этой опере главную роль Катерины Тамара Милашкина «вошла в конфликт с Рождественским, сделавшим в резких тонах ей замечание во время репетиций. Милашкина отказалась участвовать в премьере». А Милашкина – жена Атлантова…
А ведь еще два года назад все те, кто теперь обрушивался на Покровского с критикой, провозглашали в честь него здравицы на банкете по случаю присуждения режиссеру Ленинской премии. Летом 1980 года в хоровом зале Большого театра Борис Александрович устроил грандиозное празднование, пригласив на него своих многочисленных коллег: столы ломились от яств и вин не хуже, чем на пиру в иной поставленной им опере. К слову сказать, пример не оказался заразительным: никто больше так широко не отмечал получение Ленинской премии. В январе 1982 года все повторилось: во время творческого вечера, приуроченного к семидесятилетию Покровского, он услышал много лестных слов от артистов, «которых он вывел в люди» (как та самая заводская проходная), признававшихся в любви к нему и клянущихся в верности. Более того, на творческом вечере после исполнения оркестром театра под управлением Евгения Светланова симфонической картины «Сеча при Керженце» дирижер и режиссер, прилюдно расцеловавшись, договорились о будущей постановке «Сказания о невидимом граде Китеже» на сцене Большого. Примечательно, что планы театра предусматривали участие в постановке совсем иных людей – дирижера Юрия Симонова и режиссера Георгия Ансимова, теперь оказавшихся в неудобном положении и закусивших удила.
После отречения Покровского власть в Большом перешла к главному дирижеру Юрию Симонову и своеобразному политбюро – президиуму (слово-то какое для театра!) художественного совета в составе Владимира Атлантова и его жены Тамары Милашкиной, Юрия Мазурока, Александра Ведерникова, Евгения Нестеренко, Елены Образцовой и ее мужа дирижера Альгиса Жюрайтиса[27 - «Это событие, – вспоминает певец Анатолий Орфенов, – стало началом того эксперимента, который закончился вводом в президиум художественного совета шестерых народных артистов СССР из оперы. Видимо, балет не нуждался в такой “поддержке”, так как Григорович все дела по балету решал сам, единолично, и если советовался с кем, то не выносил этого вопроса на коллективное обсуждение».]. Можно сказать, что театр стал управляться по-семейному. Изменилась и репертуарная политика – Образцова поставила «Вертера» Жюля Массне, где дирижировал Жюрайтис. Был поставлен «Бал-маскарад» Верди. Большой вес певцов, их влияние и связи «на верху» продемонстрировал золотой дождь, пролившийся на них с началом перестройки. Архипова, Образцова и Нестеренко удостоились высшей награды родины – медали «Золотая Звезда» Героя Соцтруда. Им не было и шестидесяти лет в момент награждения. До них лишь один Козловский получил героя, да и то к восьмидесятилетию.
Занятно, что другой творческий и семейный союз – Ирины Архиповой и Владислава Пьявко – не вошел в состав президиума, что прямо указывало на расстановку сил в этом театральном перевороте. Президиум к тому же подверг остракизму включение в репертуар оперы Глюка «Ифигения в Авлиде» с участием в роли Клитемнестры Ирины Архиповой. Здесь была своя подоплека – Архипова как главный вокальный консультант Большого театра «почти в шестидесятилетнем возрасте сохраняла отличную вокальную форму. Ей доверяли проведение в качестве председателя жюри многих международных и всесоюзных конкурсов. А большинство наших ведущих солистов уже преподавали в консерватории, ГИТИСе, институте Гнесиных и сердились, что их ученикам не дается предпочтения на этих конкурсах»[28 - Вокальное долголетие Ирины Архиповой в качестве положительного примера приводит ветеран-фониатр поликлиники театра Зоя Андреевна Изгарышева, «тянувшая за язык» весь золотой фонд Большого: «Это образец всего. Она всю жизнь строжайшим образом соблюдала режим вокалиста. Знала, как себя вести, что есть и что пить. Идеальная певица. Она могла простудиться, еще чем-нибудь заболеть, но у нее никогда не было никаких изменений голосового аппарата». Под стать Архиповой – Нестеренко и Атлантов.], – свидетельствует Орфенов.
Что же касается русского языка, то здесь также начались нововведения: в опере «Кармен» некоторые певцы пели по-французски (Образцова, Атлантов, Мазурок), а все остальные, в том числе хор, по-русски. Все это можно назвать хорошей русской пословицей «Кто в лес, кто по дрова», имеющей свой французский аналог: «Кто туда, а кто сюда». Так сказалось отсутствие в театре главного режиссера, пусть и старорежимного, но способного прекратить разлад между орденоносцами. Пройдет немного времени – и без Покровского вновь не смогут обойтись в Большом, в 1988 году его позовут ставить очередную оперу. И он, так и не простив обиды, откроет дверь служебного входа театра, с трудом переступив его порог. Его встретит лифтерша: «Что-то давно тебя не было, Александрыч, приболел, что ли?» По Большому театру вновь раздастся громкий и повелительный голос Покровского, а за его спиной оркестранты будут шептаться: «Хозяин вернулся!» (кстати, однокашник Бориса Александровича по ГИТИСу Георгий Товстоногов придерживался подобной же «хозяйской» тактики и лексики, исповедуя в своем театре «Добровольную диктатуру»). Слово «хозяин» в Большом театре очень любили. Что же до причины увольнения, то пролетят еще годы, и доживший почти до ста лет Покровский, не утеряв чувства юмора, заметит: «Сейчас этот конфликт кажется смешным, потому что мой Камерный театр ездит по всему миру и поет спектакли на языке оригинала. Так что я в дураках. Но каждый может делать ошибки»[29 - Обида, нанесенная Большим театром, неизгладима. Боль Покровского оказалась настолько сильной, что за все шесть лет отсутствия в нем режиссер не нашел в себе сил не то что пройти мимо, но даже взглянуть на него. Не менее трагическими были последствия сорвавшейся премьеры балета «Девушка и Смерть» в 1986 году для Микаэла Таривердиева, автора музыки. Балет буквально выкинули из Большого театра за неделю до объявленной премьеры, хотя все было готово: декорации, костюмы, проданы билеты. На худсовете выступила Галина Уланова: «Пусть Таривердиев пишет музыку к кино, а в Большом театре ему делать нечего». Это стало катастрофой для композитора, он больше никогда не ездил мимо Большого театра.].
В Бетховенском зале проходили и прослушивания музыкантов оркестра Большого театра, на протяжении довольно долгого времени отличавшегося высоким профессиональным уровнем исполнительского мастерства. В оркестре в разное время играли выдающиеся музыканты, например, скрипачи Абрам Ямпольский, Дмитрий Цыганов, Семен Калиновский, арфистки Ксения Эрдели и Вера Дулова, трубачи Михаил Табаков, Тимофей Докшицер, Георгий Орвид, Николай Полонский, тромбонист Владимир Щербинин, кларнетисты Сергей Розанов, Александр Володин, гобоист Яков Куклес, фаготисты Михаил Халилеев, Ян Шуберт, флейтист Иосиф Ютсон, виолончелисты Станислав Кнушевицкий, Иосиф Буравский, Григорий Пятигорский, Семен Козолупов[30 - Семен Козолупов играл в оркестре Большого театра в 1908–1912-м и в 1924–1931 годах, подробности его увольнения сообщил в своих мемуарах Иван Петров: «Печально закончилась одна ситуация в утреннем спектакле “Лоэнгрина”, которым дирижировал Сук. В перерыве пришел в театр виолончелист Козолупов, который в этот день был свободен. Он поговорил с оркестрантами, сел около арфы и задремал. Этого никто не заметил, но когда начался следующий акт, то на пианиссимо скрипок Козолупов вдруг проснулся, схватил с испугу арфу и начал брать на ней какие-то немыслимые аккорды. Сук схватился за голову и чуть не упал в оркестровую яму. После спектакля разразился такой скандал, что Козолупова уволили из театра».] и многие другие.
Скрипач Артур Штильман в октябре 1966 года пришел в Большой театр для прохождения конкурса в оркестр, состоявшего из двух этапов. Сперва исполнялась сольная программа. Штильман сыграл «Чакону» Баха для скрипки соло и первую часть концерта Бартока. Второй этап сулил сложности – необходимо было исполнить «с листа», то есть без подготовки, отрывки из известных опер, причем сразу же после первого тура. Отрывки из опер выбирал Марк Эрмлер, стоящий за дирижерским пультом. «Эрмлер, – вспоминает Штильман, – вел себя исключительно по-джентльменски, но все равно было ясно, что в оркестре этот репертуар я не играл, хотя Эрмлер мне не дирижировал, а предлагал сразу играть с определенного места. В общем, эта трудная часть закончилась более или менее благополучно. Во всяком случае, качество самой игры – ритм, настоящую сольную интонацию, достойный скрипичный тон, мне удалось сохранить в большинстве отрывков. Я один остался ждать результатов».
После подведения итогов к Штильману подошел первый концертмейстер оркестра скрипач Игорь Солодуев (потомственный музыкант Большого – его отец Василий Солодуев был валторнистом еще в 1903 году) и сказал: «Мне не удалось добиться для тебя места на первых пультах. Но я тебе не советую отказываться от работы. Начав на последнем пульте первых скрипок – мы все с этого начинали, и я тоже, – я уверен, что на первом же внутреннем конкурсе ты проявишь себя так же отлично, но тогда ты уже будешь “своим”, тебя будут знать по работе здесь, да и как человека тоже. В общем, моя просьба к тебе – не отказывайся от работы. Ты скоро свое возьмешь, а при твоей игре – тем более». Так в 31 год Штильман стал скрипачом Большого театра. На работу в театр его взяли охотно (это ведь не 1948 год!), торжественно вручив красное удостоверение с советским гербом, превращавшееся в палочку-выручалочку в тот момент, когда машину спешившего на репетицию скрипача останавливал гаишник. Скрипач не только демонстрировал удостоверение всем своим родным и знакомым, но и убеждал их, что поступил на работу в чуть ли не единственное место в Москве – «счастливый остров, свободный от страшной раковой болезни антисемитизма». То есть антисемиты были, но в количестве четырех человек – всех их подсчитал Штильман. И действительно – откуда взяться разгулу антисемитизма в Большом театре, если вторым концертмейстером оркестра был Юлий Реентович, третьим – Леон Закс, четвертым – Абрам Гурфинкель, о котором Солодуев говорил: «Абраша Гурфинкель – наш лучший оркестрант и превосходный скрипач».
А Юлий Реентович руководил еще и Ансамблем скрипачей Большого театра. Мало кто из телезрителей не видел выступлений этого оригинального коллектива, особенно любили его показывать под Новый год в «Голубом огоньке» – с иголочки одетые солисты, мужчины во фраках и красивые женщины в эффектных платьях играли популярную классику Паганини, Чайковского, Моцарта и произведения советских композиторов. Ансамбль имел и неофициальное название, совсем не обидное, а, наоборот, подчеркивающее его высокий исполнительский уровень – «Большая скрипка Большого театра».
Первое выступление скрипачей состоялось на родной сцене 25 февраля 1956 года – успех был таков, что уже вскоре виртуозов смычка и деки попросили сыграть снова, на следующих концертах, например к 8 Марта. А затем еще и еще… Выяснилось, что публика готова внимать музыкантам оркестра, не только когда они находятся в яме, напоминая о своем присутствии по команде дирижера будто дрессировщика в цирке, – отныне скрипачи получили полноправную прописку на сцене. Их стали приглашать на всевозможные концерты (в том числе и правительственные!), не говоря уже о выступлениях в цехах заводов, фабрик и депо «Москва-Сортировочная», где на импровизированных помостах до них уже танцевали артисты балета и пели солисты оперы Большого театра с популярными концертными номерами.
Расширению репертуара ансамбля способствовала напряженная работа так называемых транскрипторов – композиторов, специализировавшихся на переложении популярных мелодий для ансамблевой скрипичной игры, в частности Игоря Заборова, скрипача и композитора в одном лице. Возникает вопрос: каким образом музыкантам удавалось совмещать основную работу в театре с концертной деятельностью (некоторые безответственные люди называют ее халтурой)? Ведь в любом драматическом театре актерам, постоянно отпрашивающимся для съемок в кино, худрук давно бы сказал: выбирайте – или сцена или киноэкран! И многие сделали выбор не в пользу театра… А вот оркестрантам Большого просто повезло – директор театра Михаил Чулаки по совместительству был еще и композитором, написавшим для ансамбля несколько произведений (в частности «Вариации на тему Паганини»). Какое совпадение! Он-то, директор, и провел разъяснительную работу с заведующим оркестром, чтобы молодому и растущему коллективу не мешали развиваться, а точнее, создал условия, «обеспечивающие планомерную репетиционную работу и возможность систематически выступать перед публикой». Короче говоря, помимо одного (общего для всего театра) выходного – понедельника – ансамблистов обеспечили еще и вторым, дабы они могли радовать своим искусством жителей не только Москвы, но и других городов Советского Союза.
Так постепенно и сложилась слава ансамбля. В фильме «Деревенский детектив» участковый Анискин, разыскивая аккордеон заведующего клубом, просит того послушать, что звучит из окон односельчан в вечерний час. И завклубом безошибочно угадывает игру Ансамбля скрипачей Большого театра. Телевидение делало свое дело. А что же происходило за голубым экраном? Юлий Реентович, неплохой скрипач (не Ойстрах, конечно, но всё же) и хороший организатор, сумел раскрутить ансамбль и за пределами Союза, чем и прельстил молодого Артура Штильмана. И вроде все началось хорошо, только вот почему-то на гастроли ансамбля в Австрию скрипача не взяли, а потом и в Америку. То есть в Полтаву и Воронеж – милости просим, а вот в Вашингтон – стоп-кран закрыт. Что же выяснилось? Оказалось, что в ансамбле играют два штатных осведомителя КГБ, на Штильмана собран компромат, и ход ему дал сам бдительный Реентович, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РСФСР. Компромат такой: в 1973 году во время гастролей Большого театра в Чехословакии скрипач зашел в Еврейский музей Праги, где встретил еще двух таких же скрипачей, и сдуру прочитал надпись под одним из экспонатов на иврите, о чем те и доложили немедля Реентовичу, который мгновенно исключил полиглота из списков участников поездки в Австрию. А ведь говорили Штильману: держи язык за зубами и ешь пирог с грибами! Таким же образом «изолировали» и лучшего скрипача оркестра Большого театра и его концертмейстера Даниила Шиндарева. В Свердловском райкоме партии правдоискателю Штильману так и сказали: «Чего вы от нас хотите? Реентович на вас показал! Он показал, что вы дружили и дружите с лицами, покинувшими Советский Союз. Мы вынуждены доверять Реентовичу, хотя мы знаем, что вы человек порядочный и нас не подводили».
В Большом театре лауреат международных конкурсов Штильман получил звание народного артиста РСФСР. В его памяти остался Дворец съездов в Кремле, выполнявший роль второй сцены Большого театра, и особенно «великолепный буфет на последнем этаже, где продавались изысканные яства в виде жюльенов в серебряных маленьких кастрюльках или блинов с черной икрой (сегодня это вполне может показаться неудачной шуткой), хорошие вина и шампанское – все это значительно поднимало настроение зрителей, попавших в такой приятный мир. Кроме этого, оттуда открывался прекрасный вид на Москву – весь Кремль, Замоскворечье, улица Горького…». Свой буфет работал во дворце и для артистов и музыкантов театра, однажды из-за него чуть было не сорвалась репетиция торжественного концерта к XXV съезду КПСС – в продажу выбросили растворимый кофе в банках. Лишь скорое окончание дефицита позволило вернуть оркестрантов на их рабочие места, за пюпитры. В 1979 году Штильман, подав заявление в ОВИР на эмиграцию, также вылетел из Большого театра – сначала в Вену, затем в Рим, а потом уже в Америку, где с 1980 по 2013 год играл в оркестре Метрополитен-оперы, что лишний раз подтверждает высокий уровень исполнительского искусства самого главного советского театра. Пример Штильмана – далеко не единичный, оркестр Большого театра лишился многих талантливых музыкантов, эмигрировавших за границу, а вот Реентович не успел – в 1982 году он неудачно поскользнулся на лестнице в театре и вскоре скончался.
Отсутствие возможности свободного выезда за границу и присвоение государством права решать за артиста, где ему петь и танцевать, привело к бегству солистов Большого театра во время зарубежных гастролей. Приведем лишь один из примеров. 11 ноября 1982 года советское радио сообщило о кончине генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева – не большого любителя классического искусства, и все же почему-то именно в Большом театре решили провести траурный митинг. Труппа собралась в зале. Слово предоставили Борису Покровскому. Борис Александрович проникновенно и с чувством раскрыл образ покойного, особо подчеркнув, с какой особой теплотой и любовью относились к нему советские люди: «Мы называли его не просто товарищ Брежнев, а Леонид Ильич. Это говорит о многом». Речь главного (пока еще) режиссера встретили аплодисментами. Следующие выступающие, представители театральной общественности, парткома и профкома вспомнили и о вкладе генсека в борьбу за мир и международную разрядку. Некоторые в зале плакали (артисты!).
О том, что борьба за укрепление мира между народами – это не пустые слова, коллектив театра (как и все остальные советские люди) почувствовал уже скоро. На очередном витке холодной войны 1 сентября 1983 года советскими войсками ПВО над Сахалином был сбит пассажирский авиалайнер из Южной Кореи. Это привело к жесткому обострению отношений между СССР и США. В дело с обеих сторон вступили пропагандисты. В частности, в ЦК КПСС достали (будто скелет из шкафа) прибереженный для удобного случая сюжет о невозвращенце Александре Годунове, оставшемся в Америке в августе 1979 года во время гастролей Большого театра. Он был далеко не первым артистом балета, «выбравшим свободу». Среди коллег Годунова, примеру которых он последовал, были артисты Кировского театра – Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и Наталья Макарова, оставшиеся в разное время на Западе. Но побег Годунова по своему резонансу превзошел все прежние подобные случаи. Чтобы разрулить возникшую в августе 1979 года ситуацию, пришлось привлекать чуть ли не «самого Леонида Ильича»…
В Большой театр Годунов пришел по приглашению Юрия Николаевича Григоровича в 1971 году – его заметила супруга балетмейстера, Наталья Бессмертнова, и посоветовала мужу взять талантливого танцовщика. А было Годунову 32 года, и на сцене Большого он триумфально дебютировал в «Лебедином озере», станцевав Зигфрида. Майя Плисецкая особо выделяла его среди своих партнеров: «Александр Годунов был могуч, горделив, высок. Сноп соломенных волос, делавший его похожим на скандинава, полыхал на ветру годуновского неповторимого пируэта. Он лучше танцевал, чем держал партнершу. Человек был верный, порядочный, совершенно беззащитный, вопреки своей мужественной внешности. Сенсационная история с его бегством из “коммунистического рая” была подготовлена бесприютным нищенским существованием в Большом. Его терзали, тоже долго не выпускали за границу, не давали танцевать. Он сидел без копейки денег, что по его широте и гордыне было мучительно. Даже свой угол он получил только незадолго до побега. Я лишилась Зигфрида, Вронского, Хозе». И не только Зигфрида, добавим мы…
Майе Михайловне, известной искусительнице своих партнеров, конечно, виднее со своего недосягаемого пьедестала, когда она пишет о нищете солиста Большого театра, получающего министерскую зарплату, – хотя, согласитесь, понятие «без копейки» имеет свой смысл для людей разного достатка. О решении остаться в Америке Годунов поведал Плисецкой еще в 1974 году во время гастролей. Однако она упросила его отсрочить – дабы не испортить судьбу фильму-балету «Анна Каренина», в котором они в это время снимались: «Подожди, пока фильм выйдет на экраны. В следующий раз останешься». И он тогда вернулся в Союз, пообещав: «Хорошо. Подожду. А может, в следующий раз – вместе?»
Столь крепкие отношения с примой Большого театра объяснялись тем, что Годунов в противостоянии трех сильных балетных группировок принял сторону Плисецкой, что не могло не сказаться на отношении к нему Григоровича (третья группа артистов опиралась на Владимира Васильева). В частности, Григоровичу не понравилась трактовка Годуновым образа Спартака, что явно не способствовало участию артиста в балетах мастера. В итоге роль Спартака он станцевал всего пять раз, Ивана Грозного – девять, а Пастуха в «Весне священной» – два раза, подсчитали поклонники Годунова. В то же время в балетах с Плисецкой он танцевал гораздо чаще – в «Кармен-сюите» почти 40 раз, в «Анне Карениной» – больше тридцати и т. д.
Жена Годунова – Людмила Власова пришла в труппу Большого за десять лет до него, в 1961 году. Годунов увел ее от мужа, также артиста балета: «У меня было все: квартира, драгоценности. Когда Саша первый раз на сцене Большого театра танцевал “Лебединое озеро”, я сидела дома и не могла разделить его триумфа. Я послала ему розы с запиской… Я переехала в его однокомнатную квартирку на Юго-Западе. Первое время я все продавала – шубы, бриллианты, мне это было и не нужно. Он очень переживал: “Как только я начну ездить, я тебе все куплю”. И действительно, он мне покупал всё. У меня была чуть ли не первой в Москве роскошная шуба из песца. Сам же он предпочитал джинсы и рубашки, ходил, как хиппи». Глагол «ездить» прочно вошел в повседневный лексикон артистов Большого театра и означал возможность выезда на зарубежные гастроли.
Талантливый и трудолюбивый Годунов, питомец Рижского хореографического училища, довольно быстро прошел путь от новичка до премьера театра. Если в начале своей карьеры на сцене Большого он получал как артист кордебалета, то перед бегством из Большого – 550 рублей (с голоду трудно умереть!), в 1976 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР. Из квартиры на Юго-Западной он переехал в Брюсов переулок, в дом артистов МХАТа, где соседствовал с Марисом Лиепой. Правда, квартира его была на первом этаже, но уже обещали дать другую, побольше и повыше. Свидетельством широкой популярности артиста стало его участие в кинофильме «31 июня», где он сыграл вместе с женой. Карьера почти что голливудская, а сколько еще впереди! Только знай, с кем танцевать и дружить (особенно если ты секретарь комсомольской организации Большого театра)…
Годунова выпускали и за границу, где критики называли его первым принцем советского балета с царской фамилией (да, фамилия удачная, раскрученная, если можно так выразиться, и даже лучше, чем Отрепьев или Шакловитый). А когда артиста не выпускали, то дирекция Большого театра заявляла, что он болен, – обычная практика! Вот почему учитель Годунова – в прошлом звезда советского балета и трижды сталинский лауреат Алексей Ермолаев, перешедший в Большой из Кировского еще в 1930 году, – как-то назвал его «самым болезненным своим учеником». Смысл горькой остроты очевиден. Ермолаев также жил в Брюсовом переулке, 7, и в знак особого расположения к Годунову однажды подарил ему свою старую дубленку, но не потому, что Александру нечего было носить и он мерз зимой. Это был подарок с очень глубоким смыслом, оцененный благодарным учеником, буквально не снимавшим ермолаевскую дубленку в холодное время года. Ставить на нее заплатки он доверял лишь скорнякам Большого театра. И это при том, что он мог достать любую шмотку в брежневской Москве. Смерть Ермолаева в 1975 году от инфаркта стала для Годунова трагедией – он сам на руках отнес его в машину «скорой помощи». Ермолаев очень хотел, чтобы мемориальная доска в память о нем висела между окнами квартиры Годунова и Власовой.
Перед гастролями Большого театра 1979 года, куда взяли и Годунова, ему пообещали после возвращения не только присвоить очередное звание народного артиста РСФСР, но и улучшить жилищные условия. Однако этого ему было уже мало. Талантливый человек тем и отличается от нас, грешных, что переживает постоянный творческий рост, остановить который невозможно. Потребность к развитию, достижению новых вершин в творчестве настолько сильна, что преобладает по накалу с желанием повышения материального благополучия. Годунова было уже не вернуть – склоки и дрязги в Большом, столкновения между главными его действующими лицами в балете не обещали ничего хорошего. А жизнь-то проходит: лучшие годы! В итоге 19 августа 1979 года после своего последнего балета «Ромео и Джульетта», где Годунов танцевал Тибальда, артист решил остаться в Америке, запросив политического убежища. Хотя речь шла прежде всего об убежище театральном.
«В этот день, – вспоминала Власова, – я разрешила Саше отдохнуть в отеле. Когда я пришла после репетиции, его не было. Я решила, что он в гостях у наших друзей, хотя мне показалось странным, что нет записки. Я прождала его до вечера и никому не сказала о том, что его нет. “Наши люди” уже зашевелились: “Где Саша?” Я ответила, что он у друзей. На следующее утро я все поняла. Я отправилась через дорогу в другой отель, где на 50-м этаже был бассейн – наш американский импресарио нам с Сашей сделал туда бесплатные пропуска. Весь день там просидела, чтобы никого не видеть. Вечером после спектакля я вызвала к себе в номер зав. труппой и все рассказала. Он пришел в ужас. Пришлось рассказать всем. Я сразу поняла, кто его увел. Это был фотограф Блиох. Он давно эмигрировал в Штаты, еще в Москве часто ходил к нам, много фотографировал и, между прочим, вел разговоры об отъезде: “Мила, ты такая красивая, ты можешь стать в Америке фотомоделью”. Приходил он к нам в отель и в Нью-Йорке. Кстати, потом, после скандала, на наших фотографиях он сделал себе состояние. Позже мне передали, что на панихиде Саши весь зал был увешан фотографиями работы Блиоха, а он сам плакал: “Это я виноват во всем!”».
Годунов бежал один, укрывшись у друзей, среди которых был и Иосиф Бродский, выступивший в роли переводчика. Примечательно, что в течение всех гастролей они с Власовой усердно покупали подарки для родных и близких, завалив ими люксовый номер отеля. Думал ли он в эту минуту, что будет с его женой, – вопрос риторический. Бродский (в присутствии которого полицейские взяли у Годунова отпечатки пальцев) по этому поводу замечает: «Саша объяснил мне – буквально на следующий день после своего побега, – что они обсуждали такую возможность неоднократно. Тем не менее в последние дни в Нью-Йорке она не выразила готовности; хотя в другом случае она такую готовность, видимо, выражала. Годунов догадывался, что после Нью-Йорка его собираются отправлять обратно в Москву. Он понял, что времени нет. Что разговоры с Милой будут длиться бесконечно… Отбросим романтическую, эмоциональную сторону, которая могла бы побудить Милу остаться. С практической точки зрения, чисто профессионально, ход рассуждений Милы мог быть таков. Годунов звезда. Ей, по качеству ее таланта, особой малины не предвиделось. Она была на семь лет старше Годунова. У Саши, если к нему придет успех на Западе, не останется никаких – если мы опять-таки отбросим романтические чувства – сдерживающих обстоятельств. Поэтому Мила вполне могла предположить, что ее жизнь на Западе обернется не самым счастливым образом. Ее итоговое решение зависело бы от степени привязанности к Годунову».
В итоге Власова решила срочно лететь в Москву, домой, к маме, руководящему работнику универмага «Москва» на Ленинском проспекте. Американские газеты уже вовсю раструбили об очередном советском невозвращенце, заметно накалив ситуацию. «Свободу Власовой!» – с плакатами такого рода собрались свободолюбивые граждане Нью-Йорка у отеля, где жили советские артисты (если раньше американцы знали лишь одного Власова – сдавшегося немцам в 1942 году генерала, – то теперь им пришлось запомнить и фамилию советской балерины, которую якобы силой решили вернуть в «империю зла»). Но Власова этого уже не видела, ее дорога до аэропорта имени Джона Кеннеди напоминала путаный маршрут заметающего следы иностранного резидента: главное сесть в наш самолет. Советские дипломаты в погонах здорово помогли ей в этом вопросе. Белоснежный лайнер «Аэрофлота», на котором предлагалось летать всем гражданам СССР (а других-то и не было!), вот-вот готов был к взлету, как неожиданно дорогу ему преградили полицейские машины с противными синими мигалками: Государственный департамент США запретил вылет, потребовав предоставления доказательств того, что Власову никто насильственно не увозит в СССР.
Три дня продолжались мучительные переговоры, все это время Власова и другие ни в чем не повинные пассажиры находились в самолете – юридически на советской территории. Американцы уговаривали Людмилу выйти к Годунову: «Вас насильно увозят. Он здесь, рядом, он вас безумно любит. Выйдите к нему и скажите сами, что не хотите оставаться». Но она не вышла, чувствуя свою слабину – любовь зла! В качестве моральной поддержки приходил в самолет Юрий Григорович, чтобы затем перед вечерним спектаклем в Метрополитен-опере выйти на сцену и сказать, что советскую балерину вместе со всем самолетом не отпускают домой (гастроли еще не кончились). Американцы привели к Власовой доктора: «Врач, оказывается, должен был определить, не накачана ли я наркотиками. Меня долго упрашивали остаться, но я твердила, что должна вернуться к своей матери, она не выдержит всего этого. Адвокат не произнес ни слова, но он стал весь мокрый. Выходили они все, как побитые». Да что там врач – сам Бродский пытался помочь уговорить Власову, все бесполезно. «Советская малина врагу сказала: нет!» В итоге самолет отпустили – не вечно же ему стоять в аэропорту!
Ну а что же зрители Большого театра? Они-то знали о происходящем? И как реагировали? Наверное, скорбели о том, что никогда больше не увидят любимого артиста воочию? На этот проникновенный вопрос ответим так: если они и скорбели, то лишь о том, что не могут выехать туда же вместе с Годуновым. А еще пообывательски костерили на чем свет стоит Власову: ну и дура! Дело в том, что все это время советские граждане наблюдали за происходящим по своим «Рекордам» и «Рубинам», а наиболее безответственные слушали параллельно еще и вражеские голоса. Можно сказать, что это было одно из первых ток-шоу в прямом эфире. «Завершился трехдневный телесериал про измену балеруна Годунова: будучи на гастролях в Штатах, ломанул от соглядатаев, попросил политическое убежище, фэбээровцы годуновскую жену Власову мурыжили в самолете, и три дня мы с американцами перетягивали канат, но все кончилось компромиссом – боевая ничья! А какая конфетная статья про Годунова недавно в “Студенческом меридиане” была! – семьянин, комсорг театра, образец для нашей молодежи…» – отметил в дневнике журналист Георгий Елин 25 августа 1979 года. В тот же день Андрей Тарковский записал: «По телевизору рассказывали о том, что Годунов (балерун из Большого) попросил политического убежища в США. Его жену выловили и привезли в самолет, заявив, что она не разделяет взглядов мужа. Амер. власти не выпускают самолет до тех пор, пока она не скажет об этом сама».
Советские газеты объясняли поступок Годунова привычно, мол, его «осаждала повсюду целая команда подстрекателей, суливших златые горы и море дармового виски». Но народ этим объяснением удовлетвориться никак не мог, обосновывая произошедший патриотический стриптиз на свой лад. «Редкий день, когда иностранное радио не принесло бы известия, что еще один гражданин нашей страны сделал родине ручкой. Последнее сообщение из Швеции, где инженер, посланный на нашу выставку, попросил политического убежища. Фамилию не назвали. Годунов, чета Козловых (балетные), Белоусова и Протопопов, матрос судна, инженер в Токио, физик в Швеции. Это в самое последнее время. Промытые в бесчисленных анкетных водах, просвеченные аппаратами компетентных органов, проверенные-перепроверенные – и такой конфуз. Кувалда массированной пропаганды вбивает в головы патриотические стереотипы, а люди бегут. Одни задыхаются от отсутствия политических свобод, другие стремятся поправить материальное положение. Душно даже тем, кто от политики далек. Массовость этих явлений должна была бы наталкивать на какие-то выводы профилактического свойства, побудить что-то изменить в правилах нашего существования, а не громче свистеть в полицейский свисток. Но хозяева страны и их челядь самоохранным инстинктом чувствуют, что только status quo удерживает их. Приоткрой форточку, впусти свежий воздух – и ветер перемен сметет их. Дела в стране идут все хуже и хуже, но утешение начальство черпает в слабости заграничных противников, которые вчера вынуждены были примириться с потерей Ирана, сегодня проглотить сандинистов в Никарагуа, завтра потерять влияние еще в каком-нибудь государстве. Но то, что сегодня выглядит нашей победой, завтра обернется величайшим поражением», – отметил 2 ноября 1979 года в дневнике критик Лев Левицкий. Трудно что-либо добавить к написанному, зная, как развернулись дела дальше. Будто провидец писал…
Упомянутые супруги Козловы – это коллеги Годунова, также сбежавшие на Запад в это время. Леонид Козлов танцевал в Большом с 1965 года, исполняя партии Зигфрида, Злого гения в «Лебедином озере», Базиля в «Дон Кихоте», а жена его, Валентина, пришла в труппу в 1973 году (Одетта-Одиллия, Хозяйка Медной горы, Джульетта). В отличие от Годунова и Власовой, не оправдавших поговорку, что муж и жена – одна сатана, супруги Козловы решили бежать единодушно, так сказать в ритме вальса. Они затем неплохо устроились в Америке, танцевали в труппе «Мерилэнд балле», в Австралийском балете, в «Нью-Йорк сити балле», создали свою труппу, с которой много гастролировали по миру. Резонанс от их побега был бы не таким громким, если бы не Годунов – с его звездным статусом. Одно дело, когда бежит один, а тут за короткий срок сразу трио. Целая комсомольская ячейка! Все это немедля дало повод острякам-скалозубам пошутить: «После возвращения с американских гастролей Большой театр будет переименован во второй Малый». А вот шуточка про фигуристов Протопопова и Белоусову: «Лед тронулся». Смешно.
А сотруднику ЦК КПСС Анатолию Черняеву (будущему помощнику Михаила Горбачёва) было не смешно. Как раз в эти дни его отправили в командировку в США, на встречу с американскими коммунистами (были там и такие). И вот со всего Нью-Йорка с трудом собрали человек 300 убежденных марксистов-ленинцев, партия которых успешно боролась с капитализмом в самом его логове (на советские, правда, денежки). Черняев должен был выступить с докладом перед американскими товарищами, многие из которых никогда в СССР не бывали, но за приближение светлого будущего активно боролись, а потому с повседневной жизнью при коммунизме не были знакомы. Поначалу все шло хорошо – разговор про разрядку мировой напряженности, и т. д., и т. п. Потом вдруг кто-то задал и вредные вопросы: почему из Советского Союза бегут его граждане и в частности артисты самого лучшего в мире балета? С трудом удалось Черняеву свернуть на любимую советскими пропагандистами тему о мирном использовании ядерной энергии, о борьбе за мир во всем мире, которую неустанно ведет дорогой Леонид Ильич.
И все же бегство раскрученного Годунова не прошло даром. Если уж американские коммунисты не могли понять причину его побега, что говорить о своих. Народ зашевелился и стал задавать вопросы прямо на встречах с лекторами общества «Знание». Специально для таких непонятливых были разработаны ответы. Приводим один из них: «Александр Годунов и балерина Людмила Власова, которые в 1979 году бежали за границу, просятся обратно в наш Союз. Ростропович также обивает порог нашего посольства, говорит: “Разрешите вернуться в Советский Союз, умоляю!” А мы говорим: “Изменникам прощения нет!”». И все ясно.
Вполне обыденными были и доводы американских журналистов, сбившихся со счету советским невозвращенцам и трактовавших эту историю как повторение шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, на этот раз в условиях холодной войны. А какой сюжет хороший – так и просится на кинопленку! И самое удивительное, что первыми это осознали советские кинематографисты, а не жрецы Голливуда. Когда все вроде уже успокоилось, в 1984 году про Годунова на его родине опять вспомнили. При Андропове в Советском Союзе историю с самолетом решили экранизировать, изменив профессии главных героев, превратившихся в фигуристку и спортсмена. И ведь что интересно – снятый в назидание фильм «Рейс 222» снискал зрительский успех, заняв третье место во всесоюзном прокате 1986 года.
Нельзя сказать, что в дальнейшем судьба Годунова сложилась удачно и он обрел в Штатах то, что искал. Поначалу его статус премьера в Американском театре балета обусловил высокую ставку – пять тысяч долларов в неделю, или более 150 тысяч в год. Но долго это продолжаться не могло по той причине, что руководил труппой его однокашник по Рижскому хореографическому училищу Михаил Барышников: и здесь интриги! Барышникову приписывают фразу: «Эти 20 сантиметров я тебе не забуду!» Речь идет о том, что Годунов был выше его на два десятка сантиметров, что в балете является важнейшим критерием для отбора на те или иные роли. «Сейчас многие считают, что ему помог бежать его однокурсник Миша Барышников, – говорит Людмила Власова. – Но мне кажется, что как раз Миша был меньше всего заинтересован в том, чтобы Саша остался в Америке. Там был целый клан людей, которым был нужен Годунов. Миша – фантастический танцовщик, но он маленького роста. Он завидовал Годунову, его росту, красоте и таланту. А потом, они и не были такими уж друзьями. Контракт с Американским театром скоро прервался по инициативе Барышникова, но не Миша сломал его карьеру, а Саша сам это сделал. Он всегда был бессребреником, а Миша всегда знал, что? ему нужно».
Когда Годунов пришел в Американский балет, там уже несколько месяцев продолжалась забастовка кордебалета, требовавшего повышения зарплаты, – прямо скажем, фон не очень подходящий для дебюта. Кроме того, странным образом после прихода Годунова из репертуара балета исчезли постановки, в которых танцевал Годунов, в том числе «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот». После ухода в 1982 году из Американского балета Годунов продолжал выступать на разных сценах мира. А через три года, закончив с балетом, решил продолжить кинокарьеру, начавшуюся еще в СССР. Из всех зарубежных фильмов, которых наберется с десяток, он запомнился ролью террориста-маньяка в боевике «Крепкий орешек» 1988 года. Долгий роман связывал Годунова с красавицей киноактрисой Жаклин Биссет… А в мае 1995 года Годунова обнаружили мертвым в его доме в Западном Голливуде. Причина смерти неясна (будь то злоупотребление алкоголем или встречающееся среди балетных тяжелое заболевание) – вскрытия не было. Прах Годунова развеян над Тихим океаном. Иосиф Бродский написал в некрологе: «Я считаю, что он не прижился и умер от одиночества».
Людмила Власова через некоторое время после развода с Годуновым (осуществленного через совпосольство) связала свою жизнь с басом Большого театра Юрием Статником, посвятив себя воспитанию молодых спортсменов в художественной гимнастике и фигурном катании (в частности, Анна Семенович и Владимир Федоров). Что же касается компетентных органов, в очередной раз прозевавших артистичного бегуна, то их концепция себя не оправдала. Генерал КГБ Юрий Дроздов рассказывал, что после бегства из СССР Рудольфа Нуреева, а затем Барышникова, в результате глубоких раздумий в недрах комитета родилась мысль – причиной их поступка является вредное влияние общего учителя – ленинградского хореографа Александра Ивановича Пушкина. Дескать, это он внушил артистам любовь к свободе, заставившую их оставить родное отечество. Но Годунов-то у Пушкина не учился!
А бежать из театра артисты пытались постоянно. Перед войной в Большом было три звезды, три молодых тенора – Иван Козловский, Сергей Лемешев и Иван Жадан. Все орденоносцы, все со званиями, пользовавшиеся бешеной популярностью у публики и на кремлевских концертах. Только вот первые два нам хорошо известны, а третий – Жадан (певший в Большом с 1927 года) – куда-то подевался. Все объясняется просто: он оказался на оккупированной территории и ушел с немцами в надежде на лучшую жизнь… А в 1930-х годах имя его не сходило с афиш. «В филиале Большого была на “Фаусте”. Сначала понравилось. Надо забыть “Фауста” Гёте, и тогда поймешь “Фауста” в филиале. Здесь Фауст – сластолюбивый старец, связавшийся с Мефистофелем только потому, что тот вернул ему младость. Самое лучшее в этой постановке – музыка, особенно арии “Люди гибнут за металл”, “Дверь не отворяй”, очаровательный вальс и много других мест. Мефистофель (Пирогов) изумителен, Маргарита (Баратова) старовата, Фауст (Жадан) толстоват. Это портит впечатление», – читаем мы в дневнике москвички Нины Костериной в записи от 7 ноября 1938 года…
Осенью 1941 года обстановка на подступах к Москве опасно обострилась. Большому театру было предписано эвакуироваться в Куйбышев. 16 октября в городе воцарилась жуткая паника – остановился транспорт, грабили магазины, брали все, что могли унести с собой. Десятки тысяч людей устремились из города в восточном направлении, испытывая одно-единственное желание – любой ценой сесть в поезд на Казанском вокзале. Но к вокзалу было не пробиться, поезда брали штурмом. Молодой дирижер Большого театра Кирилл Кондрашин, уже переживший одну эвакуацию (из Ленинграда), удивлялся: какая огромная разница между столицей и Ленинградом: «Как был организован народ в Ленинграде! Никакой паники, все очень серьезно, сурово и четко. И какая паника была в это время в Москве! Была непосредственная угроза захвата. Уже шли разговоры о том, что город готов к эвакуации».
Только недавно он приехал в Москву из Ленинграда, а тут пришлось Кондрашину эвакуироваться второй раз: «И вот вечером, часов в шесть, нам сказали – скорее на вокзал. Мы бросились в гостиницу за своими тючками, а у каждого их три-четыре. В метро мы сели, доехали до вокзала и не можем выйти. Вокзалы закрыты и выходы из метро на Казанском вокзале тоже закрыты. Ничего не известно. Толпа, дикая свалка. Мы знаем, что часть театра там, часть с нами, здесь. Закрыли двери, не пускают, переполнено все. Выяснилось потом, что все поезда отменены, кроме двух. Один идет в Саратов, другой – в Куйбышев, и все. А там же – Союз композиторов. Там Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Арам Хачатурян, Кабалевский – все сидят на перроне, а мы не можем на перрон попасть. И тут нам как-то повезло. Кто-то поднапер – двери выломались, и вся толпа вывалилась на перрон. Тут все полезли в вагоны, мы в том числе, и Шостакович с вещами. Арам Ильич Хачатурян страшно волновался, что у него медикаменты пропали. В общем, как только все залезли в вагон – поезд тронулся. До Куйбышева поезд шел семь дней… В шестиместном купе ехало 11 человек… А потом добрались и до Оренбурга, где Хайкин (Борис Хайкин, дирижер. – А. В.) стал директорствовать».
Не все артисты Большого театра сумели протиснуться в вагон, немалая часть их осталась в Москве. Александр Пирогов, например, не смог выехать – у него тяжело заболела жена, а когда пошли разговоры, что он ждет немцев, певец был вынужден эвакуироваться, дабы избежать подозрений. Лемешев, ожидая посадки, сильно простудился на Казанском вокзале – ему не помогло даже то, что провожать его пришла Полина Жемчужина, жена Вячеслава Молотова, наркома иностранных дел (они дружили семьями, Лемешев с Молотовым были партнерами по преферансу). Впоследствии певец, пережив воспаление легких, все же смог покинуть город. И вот что занятно – проживая в эвакуации в Елабуге весной 1942 года, Лемешев старался побольше дышать чистым воздухом, для чего часто ездил в сосновый лес – так ему рекомендовали врачи. В лесу он любил репетировать, петь. Но у органов НКВД эти поездки знаменитого тенора вызвали серьезную обеспокоенность. Местные компетентные товарищи решили, что он шпион, а в лесу прячет радиопередатчик, по которому передает секретную информацию самому Гитлеру. И это не шутка – чекисты прочесали весь лес, но передатчика не нашли, только грибы да ягоды. К счастью, Лемешев вскоре покинул Елабугу, а затем вернулся в Москву.
А Иван Данилович Жадан на Казанский вокзал не поехал, устремившись совсем в ином направлении – на Запад, в поселок Манихино Истринского района, в дачный кооператив «Вокалист Большого театра» – излюбленное еще до войны место отдыха не только артистов главной сцены страны, но и остальной творческой интеллигенции Москвы. Здесь, на своих дачах, Жадан и его соседи дождались прихода немцев. Среди них были актер Малого театра заслуженный артист РСФСР Всеволод Блюменталь-Тамарин, бывший директор Вахтанговского театра Освальд Глазунов. К ним хотел примкнуть и популярный солист Всесоюзного радио Борис Дейнека, один из первых исполнителей песни «Широка страна моя родная» в сопровождении Ансамбля песни и пляски Московского военного округа. Но Дейнеку задержал военный патруль, причем, как утверждал его сосед Аркадий Ваксберг, вместе с белым роялем и другими личными вещами (неужели в Третьем рейхе не нашлось бы лишнего рояля?), певец был арестован и осужден на десять лет лагерей[31 - В лагере умер и певец Иван Алексеевич Сердюков, осужденный на восемь лет за нахождение на оккупированной территории. Когда-то он пел с Шаляпиным, а попав за колючую проволоку, стал выступать на сцене Вятлага, пел Мельника, Мефистофеля. О нем остались занятные воспоминания Ивана Петрова: «Был у нас бас Сердюков, обладавший зычным голосом. Он пел такие характерные партии, как Малюту в “Царской невесте”. Но часто путал слова, и путал так, что все актеры и публика не могли сдержать смех. Однажды он вышел и спел: “Григорий, где же крестница тво… моя?” Потом, обращаясь к опричникам, объяснял: “Любовница Грязного. Мы из Каширы увезли ее. Коса, как искры, и глаза до пяток”».].
Долго ждать немцев не пришлось. В конце ноября фашисты заняли Истру, катастрофические для местных памятников архитектуры последствия их двухнедельной оккупации ощущаются до сих пор. Сам Жадан рассказывал так: «Манихино захватили немцы. Нас, солистов Большого театра, тогда там было много. Так вот, в мой дом, где вместе со мной тогда были концертмейстер, знавшая хорошо немецкий язык, баритон Волков и еще несколько артистов, вошел офицер. “Кто такие?” – сурово спросил он. “Артисты”, – пролепетала насмерть перепуганная пианистка. Офицер на минуту задумался, потом его лицо просветлело. “А Вагнера можете исполнить?” Волков утвердительно кивнул головой…»
Иван Жадан и его коллеги порадовали «освободителей» импровизированным концертом по случаю дня рождения одного из немецких офицеров. Конечно, трудно поверить в тот факт, что они оказались в этом месте и в это время случайно или вынужденно. Все всё прекрасно понимали. И не зря они и ушли вместе с фашистами. В дальнейшем их судьба сложилась соответственно. Блюменталь-Тамарин за активное сотрудничество с гитлеровцами был убит советским агентом Миклашевским в 1945 году. Глазунова арестовали в Риге органы Смерша в 1944 году, он умер в лагере в 1949-м. Лишь Жадан избежал ответственности и, перебравшись в США, продолжал сольную карьеру. На странный вопрос о том, почему он не вернулся в СССР, певец ответил: «Я не пострадал, мне было очень хорошо, я был материально всем обеспечен, но русский народ пострадал. А разве я не принадлежу к народу? Глаза-то у меня были, я видел все, что творилось».