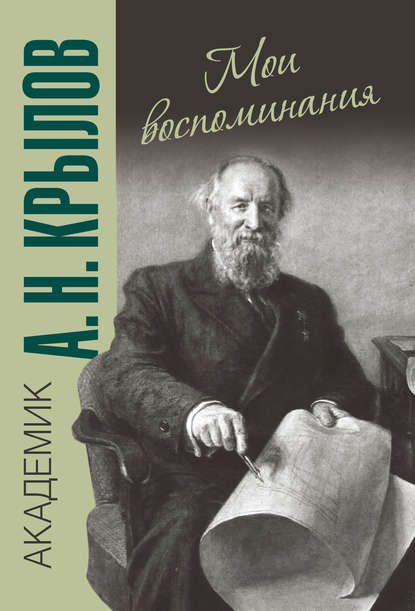По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мои воспоминания
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы бы так и сказали, – схватил за обе руки, усадил в кресло, – ведь какая красавица-то была, какие от нее щенки пошли, ведь я породу до сих пор сохранил, чистых мачевариановских кровей.
Через полчаса Петр Федорович вышел от князя главным хирургом одного из самых больших полевых госпиталей.
Описывая это в письме к моему отцу, Петр Федорович закончил так:
– Вот, брат Николай, как меня Лебедка-то через 15 лет выручила, это не чета Нилочкиной рекомендации, какая он знаменитость ни есть.
Однако возможно, что князь рассуждал так: уж если Петр Федорович меня на собаке, которую я у него заглазно купил, не надул, то значит человек честный и на него положиться можно.
Теплый Стан. Сеченовы и Филатов
Село Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии, дворов в 200, тянется двумя порядками версты на полторы. Посредине южного порядка церковь; западная половина села была филатовской, восточная – сеченовской.
Филатовская усадьба принадлежала дяде моего отца, Петру Михайловичу Филатову, и состояла из сада в 16 десятин со старыми громадными деревьями, из которых одному, отполировав сечение коры[4 - По-видимому, ошибочно; нужно – «ствола».], отец в лупу насчитал до 400 лет, двух барских домов, дома управляющего и усадебных строений. В большом доме жил сам Петр Михайлович, а в другом, малом, гостили сестры отца: незамужняя Анна Александровна Крылова и замужняя Софья Александровна Лодыгина.
Сеченовская половина заключала старый большой двухэтажный дом с садом и усадьбой, где жили братья Андрей и Рафаил Михайловичи Сеченовы. Рафаил был женат на Екатерине Васильевне Ляпуновой, Андрей в то время до 1872 г. был холост. Вместе с Екатериной Васильевной жили ее сестры: Глафира, Марфа и Елизавета Васильевны Ляпуновы, приходившиеся родными тетками моей матери.
Кроме того, на сеченовской половине были усадьбы Алексея Михайловича Сеченова и Варвары Михайловны, по мужу Кастен.
У Петра Михайловича Филатова были тогда только дочери – Маша, годом старше меня, и Варя, моложе меня года на четыре и поэтому считавшаяся «маленькой».
У Рафаила Михайловича была единственная дочь Наташа, года на три старше меня. У Наташи было три тетеньки, да гувернантка, а я считался разбойником, так как кинул в тетю Марфу чуркой, и Наташу от меня прятали и играть с ней не позволяли.
Обе половины Теплого Стана были нам сродни, поэтому примерно каждый месяц мы из Висяги ездили всей семьей гостить дня на три в Теплый Стан. Отец останавливался у Филатовых, а мать со мной – у Сеченовых.
Из этих поездок мне особенно врезались в память поездки летние. Дорога шла через Кишу и Семеновскую степь, причем Кишу приходилось переезжать три раза: один раз вброд и два раза по мостам. При переезде вброд через болотистую Кишу обыкновенно слезали кучер и отец и, тыкая в тину кнутовищем, шли искать, как отец говорил, «где хуже», чтобы лошадей и тарантас не завязить. Обыкновенно везде было «хуже», тогда рубили ивовые кусты и настилали некоторое подобие гати.
Мосты были тоже такие, что при проезде через них из тарантаса все вылезали и ходившая на левой пристяжке пугливая Элеонора отстегивалась и проводилась отдельно в поводу.
В Семеновской степи всегда можно было видеть стаи журавлей и дрохв, перелетали стаи уток разных пород, кулики и изредка бекасы и дупеля, кружили ястребы, трепетали кобчики. Отец учил меня отличать издали птицу по полету; все это, конечно, меня занимало, и я любил эти поездки, тем более, что от Висяги до Теплого 25 верст и поездка не была утомительной.
В Теплом меня, как помню, особенно занимало то, что дядя Эпафродит Петрович Лодыгин давал мне стрелять в цель из ружья монтекристо и что на печке в доме была прекрасно нарисована карикатура, изображавшая всех теплостанских помещиков, собравшихся на балконе филатовской усадьбы, причем Андрей Михайлович Сеченов с дубинкой в руке вел на цепи, вместо медведя, теплостанского попа. Мне особенно нравилось, что я мог узнать каждого из нарисованных лиц. На Пасху и Рождество, когда попы приходили «славить», цепь и дубинка соскабливались, и тогда выходило, что просто пляшут поп и Андрей Михайлович. Затем цепь опять подрисовывалась. Кроме того, Эпафродит Петрович показывал мне «редкости»: старинную кольчугу, шестопер и подлинный кистень, которым разбойник Гурьянов человек 20 перебил. Кистень этот Эпафродит Петрович купил, когда после суда над Гурьяновым распродавались «с торгов» вещественные доказательства. Кистень был самодельный, из молодого дубового комелька, вершков 10 длины, служившего рукояткой, к которой на сыромятном ремне, длиною вершка в два, была привязана трехфунтовая лавочная гиря. Как видно, оружие это было страшное.
В сеченовском доме мне памятна мастерская (столярная и слесарная), в которой работал Андрей Михайлович. Он иногда давал мне в руки стамеску и показывал, как надо точить по дереву.
Летом в Теплый Стан наезжал гостить к братьям профессор Иван Михайлович Сеченов, знаменитый физиолог. Иногда он читал собравшимся родным и знакомым лекции на лягушках, которых мне поручалось наловить в прудах филатовского сада, за что я тоже допускался на эти лекции. Я уже тогда твердо знал строение тела лягушки и зачем какой орган служит, о чем, в свою очередь, я читал лекции мальчишкам многочисленной сеченовской дворни, препарируя лягушек перочинным ножом по-своему.
Летом, вероятно 1872 г., Иван Михайлович приехал не один, а со своим другом, профессором хирургии Пелехиным. О приезде знаменитого хирурга скоро узнали в округе, и к Сеченовым повалили больные из ближних и дальних мест. Пелехин никому не отказывал в помощи; большая беседка в сеченовском саду была обращена в больницу, где лежали больные после тяжелых операций (извлечение камней), как я помню, так как эти камни затем с интересом рассматривались, и их доводилось видеть и мне.
Особенно же прославился тогда в нашей местности Пелехин несколькими удачными операциями по снятию катаракты: «слепых зрячими делает, вот это доктор, не толстопузому Кастену чета, который, кроме касторки, других лекарств не знает».
Из этих операций мне запомнилось снятие катаракты, произведенное им тетке моей бабушки и Петра Михайловича Филатова, Наталии Ниловне Топорниной, урожденной Ермоловой (родной дочери екатерининского генерал-интенданта Нила Ермолова, про которого мне затем довелось читать в «Русской старине», что он «обеими руками грабил» и имел до 10 000 душ). Наталии Ниловне в это время было далеко за 80, в нашей местности она пользовалась большим уважением.
Наталия Ниловна была совершенно слепой более 15 лет; узнав о Пелехине, приехала она из своего имения Черновское в Теплый и поселилась у своего племянника П. М. Филатова, где Пелехин и произвел операцию.
Пробыв положенное числа дней в темной комнате и убедившись затем, что глаз ее стал зрячим, она своеобразно и по-старинному отблагодарила Пелехина. В зале филатовского дома собрались многочисленные родственники, многие приехавшие издалека. Был отслужен торжественный молебен, на который был приглашен Пелехин. После молебна Наталия Ниловна твердым и ясным голосом сказала несколько слов благодарности и поклонилась ему в ноги. Встала, ей подали икону, и она сказала:
– Стань теперь ты на колени, я благословлю тебя этой древней иконой, которая в нашем роде передается из поколения в поколение более трехсот лет, храни ее, и господь сохранит тебя и ту мудрость врачевания, которую он тебе даровал.
Пелехин был растроган буквально до слез.
В это же лето гостили у Сеченовых братья Александр, Сергей и Борис Михайловичи Ляпуновы с их матерью Софьей Александровной и младшей сестрой, которую лечил Пелехин. Это были дети покойного профессора астрономии Михаила Васильевича Ляпунова; замечательно, что все три брата стали впоследствии знамениты: Александр как математик, Сергей как музыкант-композитор, Борис как филолог-славист. Может быть, тут сказалась, с одной стороны, наследственность, а с другой – влияние Ивана Михайловича Сеченова и того уважения, которым он пользовался как среди обширной родни, так и всех его знавших.
Невольно припоминается также из того времени жившая в сеченовском доме гигантская фигура Павла Дмитриевича Алакаева, письмоводителя Рафаила и Андрея Михайловичей, бывших мировыми посредниками. Росту он был 2 аршина 15 вершков, весу 12 пудов, силищи непомерной и редкостной доброты.
– Павел Дмитриевич, поиграй мной в мячик, – он брал тогда меня, 9-летнего мальчика, на руки, подкидывал почти до потолка и ловил, как мячик.
Мой отец и Андрей Михайлович Сеченов были тоже очень сильные люди; они охотно любовались силою Павла Дмитриевича и наглядными ее проявлениями, которые он, по их просьбе, и демонстрировал на дворе сеченовского дома.
Остряк Петр Михайлович частенько говорил:
– Что вы его по силе с людьми сравниваете, его надо равнять вот с моим коренником или вон с быком.
Хотя от филатовской усадьбы до сеченовской было всего с версту, но обыкновенно друг к другу ездили, для чего запрягались тройкой, не знаю филатовской или сеченовской работы, «дрожки», на которых усаживалось в два ряда спинами друг к другу человек 12.
Как-то у подъезда сеченовского дома садились в дрожки Филатовы с гостями, и вот пристяжная зашалила, постромка свалилась с валька. Андрей Михайлович ухватил эту постромку, стал осаживать пристяжную, которая взметнула задом, и копыто, хотя и слегка, коснулось подбородка Андрея Михайловича так, что он упал. Конечно, поднялся визг барынь, крики, ахи и прочее, и вдруг раздается голос Петра Михайловича, внесший общее успокоение:
– Семен, посмотри, цела ли подкова, а что зубы у него целы – и смотреть не надо.
О крепости зубов Андрея Михайловича дедушка Петр Михайлович имел основание судить по собственным рассказам Андрея Михайловича о времени его студенчества на факультете восточных языков в Казани.
В тридцатых и начале сороковых годов факультет восточных языков был при Казанском университете, поэтому при Казанской гимназии в то время была учреждена своеобразная «бифуркация»: начиная с четвертого класса, желающие идти по окончании гимназии на факультет восточных языков освобождались от изучения математики и физики, а изучали, смотря по желанию, или арабско-персидскую, или китайско-маньчжурскую грамоту и словесность. Так вот Рафаил Михайлович записался на арабско-персидскую, а Андрей – на китайско-маньчжурскую специальность.
Рафаил был усидчив и аккуратен, каллиграфически писал любым шрифтом, хорошо чертил и рисовал и хотя после гимназии в университет не пошел, но через много лет, будучи мировым посредником, он в татарских селах частенько удивлял мулл тем, что сам читал арабский коран, приводя татар к присяге.
Андрей по окончании гимназии был несколько лет в университете по китайско-маньчжурскому отделению, но на вопрос: «Андрей Михайлович, расскажите что-нибудь, как вы в университете в Казани учились», обыкновенно начинал рассказ так:
– Был я в университете третий год; справлял купец Толстобрюхое свадьбу, а у нас, студентов, было заведено приходить на купеческие свадьбы скандалить, а он не только своих, но и синебрюховских молодцов про запас призвал. Вот я вам доложу, драка-то была, конечно, и нам попало здорово, ну да зато позабавились. Полиция нас потом разгонять стала, мой товарищ Селезнев думал, что квартальный, – как хватит его плашмя по спине осиновой лопатой, так лопата на три части разлетелась, а он оказался не квартальный надзиратель, а сам частный пристав; уж еле-еле потом в складчину роскошным обедом откупились.
Других воспоминаний у Андрея Михайловича о времени учения в Казани не было, и, по-видимому, в китайско-маньчжурской словесности он не был силен.
Петр Михайлович был страстный ружейный охотник, поэтому осенью в теплостанских рощах и в ближайших перелесках устраивались облавы, на которых бывал и я, конечно, без ружья и при условии стоять с отцом и не шевелиться. Облавы двух родов: одни, когда дозволялось стрелять всякую дичь, т. е. и зайцев, и тетеревов, и вальдшнепов, а другие, когда дозволялось стрелять только по волку и по лисице.
На этих последних облавах особенно был удачлив Петр Михайлович: ни у кого ничего, а он, смотришь, либо лисицу, либо волка взял, а раз при мне пару молодых волков дуплетом убил. При этом был с ним такой случай. Стрелок он был горячий, не всегда осторожный. После загона собрались все, Павел Дмитриевич Алакаев и говорит:
– Петр Михайлович, вы мне ногу прострелили, вот смотрите, – и показывает свой сапог, пробитый картечиной.
– Так что же было делать, куда ни посмотришь – все твои ноги, ведь ты ими весь лес загородил; сапог я тебе действительно прострелил, сапоги я сооружу тебе новые, если только в Курмыше кожи хватит, а насчет ноги ты врешь, шкура у тебя толще слоновой, ее картечина не пробьет. Снимай сапог, покажи.
Действительно, при общем хохоте оказалось, что бывшая на излете картечина пробила сапог, а на ноге Павла Дмитриевича оставила лишь маленький синячок.
Невольно вспоминается образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около 50 лет до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене шкапчику, в который для него ставился еще с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими черными сухариками; выпивал рюмочку, крякал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином еще три или четыре больших рюмки из общего графина и шел спать.
Порция, которая ему ставилась в шкапчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея от роду под 80 лет.
Замечательно, что, живя безвыездно в деревне, он выписывал два или три толстых журнала, две газеты, имел хорошую библиотеку русских писателей, для которой он своими руками сделал превосходный, цельного дуба, громадный шкап. Русских классиков он всех перечитал и хорошо помнил; хорошо знал критиков – Белинского, Писарева, Добролюбова; иногда заводил с молодежью беседы на литературные темы и умел ошарашить парадоксом, если не всегда приличным, то всегда остроумным, и это несмотря на ежемесячные три ведра водки в течение 50 лет.
Про знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» говорил: «Наврал попович, это вовсе не Ваня и не Мария Александровна описаны», но в подробности не вдавался.
Через полчаса Петр Федорович вышел от князя главным хирургом одного из самых больших полевых госпиталей.
Описывая это в письме к моему отцу, Петр Федорович закончил так:
– Вот, брат Николай, как меня Лебедка-то через 15 лет выручила, это не чета Нилочкиной рекомендации, какая он знаменитость ни есть.
Однако возможно, что князь рассуждал так: уж если Петр Федорович меня на собаке, которую я у него заглазно купил, не надул, то значит человек честный и на него положиться можно.
Теплый Стан. Сеченовы и Филатов
Село Теплый Стан Курмышского уезда Симбирской губернии, дворов в 200, тянется двумя порядками версты на полторы. Посредине южного порядка церковь; западная половина села была филатовской, восточная – сеченовской.
Филатовская усадьба принадлежала дяде моего отца, Петру Михайловичу Филатову, и состояла из сада в 16 десятин со старыми громадными деревьями, из которых одному, отполировав сечение коры[4 - По-видимому, ошибочно; нужно – «ствола».], отец в лупу насчитал до 400 лет, двух барских домов, дома управляющего и усадебных строений. В большом доме жил сам Петр Михайлович, а в другом, малом, гостили сестры отца: незамужняя Анна Александровна Крылова и замужняя Софья Александровна Лодыгина.
Сеченовская половина заключала старый большой двухэтажный дом с садом и усадьбой, где жили братья Андрей и Рафаил Михайловичи Сеченовы. Рафаил был женат на Екатерине Васильевне Ляпуновой, Андрей в то время до 1872 г. был холост. Вместе с Екатериной Васильевной жили ее сестры: Глафира, Марфа и Елизавета Васильевны Ляпуновы, приходившиеся родными тетками моей матери.
Кроме того, на сеченовской половине были усадьбы Алексея Михайловича Сеченова и Варвары Михайловны, по мужу Кастен.
У Петра Михайловича Филатова были тогда только дочери – Маша, годом старше меня, и Варя, моложе меня года на четыре и поэтому считавшаяся «маленькой».
У Рафаила Михайловича была единственная дочь Наташа, года на три старше меня. У Наташи было три тетеньки, да гувернантка, а я считался разбойником, так как кинул в тетю Марфу чуркой, и Наташу от меня прятали и играть с ней не позволяли.
Обе половины Теплого Стана были нам сродни, поэтому примерно каждый месяц мы из Висяги ездили всей семьей гостить дня на три в Теплый Стан. Отец останавливался у Филатовых, а мать со мной – у Сеченовых.
Из этих поездок мне особенно врезались в память поездки летние. Дорога шла через Кишу и Семеновскую степь, причем Кишу приходилось переезжать три раза: один раз вброд и два раза по мостам. При переезде вброд через болотистую Кишу обыкновенно слезали кучер и отец и, тыкая в тину кнутовищем, шли искать, как отец говорил, «где хуже», чтобы лошадей и тарантас не завязить. Обыкновенно везде было «хуже», тогда рубили ивовые кусты и настилали некоторое подобие гати.
Мосты были тоже такие, что при проезде через них из тарантаса все вылезали и ходившая на левой пристяжке пугливая Элеонора отстегивалась и проводилась отдельно в поводу.
В Семеновской степи всегда можно было видеть стаи журавлей и дрохв, перелетали стаи уток разных пород, кулики и изредка бекасы и дупеля, кружили ястребы, трепетали кобчики. Отец учил меня отличать издали птицу по полету; все это, конечно, меня занимало, и я любил эти поездки, тем более, что от Висяги до Теплого 25 верст и поездка не была утомительной.
В Теплом меня, как помню, особенно занимало то, что дядя Эпафродит Петрович Лодыгин давал мне стрелять в цель из ружья монтекристо и что на печке в доме была прекрасно нарисована карикатура, изображавшая всех теплостанских помещиков, собравшихся на балконе филатовской усадьбы, причем Андрей Михайлович Сеченов с дубинкой в руке вел на цепи, вместо медведя, теплостанского попа. Мне особенно нравилось, что я мог узнать каждого из нарисованных лиц. На Пасху и Рождество, когда попы приходили «славить», цепь и дубинка соскабливались, и тогда выходило, что просто пляшут поп и Андрей Михайлович. Затем цепь опять подрисовывалась. Кроме того, Эпафродит Петрович показывал мне «редкости»: старинную кольчугу, шестопер и подлинный кистень, которым разбойник Гурьянов человек 20 перебил. Кистень этот Эпафродит Петрович купил, когда после суда над Гурьяновым распродавались «с торгов» вещественные доказательства. Кистень был самодельный, из молодого дубового комелька, вершков 10 длины, служившего рукояткой, к которой на сыромятном ремне, длиною вершка в два, была привязана трехфунтовая лавочная гиря. Как видно, оружие это было страшное.
В сеченовском доме мне памятна мастерская (столярная и слесарная), в которой работал Андрей Михайлович. Он иногда давал мне в руки стамеску и показывал, как надо точить по дереву.
Летом в Теплый Стан наезжал гостить к братьям профессор Иван Михайлович Сеченов, знаменитый физиолог. Иногда он читал собравшимся родным и знакомым лекции на лягушках, которых мне поручалось наловить в прудах филатовского сада, за что я тоже допускался на эти лекции. Я уже тогда твердо знал строение тела лягушки и зачем какой орган служит, о чем, в свою очередь, я читал лекции мальчишкам многочисленной сеченовской дворни, препарируя лягушек перочинным ножом по-своему.
Летом, вероятно 1872 г., Иван Михайлович приехал не один, а со своим другом, профессором хирургии Пелехиным. О приезде знаменитого хирурга скоро узнали в округе, и к Сеченовым повалили больные из ближних и дальних мест. Пелехин никому не отказывал в помощи; большая беседка в сеченовском саду была обращена в больницу, где лежали больные после тяжелых операций (извлечение камней), как я помню, так как эти камни затем с интересом рассматривались, и их доводилось видеть и мне.
Особенно же прославился тогда в нашей местности Пелехин несколькими удачными операциями по снятию катаракты: «слепых зрячими делает, вот это доктор, не толстопузому Кастену чета, который, кроме касторки, других лекарств не знает».
Из этих операций мне запомнилось снятие катаракты, произведенное им тетке моей бабушки и Петра Михайловича Филатова, Наталии Ниловне Топорниной, урожденной Ермоловой (родной дочери екатерининского генерал-интенданта Нила Ермолова, про которого мне затем довелось читать в «Русской старине», что он «обеими руками грабил» и имел до 10 000 душ). Наталии Ниловне в это время было далеко за 80, в нашей местности она пользовалась большим уважением.
Наталия Ниловна была совершенно слепой более 15 лет; узнав о Пелехине, приехала она из своего имения Черновское в Теплый и поселилась у своего племянника П. М. Филатова, где Пелехин и произвел операцию.
Пробыв положенное числа дней в темной комнате и убедившись затем, что глаз ее стал зрячим, она своеобразно и по-старинному отблагодарила Пелехина. В зале филатовского дома собрались многочисленные родственники, многие приехавшие издалека. Был отслужен торжественный молебен, на который был приглашен Пелехин. После молебна Наталия Ниловна твердым и ясным голосом сказала несколько слов благодарности и поклонилась ему в ноги. Встала, ей подали икону, и она сказала:
– Стань теперь ты на колени, я благословлю тебя этой древней иконой, которая в нашем роде передается из поколения в поколение более трехсот лет, храни ее, и господь сохранит тебя и ту мудрость врачевания, которую он тебе даровал.
Пелехин был растроган буквально до слез.
В это же лето гостили у Сеченовых братья Александр, Сергей и Борис Михайловичи Ляпуновы с их матерью Софьей Александровной и младшей сестрой, которую лечил Пелехин. Это были дети покойного профессора астрономии Михаила Васильевича Ляпунова; замечательно, что все три брата стали впоследствии знамениты: Александр как математик, Сергей как музыкант-композитор, Борис как филолог-славист. Может быть, тут сказалась, с одной стороны, наследственность, а с другой – влияние Ивана Михайловича Сеченова и того уважения, которым он пользовался как среди обширной родни, так и всех его знавших.
Невольно припоминается также из того времени жившая в сеченовском доме гигантская фигура Павла Дмитриевича Алакаева, письмоводителя Рафаила и Андрея Михайловичей, бывших мировыми посредниками. Росту он был 2 аршина 15 вершков, весу 12 пудов, силищи непомерной и редкостной доброты.
– Павел Дмитриевич, поиграй мной в мячик, – он брал тогда меня, 9-летнего мальчика, на руки, подкидывал почти до потолка и ловил, как мячик.
Мой отец и Андрей Михайлович Сеченов были тоже очень сильные люди; они охотно любовались силою Павла Дмитриевича и наглядными ее проявлениями, которые он, по их просьбе, и демонстрировал на дворе сеченовского дома.
Остряк Петр Михайлович частенько говорил:
– Что вы его по силе с людьми сравниваете, его надо равнять вот с моим коренником или вон с быком.
Хотя от филатовской усадьбы до сеченовской было всего с версту, но обыкновенно друг к другу ездили, для чего запрягались тройкой, не знаю филатовской или сеченовской работы, «дрожки», на которых усаживалось в два ряда спинами друг к другу человек 12.
Как-то у подъезда сеченовского дома садились в дрожки Филатовы с гостями, и вот пристяжная зашалила, постромка свалилась с валька. Андрей Михайлович ухватил эту постромку, стал осаживать пристяжную, которая взметнула задом, и копыто, хотя и слегка, коснулось подбородка Андрея Михайловича так, что он упал. Конечно, поднялся визг барынь, крики, ахи и прочее, и вдруг раздается голос Петра Михайловича, внесший общее успокоение:
– Семен, посмотри, цела ли подкова, а что зубы у него целы – и смотреть не надо.
О крепости зубов Андрея Михайловича дедушка Петр Михайлович имел основание судить по собственным рассказам Андрея Михайловича о времени его студенчества на факультете восточных языков в Казани.
В тридцатых и начале сороковых годов факультет восточных языков был при Казанском университете, поэтому при Казанской гимназии в то время была учреждена своеобразная «бифуркация»: начиная с четвертого класса, желающие идти по окончании гимназии на факультет восточных языков освобождались от изучения математики и физики, а изучали, смотря по желанию, или арабско-персидскую, или китайско-маньчжурскую грамоту и словесность. Так вот Рафаил Михайлович записался на арабско-персидскую, а Андрей – на китайско-маньчжурскую специальность.
Рафаил был усидчив и аккуратен, каллиграфически писал любым шрифтом, хорошо чертил и рисовал и хотя после гимназии в университет не пошел, но через много лет, будучи мировым посредником, он в татарских селах частенько удивлял мулл тем, что сам читал арабский коран, приводя татар к присяге.
Андрей по окончании гимназии был несколько лет в университете по китайско-маньчжурскому отделению, но на вопрос: «Андрей Михайлович, расскажите что-нибудь, как вы в университете в Казани учились», обыкновенно начинал рассказ так:
– Был я в университете третий год; справлял купец Толстобрюхое свадьбу, а у нас, студентов, было заведено приходить на купеческие свадьбы скандалить, а он не только своих, но и синебрюховских молодцов про запас призвал. Вот я вам доложу, драка-то была, конечно, и нам попало здорово, ну да зато позабавились. Полиция нас потом разгонять стала, мой товарищ Селезнев думал, что квартальный, – как хватит его плашмя по спине осиновой лопатой, так лопата на три части разлетелась, а он оказался не квартальный надзиратель, а сам частный пристав; уж еле-еле потом в складчину роскошным обедом откупились.
Других воспоминаний у Андрея Михайловича о времени учения в Казани не было, и, по-видимому, в китайско-маньчжурской словесности он не был силен.
Петр Михайлович был страстный ружейный охотник, поэтому осенью в теплостанских рощах и в ближайших перелесках устраивались облавы, на которых бывал и я, конечно, без ружья и при условии стоять с отцом и не шевелиться. Облавы двух родов: одни, когда дозволялось стрелять всякую дичь, т. е. и зайцев, и тетеревов, и вальдшнепов, а другие, когда дозволялось стрелять только по волку и по лисице.
На этих последних облавах особенно был удачлив Петр Михайлович: ни у кого ничего, а он, смотришь, либо лисицу, либо волка взял, а раз при мне пару молодых волков дуплетом убил. При этом был с ним такой случай. Стрелок он был горячий, не всегда осторожный. После загона собрались все, Павел Дмитриевич Алакаев и говорит:
– Петр Михайлович, вы мне ногу прострелили, вот смотрите, – и показывает свой сапог, пробитый картечиной.
– Так что же было делать, куда ни посмотришь – все твои ноги, ведь ты ими весь лес загородил; сапог я тебе действительно прострелил, сапоги я сооружу тебе новые, если только в Курмыше кожи хватит, а насчет ноги ты врешь, шкура у тебя толще слоновой, ее картечина не пробьет. Снимай сапог, покажи.
Действительно, при общем хохоте оказалось, что бывшая на излете картечина пробила сапог, а на ноге Павла Дмитриевича оставила лишь маленький синячок.
Невольно вспоминается образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около 50 лет до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене шкапчику, в который для него ставился еще с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими черными сухариками; выпивал рюмочку, крякал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином еще три или четыре больших рюмки из общего графина и шел спать.
Порция, которая ему ставилась в шкапчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея от роду под 80 лет.
Замечательно, что, живя безвыездно в деревне, он выписывал два или три толстых журнала, две газеты, имел хорошую библиотеку русских писателей, для которой он своими руками сделал превосходный, цельного дуба, громадный шкап. Русских классиков он всех перечитал и хорошо помнил; хорошо знал критиков – Белинского, Писарева, Добролюбова; иногда заводил с молодежью беседы на литературные темы и умел ошарашить парадоксом, если не всегда приличным, то всегда остроумным, и это несмотря на ежемесячные три ведра водки в течение 50 лет.
Про знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» говорил: «Наврал попович, это вовсе не Ваня и не Мария Александровна описаны», но в подробности не вдавался.