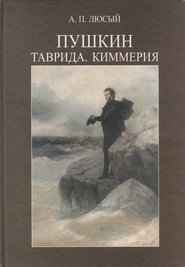По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кино. Потоки. «Здесь будут странствовать глаза…»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но ах! – какая ж пустота,
Где я в безвестности исчезну
От ковов зависти лукавой,
От смертоносных всех наветов,
От своенравий наглой силы,
И все дремоты жизни слезной, —
Печаль, – заботу, – нужду, – жажду
В ничтожном мраке погружу? —
Картина мрачна, – но любезна? —
Почто же медлит меч Срацин?» —
В следующей, VI-й песне масштабно представлено действо грозы над Крымскими горами, грозный глас которой – ничто сравнительно со «всеми звуками меди в дольнем мире». Продолжаются рассуждения о масштабах божественных жертв в ходе наказания отдельных преступников мысли (подробно описана гибель Г. Рихмана во время экспериментов с электричеством и сожаления М.В. Ломоносова по этому поводу).
Ранее, на основе установленных исследователями многочисленных творческих заимствований строк «Тавриды» А. Пушкиным, нами было сделано предположение, что многократное бобровское «ужель»-сомнение, подготовило ужо-угрозу пушкинского «Медного всадника», с тем отличием, что восстание духа Петра I против самоуничтожения «бессмертной самобытности» и «небопарной сущности» носит не гибельный, а воспитательный характер.
Кинематографическое подтверждение данной гипотезы стало бы возможным при использовании метода «наплыва», которому уделяет большое внимание К. Метц в книге «Воображаемое означающее». «В случае наплыва, который представляет собой наложение двух объектов, приближающееся по своему характеру к последовательности, так как один образ в конечном счете замещает другой, первичное тождество двух мотивов в меньшей степени является сгущением и в большей смещением. Но эти две фигуры имеют общим и то, что они в определенной мере используют перенос психической нагрузки с одного объекта на другой (устремляясь в направлении, противоположном любой дневной логике) и что в них в общих чертах или в остаточной форме может прочитываться предрасположенность первичного процесса устранить саму двойственность объектов, иными словами, установить вне делений, навязанных реальностью, те замкнутые магические круги, которых требует наше не способное ни к какому ожиданию желание»[11 - Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб., 2010. С. 153.].
Любопытное отношение к возможному кинопрочтению С. Боброва в натурофилософском контексте имеют и рассуждения о метафорическом и/или метонимическом характере «наплыва», как бы визуализирующем образ рождения/умирания. Что преставляет собой наплыв – сгущение или смещение (т. е. метафору или метонимию)? «Отношение окажется метафорическим, если одно из двух изображений является экстры диегетическим, метонимическим – если оба они представляют собой аспекты одного и того же действия (или одного и того же пространства и т. д.), двойным – если один из таких аспектов подобен другому, сравнивается с ним, в каком-то смысле коннотируетпн и т. д.; невозможно все виды “наплыва одного кадра на другой” разом отнести к метафорическому принципу, не все они обладают значением сопоставимости. Это уже на ином уровне возвращает нас к центральной в пашем исследовании проблеме перекрещивающихся классификаций: ведь если в каждом конкретном случае совсем не обязательно задействуется один-единственный порождающий принцип, то мы тем меньше можем ожидать, что целые категории (такие, как “наложение”, с одной стороны, и “метафора” – с другой) будут в точности соответствовать друг другу, но скольку они были введены в различных практических области» (и более того – в исторически не связанных областях знания) Здесь важно не надеяться на их совпадение, а анализировать способы их пересечения»[12 - Метц К. Воображаемое означающее. С. 218.].
Перекрещивающиеся природные и исторические классификации С. Боброва достигают, по нашему замыслу, интерпретационной кульминации при наплыве Крыма и Петербурга, что обосновано нами в идее генетического происхождения крымского текста как южного полюса петербургского текста. К. Меец показывает, как наплыв позволяет более детально и продолжительно, чем сами кадры (или явный обрыв), наблюдать движение, которым в фильме отмечен переход от кадра к кадру, когда момент перехода подчеркнуто растянут, что само по себе имеет значение металингвистического комментария. «Более того, слегка замешкавшись в точке бифуркации текста, фильм обращает наше внимание на то, как он создает свою собственную ткань, как он все время что-то себе добавляет.
Но и процесс сгущения также присутствует; просто он происходит в другом месте, хотя по-прежнему «внутри» фигуры. Он заключается в (мгновенном, мимолетном) соприсутствии на экра не двух изображений в течение того короткого мгновения, когда они становятся неразличимы (см. понятие “собирательные персонажи” у Фрейда, о которых он упоминает в связи со сгущением). Это зарождение сгущения, у которого есть лишь то отличие, что оно представляет собой своего рода осадок, причем осадок, никогда в осадок не выпадавший. По-французски говорят о «рождающихся» фигурах, а наплыв, в аспекте сгущения, является умирающей фигурой, причем умирающей с самого начала (в чем и состоит его отличие от продолжительного и стойкого наложения): два образа должны встретиться, но они идут навстречу, повернувшись друг к другу спиной. Если сгущение начинает обрисовываться, то это происходит по мере его постепенного угасания. По мере того как образ 2 проясняется, “появляется”, образ угасает, “уходит”. Это похоже на то, как бильярдные шары, встретившись, тут же отталкивают друг друга. Но все-таки на одно мгновение они “соприкасаются”. Это сгущение, которое находится на грани исчезновения»[13 - Там же. С. 311–312.].
Является наплыв первичным или вторичным процессом, задается вопросом К. Метц, а также метафора ли это, или метонимия, или и то и другое одновременно? «В данном случае все зависит от отношения между исходным и конечным образами. В той мере, в какой они соединя ются в целях развертывания сюжета или на основании устойчивых отношений смежности, о которых известно как режиссеру, так н зрителю, развитие наплыва – метонимическое, если же это развитие основывается на сходстве или контрасте, то оно – метафорическое. Часто оно двойственно, и это не случайно: предметы могут находиться рядом и в то же время походить друг на друга, оба критерия не исключают друг друга, обозначаемые ими категории не являются дополнительными, они пересекаются (оставаясь при этом различными, как в теории множеств).
Надо добавить теперь, что наплыв, не являясь чисто метонимическим, демонстрирует замечательную метонимизирующую способность. Он стремится, если можно так сказать, постфактум создать как бы изначально существующую связь. (На самом деле, эту связь устанавливает смещение “позади” наплыва, но результат один и тот же.) Метонимия соединяет два объекта, которые находятся в отношениях референциальной смежности; и сила переходности, присущая наплыву, как и текстовая смежность, которой он реально оперирует (подчеркивая ее при помощи замедленного н постепенного характера съемки), до некоторой степени лишают зрителя свободы думать, что оба элемента, соединенных таким образом, могли бы не обладать смежностью в каком-нибудь референте. Вероятно, именно поэтому монтаж так часто смешивают с метонимией. Наплыв, как представляется, способен придавать метонимический вид чистейшим метафорам. Таким образом, наплыв дает нам своего рода увеличенное изображение того, что происходит внутри лингвистической метонимии: она выбирает одну смежность из множества других возможных и в равной степени “референциальных”, но сила метонимического акта предрасполагает нас считать эту смежность более выраженной, более заметной и более важной по сравнению с другими. Наплыв действует сходным образом. И даже в большем масштабе: поскольку он показывает свой путь (= отличие от лингвистической метонимии), а также потому, что возможные смежности в кино гораздо многочисленнее, так что выбор между ними носит еще более произвольный характер»[14 - Метц К. Воображаемое означающее. С. 314–315.].
Случайный медиум
Показанная литературная кинематографичность текста намного опередила технологические возможности и эстетические принципы реального кинематографа, который, если вспомнить дихотомию Д. Вертова / С. Эйзенштейна, отчасти напоминающую лингвистическую полемику между «шишковистами» и карамзинистами», пошел по пути «психологического» кино, а не «киноглаза». Лишь сейчас, с появление технологий 3D и полиэкрана, становится возможной экранизация Боброва. Аналогичным образом Андрей Белый, создавший в романах «Петербург» и «Москва» поэтику кино, по прежнему остается неподвластен кино, поскольку реальный кинематограф поначалу пошел другим путем. Примером же альтернативного движения можно назвать кинематограф Артавазда Пелешяна, принцип «дистанционного монтажа» которого соотносим с текстологической вненаходимостью М. Бахтина: «Дистанционный монтаж придает структуре фильма не форму привычной монтажной “цепи” и даже не форму совокупности различных “цепей”, но создает в итоге круговую или, точнее говоря, шарообразную вращающуюся конфигурацию… Опорные кадры или участки, являясь наиболее “заряженными очагами” дистанционного монтажа, не только взаимодействуют с другими элементами по прямой линии, но и выполняют как бы “ядерную функцию”, поддерживая векторными линиями двустороннюю связь с любой точкой, с любым участком фильма. Тем самым они вызывают между всеми соподчиненными звеньями двустороннюю “цепную реакцию”, с одной стороны – нисходящую, с другой – восходящую»[15 - Пелешян А. Дистанционный монтаж, или теория дистанции // http:// vkinodele.ru/public-blog/post/268-artavazd-peleshyan-distancionnyy-mont azh-ili-teoriya-distancii]. Как отмечает А. Артамонов, А. Пелешян подхватил исследования С. Эйзенштейна и Д. Вертова там, где они их оставили, и, руководствуясь принципами самой жизни, вывел на тот уровень целостности, о которой не мог помыслить революционный авангард[16 - Артамонов А. Внутренняя Вселенная // Сеанс. № 57–58: http://seance.ru/ (http://seance.ru/) blog/portrait/peleshyan_artamonov/См. далее: «В центре монтажных теорий 1920-х годов стоял дополнительный смысл, возникающий из соединения соседних кадров: Эйзенштейн называл это монтажным стыком, Вертов – интервалом. Пелешяна же интересует их «расстыковка», создающая не «третий смысл», а смысловое поле между ними. «Взяв два опорных кадра, несущих важную смысловую нагрузку, я стремлюсь их не сблизить, не столкнуть, а создать между ними дистанцию».]. Тот уровень целостности, который определяется сейчас как «текст культуры».
Если у истоков выездного туристического извода Крымского текста русской литературы как южного полюса Петербургского текста стоят Бобров и Пушкин, то проводником отъездного крымского кинотекста как субтекста одноименного сводного сверхтекста русской культуры стал Владимир Набоков, отталкивающийся всеми силами литературного таланта в ряде образцов своей прозы, от «Машеньки» до «Лолиты» и далее, не только от пушкинских «нереид», но и от фильма Евгения Бауэра «За счастьем» (1917). Это подробно и доказательно описал И.П. Смирнов в книге «Видеоряд. Историческая семантика кино» (СПб., 2009). Формировался же этот кинотекст как текст культуры на основе своего медиального движения от пушкинской Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Русской Ривьеры» посредине. Фильм «За счастьем» – как «Таврида» Семена Боброва в литературе, учреждающее явление крымского кинотекста.
Именно этот фильм оказался «сверхпродуктивным» для визуализации русской литературы и культуры в целом, задал саму парадигму нового любовного треугольника эпохи модерна – мужчина, женщина и малолетняя дочь последней. Собственно, и Семен Бобров в «Тавриде» продемонстрировал аналогичный треугольник, но в разорванном виде. В собственно «Тавриде» (1798), первом варианте его поэтической энциклопедии Крыма, в которой крымская тема явилась в литературу сразу же в своем высшем выражении, адресат его любовных поэтических посланий – Зарена, явно местного происхождения (Пушкин, как известно, изменил имя свей героини «Бахчисарайского фонтана» лишь на одну букву). Во втором, изданном через шесть лет варианте этого произведения «Херсонида», любимая носит имя – Сашена (оставаясь ожидать поэта где-то на севере и оттуда воспринимающая его призывы и предостережения в духе «восток – дело тонкое»). Такой получается претекст «утаенной» любви», или – Любовей? Именно претекст, созданный прежде всего из фигур речи, а не реальных прототипов.
Сюжет «психологического» фильма «За счастьем» незамысловат. Много лет Зоя Верейская и адвокат Дмитрий Гжатский любят друг друга. Однако Зоя отказывается от счастья быть вместе, чтобы не травмировать свою дочь Ли, которая продолжает обожать покойного отца. На крымском курорте, куда Зоя отвозит дочь, чтобы излечить от глазного заболевания, неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в Гжатского, отвергая любовь портретирующего ее художника Энрико (которого играл будущий режиссер Лев Кулешов). По возвращению, желая счастья своей дочери, Зоя умоляет Дмитрия отозваться на любовь Ли, но тот не в силах пойти на такую «жертву». Не пережив нервного потрясения, Ли слепнет окончательно.
Возводя историю Лариной молодости к фильму «За счастьем», поэт по своему отдавал должное кинопроизведению с его стремлением озеркалить мелодраму, возвысившись над жанром в попытках вовлечь и его в подлежащую изображению сферу. Мелодраматизм в фильме Бауэра – результат того, что слабая глазами Ли не отвечает условиям медиально-символического порядка, в котором воцарился кинематограф. Она вообще слепнет к концу киноповествования. Только внутри него она и обладает зрением, но претерпевает наказание за инцестуозность той же увечностью, которой карает себя Эдип у Софокла. В то же время одним из литературных ориентиров режиссера вполне могла быть и вторая поэтическая эпопея литературного Колумба Крыма Семена Боброва «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец» (если учесть, что книги этого якобы «забытого», по мнению некоторых филологов, поэта постоянно находились на столе такого кинолюба, как В. Маяковский[17 - Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. М. 2003.]).
Свет ртутный, свет синий, свет белый: к последнему наплыву
Вернемся к идее «катастрофических» наплывов. Двум городам в современном мире особо присуща мифология самоотрицания – Петербургу и Нью-Йорку. Если любой текст города имеет ядерную структуру, то Петербург и Нью-Йорк как тексты – скорее термоядерную. В обоих случаях катастрофизм оказался усилен кинематографизмом, причем в случае с Петербургским (и Московским) текстами – кинематографиз-мом слова, а не реально осуществившихся экранизаций.
«Кино, – пишет Беньямин, – это форма искусства, которая соответствует все время возрастающей угрозе жизни, угрозе, с которой все время должны считаться современные люди… Похоже, что здесь в забавно демифологизированной форме, низведенной до уровня повседневности (уличное движение с его опасностями) нам предложено то же, что является предметом теоретизирования Хайдеггера в работе “Исток художественного творения”, когда он пишет о понятии Stoss (буквально – удар. – А.Л.). Хотя для Хайдеггера эффект shock>s, вызываемый искусством, связан со смертью совсем в ином смысле, возможно, он оказывается близок к тому, что имеет в виду Беньямин; речь идет не столько о каком-то риске быть сбитым на улице автобусом, сколько о смерти как о конститутивной возможности бытия. Хайдеггер считает: то, что в нашем опыте искусства вызывает Stoss, – есть сам факт, что произведение существует как наше не здесь-бытие»[18 - Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М., С. 58.].
Своим нереализованным кинематографическим потенциалом выделяется проза Андрея Белого.
Роман знаменует, с одной стороны, предел художественной выразительности, с другой, последовательную в своей изломанности, принятую вовнутрь новую идеологическую установку, накладывающуюся на былые «столичные» идеологические противостояния. Описание московской зимы – как будто бы с дрожью ресниц трансформируемого глаза и языка: «Рванул холодильник, чтоб все ожелезить; бамбанили крышами; заермолаила вьюга в трубе; забросало в ресницы визжащими стаями мошек; за окном – все самоцветно: свет ртутный, свет синий, свет белый!»[19 - Белый А. Москва. М., 1989. С. 88.].
Все былые составляющие «московского мифа» вывернуты в «Москве» Белого наизнанку – не без помощи моделей Петербургского текста (герои «Москвы» – перевоплощения героев «Петербурга»). Вместо «святой» Москвы – Москва «проклятая», «повисшая над Тартаром». Вместо «домашней» Москвы – Москва исключительно «мещанская», «пошлая», «грязная»: «Здесь человек мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал. Слагаясь из робких фигурок, выныривающих из ворот, из подъездов пропечённой, непроветренной жизни». Вместо «естественной, органически выросшей Москвы» – Москва «дряхлая», «болезненная», подобная «опухоли»: «Москва… Огромная старуха, вяжущая тысячелетний и роковой свой чулок»; «воплощённая опухоль, переплетённая сплошной переулочной сетью». «Всё здесь искажалось, смещалось, перекорячивалось».
Подготавливая большой пожар / взрыв Москвы, А. Белый мистифицирует читателя пародийной игрой с московской топонимикой, что как бы снимает реальное топографическое видение города в пользу гротеска. «Москва! Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоглавыми иль бесколонными витоглавыми церковками очень разных эпох; под пылищи небесные встали – зеленые, красные, плоские, низкие иль высокие крыши оштукатуренных, иль глазурью одетых, иль просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, севших в деревья, иль слитых, – колончатых или бесколонных, балконных, с аканфами, с кариатидами, грузно поддерживающими карнизы, балконы, – фронтонные треугольники домов, домин, домиков, складывающихся – Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и седьмым Гнилозубовскими переулками»[20 - Там же. С. 24–25.]. В продолжение вереница разноцветных домов, вывесок («крендель», «золотой сапог») и какофонических оманотопей «бамбанящей» и «скрежещущей» улицы, что, как и каталогизация архитектонического беспорядка
Где я в безвестности исчезну
От ковов зависти лукавой,
От смертоносных всех наветов,
От своенравий наглой силы,
И все дремоты жизни слезной, —
Печаль, – заботу, – нужду, – жажду
В ничтожном мраке погружу? —
Картина мрачна, – но любезна? —
Почто же медлит меч Срацин?» —
В следующей, VI-й песне масштабно представлено действо грозы над Крымскими горами, грозный глас которой – ничто сравнительно со «всеми звуками меди в дольнем мире». Продолжаются рассуждения о масштабах божественных жертв в ходе наказания отдельных преступников мысли (подробно описана гибель Г. Рихмана во время экспериментов с электричеством и сожаления М.В. Ломоносова по этому поводу).
Ранее, на основе установленных исследователями многочисленных творческих заимствований строк «Тавриды» А. Пушкиным, нами было сделано предположение, что многократное бобровское «ужель»-сомнение, подготовило ужо-угрозу пушкинского «Медного всадника», с тем отличием, что восстание духа Петра I против самоуничтожения «бессмертной самобытности» и «небопарной сущности» носит не гибельный, а воспитательный характер.
Кинематографическое подтверждение данной гипотезы стало бы возможным при использовании метода «наплыва», которому уделяет большое внимание К. Метц в книге «Воображаемое означающее». «В случае наплыва, который представляет собой наложение двух объектов, приближающееся по своему характеру к последовательности, так как один образ в конечном счете замещает другой, первичное тождество двух мотивов в меньшей степени является сгущением и в большей смещением. Но эти две фигуры имеют общим и то, что они в определенной мере используют перенос психической нагрузки с одного объекта на другой (устремляясь в направлении, противоположном любой дневной логике) и что в них в общих чертах или в остаточной форме может прочитываться предрасположенность первичного процесса устранить саму двойственность объектов, иными словами, установить вне делений, навязанных реальностью, те замкнутые магические круги, которых требует наше не способное ни к какому ожиданию желание»[11 - Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб., 2010. С. 153.].
Любопытное отношение к возможному кинопрочтению С. Боброва в натурофилософском контексте имеют и рассуждения о метафорическом и/или метонимическом характере «наплыва», как бы визуализирующем образ рождения/умирания. Что преставляет собой наплыв – сгущение или смещение (т. е. метафору или метонимию)? «Отношение окажется метафорическим, если одно из двух изображений является экстры диегетическим, метонимическим – если оба они представляют собой аспекты одного и того же действия (или одного и того же пространства и т. д.), двойным – если один из таких аспектов подобен другому, сравнивается с ним, в каком-то смысле коннотируетпн и т. д.; невозможно все виды “наплыва одного кадра на другой” разом отнести к метафорическому принципу, не все они обладают значением сопоставимости. Это уже на ином уровне возвращает нас к центральной в пашем исследовании проблеме перекрещивающихся классификаций: ведь если в каждом конкретном случае совсем не обязательно задействуется один-единственный порождающий принцип, то мы тем меньше можем ожидать, что целые категории (такие, как “наложение”, с одной стороны, и “метафора” – с другой) будут в точности соответствовать друг другу, но скольку они были введены в различных практических области» (и более того – в исторически не связанных областях знания) Здесь важно не надеяться на их совпадение, а анализировать способы их пересечения»[12 - Метц К. Воображаемое означающее. С. 218.].
Перекрещивающиеся природные и исторические классификации С. Боброва достигают, по нашему замыслу, интерпретационной кульминации при наплыве Крыма и Петербурга, что обосновано нами в идее генетического происхождения крымского текста как южного полюса петербургского текста. К. Меец показывает, как наплыв позволяет более детально и продолжительно, чем сами кадры (или явный обрыв), наблюдать движение, которым в фильме отмечен переход от кадра к кадру, когда момент перехода подчеркнуто растянут, что само по себе имеет значение металингвистического комментария. «Более того, слегка замешкавшись в точке бифуркации текста, фильм обращает наше внимание на то, как он создает свою собственную ткань, как он все время что-то себе добавляет.
Но и процесс сгущения также присутствует; просто он происходит в другом месте, хотя по-прежнему «внутри» фигуры. Он заключается в (мгновенном, мимолетном) соприсутствии на экра не двух изображений в течение того короткого мгновения, когда они становятся неразличимы (см. понятие “собирательные персонажи” у Фрейда, о которых он упоминает в связи со сгущением). Это зарождение сгущения, у которого есть лишь то отличие, что оно представляет собой своего рода осадок, причем осадок, никогда в осадок не выпадавший. По-французски говорят о «рождающихся» фигурах, а наплыв, в аспекте сгущения, является умирающей фигурой, причем умирающей с самого начала (в чем и состоит его отличие от продолжительного и стойкого наложения): два образа должны встретиться, но они идут навстречу, повернувшись друг к другу спиной. Если сгущение начинает обрисовываться, то это происходит по мере его постепенного угасания. По мере того как образ 2 проясняется, “появляется”, образ угасает, “уходит”. Это похоже на то, как бильярдные шары, встретившись, тут же отталкивают друг друга. Но все-таки на одно мгновение они “соприкасаются”. Это сгущение, которое находится на грани исчезновения»[13 - Там же. С. 311–312.].
Является наплыв первичным или вторичным процессом, задается вопросом К. Метц, а также метафора ли это, или метонимия, или и то и другое одновременно? «В данном случае все зависит от отношения между исходным и конечным образами. В той мере, в какой они соединя ются в целях развертывания сюжета или на основании устойчивых отношений смежности, о которых известно как режиссеру, так н зрителю, развитие наплыва – метонимическое, если же это развитие основывается на сходстве или контрасте, то оно – метафорическое. Часто оно двойственно, и это не случайно: предметы могут находиться рядом и в то же время походить друг на друга, оба критерия не исключают друг друга, обозначаемые ими категории не являются дополнительными, они пересекаются (оставаясь при этом различными, как в теории множеств).
Надо добавить теперь, что наплыв, не являясь чисто метонимическим, демонстрирует замечательную метонимизирующую способность. Он стремится, если можно так сказать, постфактум создать как бы изначально существующую связь. (На самом деле, эту связь устанавливает смещение “позади” наплыва, но результат один и тот же.) Метонимия соединяет два объекта, которые находятся в отношениях референциальной смежности; и сила переходности, присущая наплыву, как и текстовая смежность, которой он реально оперирует (подчеркивая ее при помощи замедленного н постепенного характера съемки), до некоторой степени лишают зрителя свободы думать, что оба элемента, соединенных таким образом, могли бы не обладать смежностью в каком-нибудь референте. Вероятно, именно поэтому монтаж так часто смешивают с метонимией. Наплыв, как представляется, способен придавать метонимический вид чистейшим метафорам. Таким образом, наплыв дает нам своего рода увеличенное изображение того, что происходит внутри лингвистической метонимии: она выбирает одну смежность из множества других возможных и в равной степени “референциальных”, но сила метонимического акта предрасполагает нас считать эту смежность более выраженной, более заметной и более важной по сравнению с другими. Наплыв действует сходным образом. И даже в большем масштабе: поскольку он показывает свой путь (= отличие от лингвистической метонимии), а также потому, что возможные смежности в кино гораздо многочисленнее, так что выбор между ними носит еще более произвольный характер»[14 - Метц К. Воображаемое означающее. С. 314–315.].
Случайный медиум
Показанная литературная кинематографичность текста намного опередила технологические возможности и эстетические принципы реального кинематографа, который, если вспомнить дихотомию Д. Вертова / С. Эйзенштейна, отчасти напоминающую лингвистическую полемику между «шишковистами» и карамзинистами», пошел по пути «психологического» кино, а не «киноглаза». Лишь сейчас, с появление технологий 3D и полиэкрана, становится возможной экранизация Боброва. Аналогичным образом Андрей Белый, создавший в романах «Петербург» и «Москва» поэтику кино, по прежнему остается неподвластен кино, поскольку реальный кинематограф поначалу пошел другим путем. Примером же альтернативного движения можно назвать кинематограф Артавазда Пелешяна, принцип «дистанционного монтажа» которого соотносим с текстологической вненаходимостью М. Бахтина: «Дистанционный монтаж придает структуре фильма не форму привычной монтажной “цепи” и даже не форму совокупности различных “цепей”, но создает в итоге круговую или, точнее говоря, шарообразную вращающуюся конфигурацию… Опорные кадры или участки, являясь наиболее “заряженными очагами” дистанционного монтажа, не только взаимодействуют с другими элементами по прямой линии, но и выполняют как бы “ядерную функцию”, поддерживая векторными линиями двустороннюю связь с любой точкой, с любым участком фильма. Тем самым они вызывают между всеми соподчиненными звеньями двустороннюю “цепную реакцию”, с одной стороны – нисходящую, с другой – восходящую»[15 - Пелешян А. Дистанционный монтаж, или теория дистанции // http:// vkinodele.ru/public-blog/post/268-artavazd-peleshyan-distancionnyy-mont azh-ili-teoriya-distancii]. Как отмечает А. Артамонов, А. Пелешян подхватил исследования С. Эйзенштейна и Д. Вертова там, где они их оставили, и, руководствуясь принципами самой жизни, вывел на тот уровень целостности, о которой не мог помыслить революционный авангард[16 - Артамонов А. Внутренняя Вселенная // Сеанс. № 57–58: http://seance.ru/ (http://seance.ru/) blog/portrait/peleshyan_artamonov/См. далее: «В центре монтажных теорий 1920-х годов стоял дополнительный смысл, возникающий из соединения соседних кадров: Эйзенштейн называл это монтажным стыком, Вертов – интервалом. Пелешяна же интересует их «расстыковка», создающая не «третий смысл», а смысловое поле между ними. «Взяв два опорных кадра, несущих важную смысловую нагрузку, я стремлюсь их не сблизить, не столкнуть, а создать между ними дистанцию».]. Тот уровень целостности, который определяется сейчас как «текст культуры».
Если у истоков выездного туристического извода Крымского текста русской литературы как южного полюса Петербургского текста стоят Бобров и Пушкин, то проводником отъездного крымского кинотекста как субтекста одноименного сводного сверхтекста русской культуры стал Владимир Набоков, отталкивающийся всеми силами литературного таланта в ряде образцов своей прозы, от «Машеньки» до «Лолиты» и далее, не только от пушкинских «нереид», но и от фильма Евгения Бауэра «За счастьем» (1917). Это подробно и доказательно описал И.П. Смирнов в книге «Видеоряд. Историческая семантика кино» (СПб., 2009). Формировался же этот кинотекст как текст культуры на основе своего медиального движения от пушкинской Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Русской Ривьеры» посредине. Фильм «За счастьем» – как «Таврида» Семена Боброва в литературе, учреждающее явление крымского кинотекста.
Именно этот фильм оказался «сверхпродуктивным» для визуализации русской литературы и культуры в целом, задал саму парадигму нового любовного треугольника эпохи модерна – мужчина, женщина и малолетняя дочь последней. Собственно, и Семен Бобров в «Тавриде» продемонстрировал аналогичный треугольник, но в разорванном виде. В собственно «Тавриде» (1798), первом варианте его поэтической энциклопедии Крыма, в которой крымская тема явилась в литературу сразу же в своем высшем выражении, адресат его любовных поэтических посланий – Зарена, явно местного происхождения (Пушкин, как известно, изменил имя свей героини «Бахчисарайского фонтана» лишь на одну букву). Во втором, изданном через шесть лет варианте этого произведения «Херсонида», любимая носит имя – Сашена (оставаясь ожидать поэта где-то на севере и оттуда воспринимающая его призывы и предостережения в духе «восток – дело тонкое»). Такой получается претекст «утаенной» любви», или – Любовей? Именно претекст, созданный прежде всего из фигур речи, а не реальных прототипов.
Сюжет «психологического» фильма «За счастьем» незамысловат. Много лет Зоя Верейская и адвокат Дмитрий Гжатский любят друг друга. Однако Зоя отказывается от счастья быть вместе, чтобы не травмировать свою дочь Ли, которая продолжает обожать покойного отца. На крымском курорте, куда Зоя отвозит дочь, чтобы излечить от глазного заболевания, неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в Гжатского, отвергая любовь портретирующего ее художника Энрико (которого играл будущий режиссер Лев Кулешов). По возвращению, желая счастья своей дочери, Зоя умоляет Дмитрия отозваться на любовь Ли, но тот не в силах пойти на такую «жертву». Не пережив нервного потрясения, Ли слепнет окончательно.
Возводя историю Лариной молодости к фильму «За счастьем», поэт по своему отдавал должное кинопроизведению с его стремлением озеркалить мелодраму, возвысившись над жанром в попытках вовлечь и его в подлежащую изображению сферу. Мелодраматизм в фильме Бауэра – результат того, что слабая глазами Ли не отвечает условиям медиально-символического порядка, в котором воцарился кинематограф. Она вообще слепнет к концу киноповествования. Только внутри него она и обладает зрением, но претерпевает наказание за инцестуозность той же увечностью, которой карает себя Эдип у Софокла. В то же время одним из литературных ориентиров режиссера вполне могла быть и вторая поэтическая эпопея литературного Колумба Крыма Семена Боброва «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец» (если учесть, что книги этого якобы «забытого», по мнению некоторых филологов, поэта постоянно находились на столе такого кинолюба, как В. Маяковский[17 - Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. М. 2003.]).
Свет ртутный, свет синий, свет белый: к последнему наплыву
Вернемся к идее «катастрофических» наплывов. Двум городам в современном мире особо присуща мифология самоотрицания – Петербургу и Нью-Йорку. Если любой текст города имеет ядерную структуру, то Петербург и Нью-Йорк как тексты – скорее термоядерную. В обоих случаях катастрофизм оказался усилен кинематографизмом, причем в случае с Петербургским (и Московским) текстами – кинематографиз-мом слова, а не реально осуществившихся экранизаций.
«Кино, – пишет Беньямин, – это форма искусства, которая соответствует все время возрастающей угрозе жизни, угрозе, с которой все время должны считаться современные люди… Похоже, что здесь в забавно демифологизированной форме, низведенной до уровня повседневности (уличное движение с его опасностями) нам предложено то же, что является предметом теоретизирования Хайдеггера в работе “Исток художественного творения”, когда он пишет о понятии Stoss (буквально – удар. – А.Л.). Хотя для Хайдеггера эффект shock>s, вызываемый искусством, связан со смертью совсем в ином смысле, возможно, он оказывается близок к тому, что имеет в виду Беньямин; речь идет не столько о каком-то риске быть сбитым на улице автобусом, сколько о смерти как о конститутивной возможности бытия. Хайдеггер считает: то, что в нашем опыте искусства вызывает Stoss, – есть сам факт, что произведение существует как наше не здесь-бытие»[18 - Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М., С. 58.].
Своим нереализованным кинематографическим потенциалом выделяется проза Андрея Белого.
Роман знаменует, с одной стороны, предел художественной выразительности, с другой, последовательную в своей изломанности, принятую вовнутрь новую идеологическую установку, накладывающуюся на былые «столичные» идеологические противостояния. Описание московской зимы – как будто бы с дрожью ресниц трансформируемого глаза и языка: «Рванул холодильник, чтоб все ожелезить; бамбанили крышами; заермолаила вьюга в трубе; забросало в ресницы визжащими стаями мошек; за окном – все самоцветно: свет ртутный, свет синий, свет белый!»[19 - Белый А. Москва. М., 1989. С. 88.].
Все былые составляющие «московского мифа» вывернуты в «Москве» Белого наизнанку – не без помощи моделей Петербургского текста (герои «Москвы» – перевоплощения героев «Петербурга»). Вместо «святой» Москвы – Москва «проклятая», «повисшая над Тартаром». Вместо «домашней» Москвы – Москва исключительно «мещанская», «пошлая», «грязная»: «Здесь человек мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал. Слагаясь из робких фигурок, выныривающих из ворот, из подъездов пропечённой, непроветренной жизни». Вместо «естественной, органически выросшей Москвы» – Москва «дряхлая», «болезненная», подобная «опухоли»: «Москва… Огромная старуха, вяжущая тысячелетний и роковой свой чулок»; «воплощённая опухоль, переплетённая сплошной переулочной сетью». «Всё здесь искажалось, смещалось, перекорячивалось».
Подготавливая большой пожар / взрыв Москвы, А. Белый мистифицирует читателя пародийной игрой с московской топонимикой, что как бы снимает реальное топографическое видение города в пользу гротеска. «Москва! Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоглавыми иль бесколонными витоглавыми церковками очень разных эпох; под пылищи небесные встали – зеленые, красные, плоские, низкие иль высокие крыши оштукатуренных, иль глазурью одетых, иль просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домов, севших в деревья, иль слитых, – колончатых или бесколонных, балконных, с аканфами, с кариатидами, грузно поддерживающими карнизы, балконы, – фронтонные треугольники домов, домин, домиков, складывающихся – Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и седьмым Гнилозубовскими переулками»[20 - Там же. С. 24–25.]. В продолжение вереница разноцветных домов, вывесок («крендель», «золотой сапог») и какофонических оманотопей «бамбанящей» и «скрежещущей» улицы, что, как и каталогизация архитектонического беспорядка
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: