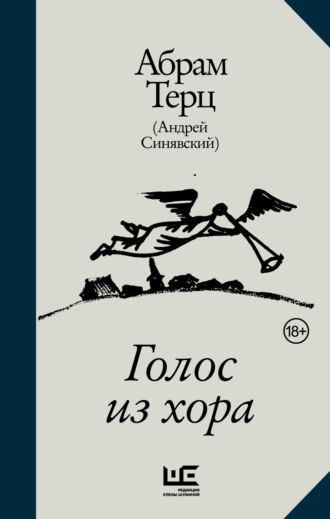
Голос из хора
Кораблекрушение у Дефо играет роль потопа (то же – сотворение мира): голый человек остается на голой земле. И что же? Слегка поплакав, узник Робинзон Крузо начал обрастать капиталом. Первобытная пустыня превратилась в доходную ферму, Библия – в настольное руководство на пользу будущим Фордам, которые ведь тоже начинали не с небоскреба, а с какого-нибудь завалявшегося под подкладкой зерна.
Если бы вместо приручения Пятницы, уводящего немного в сторону модной тогда колониальной политики, Робинзон повстречал покладистую людоедку, они бы основали на острове Англию, и возвращаться домой не имело бы смысла. Однако и наличные данные говорят, что наш Адам ни на милю не покидал цивилизованное отечество (один человек здесь общество в его жизнестроительной функции), что каждый лавочник, клерк, молочник, рудокоп и фабрикант вправе считать себя Робинзоном. То же чувство доступно любому из нас, запертому на необитаемом острове своей работы, семьи, голода, болезни, богатства, – словом, не имеющему лучшего выхода, чем спасительный эгоизм, чем инстинкт самосохранения, заставляющий сражаться за развитие нашей личности в пределах камеры и мироздания.
Героя Дефо предохраняет от пошлости, а роман его от скуки – альтернатива жизни и смерти, производительности и одичания, между которыми колеблется судьба Робинзона. С другого конца, нежели Свифт, Дефо передвинул шкалу интересного в среду обыденных предметов и действий, занимательных лишь в результате избранной автором точки зрения – необычной технической трудности их исполнения, изготовления. Он показал, что разводить огород, шить одежду, строить стол – в высшей степени удивительное и ответственное занятие, исполненное препятствий, ловушек и хитроумных преодолений, напрягающих сухопарое тело сюжета. Когда на хлебное зернышко, как на карту, поставлена жизнь, произрастание несчастного злака достигнет остроты детектива…
Книги нас манят к свободе, зовут в путь. Но как нам постараться выжить, никуда не уплывая, не сходя с места, в клетке, – этому учит «Робинзон Крузо», самый полезный и жизнерадостный, самый добрый роман на свете.
– Собачье мясо полезно лагерному человеку.
У кого табачок – у того и праздничек.
(Пословица)
– На воле человек тоже слабнет.
– У меня только арматура осталась. И шкура.
– Я более-менее одет.
– С конфиксацией имущества.
– Я тоже, говорю, с животного мира, от насекомых произошел. Но я знаю – кто рыжий!
– Они еще пожалеют, что меня не убили.
– У каждого есть что-то возлюбленное. А больше всего я любил холодец с хреном!
– Смотрю на дверь и не верю: за дверью – свобода.
– Спрашиваю за Самару: что там нового? какие камеры знаешь? Сам-то я в Самаре только в тюрьме бывал.
– Сегодня я видел во сне то место, в котором я родился.
«Чтобы мои письма не повредили твоей жизни».
(Из письма брату)
– Письма писал – как заявление на валенки.
Прибаутка – при погрузке какой-то тяжелой клади:
– Стоит! Как у молодого.
– А вы доживите сперва до 75-ти, а после говорите!
В лагере человек консервируется. Попавший сюда малолеткой до старости сохраняет в облике и повадках что-то подростковое. Я подивился, приехав, моложавости лиц у многих долгосрочников. Говорят, забот меньше. Либо здесь влияет половое воздержание. Сомнительно. Скорее действует общий психо-физический климат – изоляция от общедоступного, всечеловеческого течения жизни. Как к Марсу не применимы земные признаки времени. Совсем иная система координат. В какой-то мере это присуще и лагерю. Мы действительно «не стареем», а к худшему это или к лучшему – трудно сказать. Наверное, так хочет сама природа в порядке компенсации. Ей виднее.
– Тринадцать лет, как в сказке, пролетело…
(Проходная фраза, которую я услышал впервые, проснувшись утром на верхней койке, в лагере, и подумал – как правильно, как хорошо: как в сказке!)
– Если вам кто-нибудь скажет, что не смог выдержать, потому что это было свыше его сил, – не верьте. Человеку дается ровно столько, сколько он может снести.
– Всё – в силе! – сказал он мне по секрету.
– Всё – в силе страсти! – добавил я и задохнулся…
…Не является ли скрипка имитацией сольного пения? И не была ли она в свое время незаконной попыткой извлечь из струнного создания звуки, нарушающие природу струны, и очеловечить музыку путем подделки и искажения естественных свойств инструмента (на струнах полагается тренькать, бренчать, на что всегда существовали арфа, гитара)?
Отправные пункты подобных рассуждений убоги. Какая-нибудь пластинка Бетховена, которую по воскресным дням мы слушаем – с тем же прилежанием, как на воле ходят в концерт. Не с тоски или снобизма, но вещи труднодоступные или малочисленные здесь набирают силу и вес и требуют к себе уважения. Не пойти «слушать музыку» – все равно что отказаться от завтрака, пренебречь приглашением выпить кофе. Дело не в насыщении плоти (и духа), а в требовательности предмета, из обыденных и ничтожных ставшего драгоценным, – закон Робинзона Крузо.
…Появилось странное чувство романтической, я бы сказал, увлекательности ложки масла, ломтика сыра. Они стекают в тебя и всасываются мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев доползти до желудка. Переваривание и всасывание в кровеносную систему начинаются где-то под языком, в пищеводе, и с одного небольшого куска пьянеешь и оживляешься беспредельно. Причиной тому чистота и изысканность продукта. Об этом удачно выразился один старик, сказавший вполне серьезно, что лица, занимающие высокий пост в государстве, питаются настолько тонкими специями, что в результате по нужде ходят не чаще одного раза в неделю. Я не стал его разочаровывать: у бедности то преимущество, что она знает цену богатства и умеет ее передать в удивительно точной форме.
– В Киеве харчи хорошие.
– В Москве харчи дешевые.
(Разговор)
Сидит со сроком 25 лет и из года в год читает журнал «Здоровье».
Громадное это дело – сапоги. Сколько нужно, чтобы на них заработать!
Искусство нагло, потому что внятно. То есть оно нагло для ясности. Оно говорит, предварительно воткнув нож в доску стола. Нате – вот я какое!
(Слушая Гайдна)
– Какой страшный! – сказал обо мне вольняшка, которому меня показали в рабочей зоне. На что последовал ответ какого-то подоспевшего зека: – Тебя бы (эпитет) так нарядить (эпитет) – вышло б еще страшнее!
Но меня самого этот «страшный вид» не шокирует. Скорее забавляет – похоже на маскарад. К тому же еще не известно, какой внешний облик более соответствует нашему назначению.
Иное дело – волосы. Их значение еще не оценено по достоинству. Не для украшения, а в их первичной функции – покрова и восприятия. «С волосами думать легче», – сказал один старик, и это открытие меня поразило. Действительно – легче. Возможно, волосы, наподобие антенны, помогают улавливать полезные токи из воздуха, так же как лес притягивает тучи, усиливает осадки. В то же время волосы могут служить защитой от каких-нибудь электроразрядов. У меня, например, после свежей стрижки обязательно трещит голова…
Точное слово в современной поэзии – остаточная магия: требуется имя вызнать и заклясть им кого-то, чтобы появился предмет. Точный эпитет, как искра, рождает вспышку мыслей; в его озарении появляется образ, вызванный из праха к трепетному бытию, состязающийся с природой яркостью, то есть способностью укореняться и жить в сознании так же длительно, как существуют истинные лица, события, а то и дольше…
У меня все время такое чувство к природе – к воздуху, листьям, дождю, – точно она все видит, понимает и хочет мне помочь, очень хочет, но только не может.
9 сентября 1966
Лагерная жизнь в психологическом отношении похожа на вагон дальнего следования. Роль поезда исполняет ход времени, которое одним своим движением создает иллюзию осмысленности и насыщенности пустого существования. Чем бы ты ни занимался – «срок все равно идет», и, значит, дни проходят недаром, целенаправленно и как бы работают на тебя и на будущее и уже за счет этого наполняются содержанием. И как в поезде – пассажиры не очень склонны заниматься полезным трудом, поскольку их пребывание оправдано уже неуклонным, хоть и медленным приближением к станции назначения. Они могут позволить себе жить в свое удовольствие, насколько это доступно, – играть в домино, слоняться, болтать, не угрызаясь растратой: отбывание срока во всё вносит дозу прекрасной полезности. Я тихо бешусь, слыша постоянные: «да куда вы торопитесь?», «у нас так много времени – сколько лет впереди!», «почему вы не хотите развлечься?». Жить на иждивении у будущего не хочется. Но дело не во мне, а в странности всей ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни осмысленностью ее изживания. Иногда кажется, что в таком состоянии, поджидая, когда кончится срок, люди могут быть счастливее, чем в условиях свободы, но только не вполне осознали эту возможность.
– Сидел один год за два.
– ?!
– А в воображении. Год просидит – считает: два года.
Себе в облегчение.
– Распутать заколдованный круг.
– В темноте, я заметил, пахнет сильнее.
Здесь хорошо, что человек здесь ощущает себя голой душой.
У Пушкина можно встретить самые порой неожиданные строки, имевшие для него значение пробы пера, оговорки, оказавшиеся затем сердцевиной какого-нибудь отдаленного литературного слоя. Среди прочих прошлой зимой в Лефортове я наткнулся на такие – из отрывков 1821 г. (говорит не сказано кто, скорее всего – ведьма):
– Молчи! ты глуп и молоденек:Уж не тебе меня ловить!Ведь мы играем не для денег,А только б вечность проводить!Они поразили меня явной интонацией Хлебникова и показались прямым эпиграфом к его поэме «Игра в аду». Удивительна здесь идея бесцельного препровождения вечности (как всегда у Пушкина, от подстановки одного только слова – в данном случае перевернутого оборота «проводить время» – играет вся строфа, большой кусок текста). Вечности – как неизбывной, длящейся и при всем том замкнутой пространственными рамками, пустующей среды. Вечности – где времени нет, вечности в тесных пределах, о которой много лет спустя скажет Свидригайлов как о «бане с пауками». «Предчувствовалась какая-то вечность на аршине пространства», – повторяет Достоевский по сходному поводу.
…Как люди, выходя на свободу, бледнеют для нас! – конечно, только для нас, не для себя – для себя они наполняются жизнью, для нас линяют, стираются. Не то чтобы они становились чужими, но уже нездешние, как бы усопшие, и если такая безделица в разделении пространства влияет, то что же говорить о других планетах и землях?..
Поэтому, наверное, нету зависти к уезжающим. Они слишком далеки и кажутся недействительными.
Пространство – засасывает. Имею в виду не какие-то специфические местные интересы и не привычку к определенному образу жизни, а нечто, не поддающееся нормальному объяснению, логике, – чувство растущей оторванности и отрешенности.
Не на этой ли геометрии основывались монастыри? Достаточно очертить человека кругом, и он уйдет в эту дыру-воронку.
Татуировка на плече:
«Будь здоров и счастлив,
сынок Вася!»
Из писем с воли:
«Да и вина, видно, твоя так велика, что ничего для тебя нет».
«А я женщина молодая и темпераментная».
(Жена – мужу)
«Мама с дядей Сашей капитально поругались».
«Дядя Костя бил ее, что ничего видеть не стала».
«Раз нашлась твоя точка нахождения».
«Он уже большой, почти 6-ть лет».
Иногда кажется – время остановилось и мы летим в снаряде или ковчеге. Неподвижность совпадает с чувством полета – нет, не птицы – земли. Это же чувство поддерживает ветер. Он обдувает остров и свистит в ушах, рассекая время. Очень устаешь жить на постоянном ветру.
Когда такой ветер, то как-то понимаешь – что мы брошены в мир. Об Аввакуме невозможно рассказывать: он сам о себе все рассказал, он ввалился, как медведь, в свою яму и всю ее занял.
Должно быть, слова в старину читались медленнее и произносились значительнее. По сравнению с позднейшей убористой печатью, на странице помещалось мало знаков. Маленькая, на наш взгляд, повестушка растягивалась на волюм, и это влияло на образное и смысловое прохождение текста: он казался громаднее…
Квадратик бумаги – как решетка, сквозь которую я выглядываю.
Большие буквы в детских книжках располагают к проникновенному чтению. Помню, как, перейдя на мелкопечатный шрифт, я грустил по большим буквам, которыми так глубоко читались первые книги. Это было какое-то чувство утраты, потери – переход на взрослый язык.
Прекрасная фраза – местного сочинения:
«Вдали, смутно окрашивая горизонт, стояло оранжевое дерево».
Абсолютно литературный пейзаж взят из-за проволоки и подан глазами лагеря.
Там же:
«Человек рождается в единственном экземпляре, и, когда погибает, его никто не может заменить».
Возможно, крупицы искусства, как соль, всыпаны в жизнь. Художнику предоставляется их обнаружить, выпарить и собрать в чистом виде. При особенно удивительных поворотах судьбы мы говорим: «как в романе». В этом сквозит признание явственного несходства между пресной обыденностью и тем, что по природе своей редко, удивительно, «красиво, как на картинке». От прошедших времен, если они того заслужили, остаются по преимуществу произведения искусства. Не потому ли так часто прошлое кажется нам красочнее настоящего? На самом деле, может быть, оно было ничуть не красочнее. Просто от него краска осталась – чистая, беспримесная соль искусства.
Искусство свойственно личности, нации, эпохе и всему человечеству подобно инстинкту самосохранения. Оно присуще и жизни вообще, существованию в целом. К искусству относятся раскраска цветка, хвост павлина, лучи заката – выделяющие породу и особь вопреки нивелирующим действиям смерти. Не здесь ли связанность искусства – с полом, с продолжением рода? И не есть ли оно в этом случае брачное оперение жизни, которая в расчете на будущее наряжается и прихорашивается?..
Искусство в древности сосредоточено по двум границам человеческой жизни: перед зачатием (свадьбы, весенние игры и пляски) и после смерти (поминки, предания, курганы и прочие способы сохранения). И там и тут преобладает идея преодоления смерти, и то и другое, глубоко прорастая в народный быт, стоит за бытом и над бытом – преджизненный праздник, посмертный памятник. В этом смысле вынесенности за обыденное течение жизни искусство всегда необычно и в силу того необязательно. Без него легко обойтись, оно дано нам вне программы, сверх прожиточного минимума, как некая роскошь, украшение, прихоть, сувенир, безделка. Но это тот избыток (остаток), которым долговечна жизнь. Уберите его – и целые сонмы бесследно сгинут, как обры.
Самое живучее из творений рук человеческих, искусство даже смерть, своего врага, превращает в союзника. Отвечая за продолжение рода, искусство тем и существует, что творит себя ввиду и под угрозой близкой разлуки. В стремлении запечатлеть окружающее художник обводит землю последним, расширенным взглядом. Словно перед скорой кончиной, он хочет навсегда запомнить увиденное, и поэтому изображение становится крепче и насыщенней подлинника. Искусство создается ради преодоления смерти, но в сосредоточенном ее ожидании, в длительные часы прощания.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: